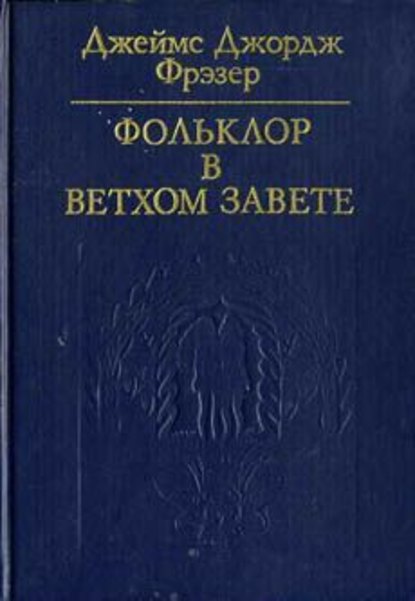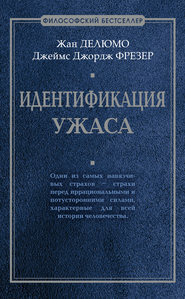По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фольклор в Ветхом завете
Автор
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В книге Бытие мы читаем, что Каину после убийства своего брата Авеля было запрещено общаться с людьми. Это обрекало его на жизнь изгнанника и скитальца. Боясь, что всякий встречный может отныне убить его, Каин стал жаловаться богу на свою горькую судьбу; и, сжалившись над ним, «сделал господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Что же это за знак или клеймо, которым бог отметил первого убийцу?
Весьма вероятно, что здесь мы имеем дело с каким-то пережитком древнего обычая, соблюдаемого убийцами; хотя мы не имеем возможности установить положительно, в чем именно состоял этот знак или клеймо, но сравнение с обычаями, соблюдаемыми человекоубийцами в других местах земного шара, поможет нам понять по крайней мере общее значение этого знака. Робертсон-Смит [8 - Робертсон-Смит Уильям (1846 – 1894) – английский ориенталист, занимавшийся вопросами религии семитов, ближайший друг и учитель Фрэзера. – Прим. пер.] высказал предположение, что знак этот не что иное, как племенной отличительный признак или примета, которую каждый член племени имел на своем теле; эта примета служила ему средством защиты, свидетельствуя о принадлежности его к той или иной общине, могущей в случае надобности отомстить за его убийство.
Достоверно известно, что подобные отличительные знаки практикуются среди народов, сохранивших племенную организацию. Например, у бедуинов одним из главных племенных признаков служит особая прическа. Во многих местах земного шара, особенно в Африке, знаком племени является рисунок на теле человека, сделанный путем татуировки. Вполне вероятно, что подобные знаки действительно служат средством защиты для человека того или иного племени, как думает Робертсон-Смит, хотя, с другой стороны, следует иметь в виду, что они могут оказаться и опасными для человека, живущего во враждебной стране, поскольку облегчают возможность распознать в нем врага. Но если мы даже и согласимся с Робертсоном-Смитом в вопросе о предохранительном значении племенного знака, едва ли подобное объяснение приложимо к данному случаю, т. е. к «Каиновой печати». Объяснение это имеет слишком общий характер, ибо относится к каждому человеку того или иного племени, нуждающемуся в защите, а не к одному лишь убийце. Весь смысл библейского рассказа заставляет нас думать, что знак, о котором идет речь, не был присвоен каждому члену общины, а составлял исключительную особенность убийцы. А потому мы вынуждены искать объяснения в другом направлении.
Из самого рассказа мы усматриваем, что Каина подстерегала не только опасность быть убитым любым встречным. Бог говорит Каину: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли; и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей; когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Очевидно, что здесь кровь убитого брата рассматривается как нечто представляющее реальную опасность для убийцы; она оскверняет землю и не дает ей родить. Получается, что убийца отравил источник жизни и тем самым создал опасность лишить питания и себя, и, возможно, других. Отсюда понятно, что убийца должен быть изгнан из своей страны, для которой его присутствие составляет постоянную угрозу. Убийца – человек зачумленный, окруженный ядовитой атмосферой, зараженный дыханием смерти; одно лишь прикосновение его губит землю. Такой взгляд на убийцу дает ключ к пониманию известного закона древней Аттики. Убийца, подвергнутый изгнанию, против которого в его отсутствие было возбуждено новое обвинение, имел право вернуться в Аттику для защиты, но не мог ступить ногой на землю, а должен был говорить с корабля, даже кораблю нельзя было бросить якорь или спустить трап на берег. Судьи избегали всякого соприкосновения с обвиняемым и разбирали дело, оставаясь на берегу. Ясно, что закон имел в виду совершенно изолировать убийцу, который одним лишь прикосновением к земле Аттики, хотя бы и косвенным, через якорь или трап, мог причинить ей порчу. По той же самой причине существовало правило, что если такой человек после кораблекрушения был выброшен морем на берег той страны, где он совершил преступление, то ему разрешалось оставаться на берегу, пока не подоспеет на помощь другой корабль. Но от него требовалось держать все время ноги в морской воде, – очевидно, чтобы исключить или ослабить проникновение яда в землю, который, как считалось, исходит от человекоубийцы.
Явление, вполне аналогичное карантину, установленному для убийц законом древней Аттики, представляет собой практикуемая в настоящее время изоляция убийц у дикарей острова Добу, расположенного у юго-восточной оконечности Новой Гвинеи. Вот что пишет об этом миссионер, проживший на этом острове семнадцать лет. «Война с родственниками жены допускается, но нельзя поедать тела убитых. Человек, убивший родственника своей жены, никогда впредь не может есть какую бы то ни было пищу или плоды из деревни своей жены. Только жена его может варить ему пищу. Если у нее потух огонь, то ей не позволяется брать головню из какого-нибудь дома в ее деревне. За нарушение этого табу мужа ожидает смерть от отравления. Убийство кровного родственника налагает на убийцу еще более строгое табу. Когда вождь Гагануморе убил своего двоюродного брата, ему было запрещено вернуться в свою деревню, он был вынужден построить новую. Он должен был завести себе отдельную тыквенную бутылку и лопаточку, а также особую бутылку для воды, чашку и горшки для варки пищи; кокосовые орехи и фрукты он должен был добывать для себя сам; свой огонь ему приходилось поддерживать как можно дольше, когда огонь потухал, он не мог зажечь его от чужого огня, а должен был вновь добывать его трением. Если бы вождь нарушил это табу, кровь брата отравила бы его собственную кровь, тело распухло бы, он умер бы мучительной смертью».
Наблюдения, сделанные на острове Добу, показывают, что кровь убитого человека, по поверью туземцев, действовала как настоящий яд на убийцу, если он решался войти в деревню своей жертвы или хотя бы косвенно связаться с ней. Его изоляция имела, стало быть, значение предохранительной меры скорее в отношении его самого, чем относительно избегаемой им общины; возможно, что такая же мысль лежала и в основе вышеприведенного закона Аттики. Однако представляется более вероятным, что здесь предполагалась взаимная опасность, т. е., иначе говоря, как убийца, так и люди, с которыми он вступал в сношения, подвергались опасности заражения отравленной кровью. Идея о том, что убийца может заразить других людей болезнетворным вирусом, существует, несомненно, у племени акикуйю в Восточной Африке. Люди этого племени верят, что если убийца приходит ночевать в какую-нибудь деревню и ест вместе с чужой семьей в ее хижине, то люди, с которыми он вместе ел, оскверняются опасной заразой (тхаху), которая может оказаться для них роковой, если она не будет вовремя удалена. Даже шкура, на которой спал убийца, пропитана порчей и может заразить всякого, кто станет спать на ней. Поэтому в таких случаях призывают знахаря для очищения хижины и ее обитателей.
У мавров в Марокко убийца точно так же считается в некотором роде нечистым существом на всю свою жизнь. Из-под его ногтей сочится яд, а потому всякий, кто пьет воду, в которой он мыл свои руки, заболеет опасной болезнью. Нельзя есть мясо убитого им животного, как и вообще есть что-нибудь в его обществе. Когда он появляется на месте, где люди роют колодец, вода тут же уходит. В Гиайне, говорят, ему возбраняется входить в фруктовый сад или огород, а также появляться у тока или закромов, либо проходить среди стада овец. По распространенному, хотя и не везде принятому, обычаю, он не может во время «великого праздника» собственноручно совершить жертвоприношение; а у некоторых племен, преимущественно говорящих на берберийских наречиях, такой же запрет существует по отношению к человеку, убившему собаку, которая считается нечистым животным. Всякая кровь, вытекающая из.тела, считается нечистой и привлекает к себе злых духов.
Но в библейском рассказе об убийстве Авеля кровь убитого человека является не единственным неодушевленным предметом, которое ведет себя как живое существо. Если кровь представлена здесь вопиющей, то о земле сказано, что она отверзла уста свои, чтобы принять кровь жертвы. Параллель такому образу земли мы встречаем у Эсхила, в одной из трагедий которого земля пьет кровь убитого Агамемнона. Но в книге Бытие сделан дальнейший шаг в олицетворении земли, ибо здесь сказано, что Каин был «проклят от земли» и что, когда он станет возделывать землю, она «не станет более давать силы своей», а сам он будет изгнанником и скитальцем на земле. Здесь, очевидно, подразумевается, что земля, оскверненная кровью и оскорбленная преступлением, не дает семенам, посеянным рукой убийцы, прорасти и дать плоды; мало того, сам убийца будет изгнан с обработанной земли, на которой он до сих пор жил благополучно, и будет вынужден скитаться в бесплодной пустыне голодным и бездомным бродягой. Образ земли, действующей как живое существо, возмущенной грехами своих обитателей и отталкивающей их от своей груди, не чужд Ветхому завету. В книге Левит мы читаем, что, опозоренная людской неправдой, «свергнула с себя земля живущих на ней», евреи торжественно предупреждаются о необходимости соблюдать божественные законы и постановления, «чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас».
Древние греки, по-видимому, также считали, что пролитие человеческой крови – или, во всяком случае, крови родственников – оскверняет землю. Так, по преданию, Алкмеон, убивший свою мать Эрифилу и преследуемый духом убитой, долго скитался по миру, нигде не находя себе покоя; когда он обратился наконец к дельфийскому оракулу, жрица сказала ему, что «единственная страна, где мятежный дух Эрифилы не будет преследовать его, – это новая земля, обнаженная морем после осквернения, причиненного пролитою кровью матери»; или, как выразился Фукидид, «он нигде не найдет успокоения от своих страданий, пока не придет в такую страну, над которой еще не сияло солнце в то время, когда он убил свою мать, и которая тогда еще не была сушей, ибо вся остальная земля осквернена им». Следуя указаниям оракула, Алкмеон открыл у устья Ахелоя небольшие и бесплодные Эхинадские острова; по мнению греков, они образовались из береговой земли, снесенной течением реки, после того как Алкмеон совершил свое преступление; на этих-то островах он нашел себе пристанище. По другой версии, убийца обрел временный приют в мрачной долине Псофис, среди суровых гор Аркадии; но и здесь земля отказалась приносить плоды убийце своей матери, и он, подобно Каину, вынужден был возвратиться к прежней тяжелой жизни скитальца.
Представление о земле как о могущественном божестве, которому пролитие человеческой крови причиняет оскорбление и которое должно быть умилостивлено жертвоприношением, распространено среди некоторых племен Верхнего Сенегала. Земля требует искупления не только за убийство, но и за причинение кровавых ран. Так, в местности Ларо, в стране племени бобо, «убийца отдавал двух коз, одну собаку и одного петуха старейшине деревни, который приносил их в жертву земле. Все жители деревни, в том числе и старейшина, ели потом мясо принесенного в жертву животного, но семьи убийцы и убитого участия в пиршестве не принимали. Если речь шла просто о драке без пролития крови, то этому не придавалось значения. Но вид пролитой крови вызывал гнев у земли, и ее необходимо было поэтому умилостивить жертвой. Виновный отдавал одну козу и тысячу раковин старейшине, который приносил козу в жертву земле, а раковины распределял между наиболее уважаемыми лицами. Коза, принесенная в жертву земле, также делилась между ними же. Но о потерпевшей стороне никто не думал в течение всей процедуры, и она ничего не получала. Оно и понятно: задача состояла не в том, чтобы возместить потерпевшим их ущерб за счет обидчика, а в том, чтобы успокоить землю, это великое и грозное божество, которое было разгневано видом пролитой крови. В таком случае потерпевшему ничего не полагалось. Достаточно, чтобы земля успокоилась, съев душу козы, принесенной ей в жертву, ибо у племени бобо, как и у других чернокожих, земля почитается как великая богиня справедливости».
Подобные же обычаи и поверья существовали у нунума, другого племени Верхнего Сенегала. Убийца подвергался изгнанию на три года и должен был платить крупный штраф раковинами и скотом не в виде вознаграждения в пользу семьи убитого, но для того, чтобы умилостивить землю и другие местные божества, оскорбленные видом пролитой крови. Один из волов приносился в жертву разгневанной земле жрецом, носившим титул «вождь земли»; мясо, как и раковины, делилось между самыми почетными лицами, но семья убитого не принимала участия в дележе или получала такую же долю мяса и денег, как и другие. В случае ссоры, сопровождавшейся кровопролитием, но без убийства, нападавший отдавал одного вола, овцу, козу и четыре курицы, которые все приносились в жертву, чтобы умилостивить местных богов, возмущенных пролитием крови. Вол приносился в жертву земле ее «вождем» в присутствии старейшин деревни; овца посвящалась реке, а курицы – скалам и лесу; коза же приносилась вождем деревни в жертву его личному фетишу. Если эти очистительные жертвы не были принесены, то, по мнению нунума, виновника и семью его ожидала смерть от руки разъяренного бога.
Изложенные факты заставляют предполагать, что наложенный на убийцу знак первоначально служил средством защиты не самого убийцы, а других людей, которые могли оскверниться от соприкосновения с ним и навлечь на себя гнев оскорбленного им божества или преследующего его духа; иначе говоря, знак служил сигналом, предупреждающим людей о необходимости посторониться, подобно полагавшейся в Израиле особой одежде для прокаженных.
Однако же имеются налицо другие факты, позволяющие, как то следует из легенды о Каине, думать, что отметина предназначалась именно самому убийце и что опасность, против которой она служила ему защитой, была месть не со стороны родственников убитого, а со стороны его разгневанного духа. Это суеверие было сильно распространено в древней Аттике. Так, Платон говорит, что, по старинному греческому поверью, дух недавно убитого человека преследует убийцу, ибо его возмущает вид преступника, свободно расхаживающего по родной земле. Поэтому убийце необходимо удалиться на один год из своей родной страны, пока тем временем не остынет гнев негодующего духа, и, прежде чем вернуться на родину, очистить себя жертвоприношениями и установленными обрядами. Если жертвой убийцы был чужестранец, то убийца должен избегать родины убитого, как и своей собственной Родины, и, отправляясь в изгнание, идти дорогой, предписанной обычаем; ибо ничего хорошего не будет, если он станет бродить по своей стране, преследуемый разгневанным Духом.
Выше мы видели, что у племени акикуйю убийца считается носителем какой-то опасной скверны, которой он может заразить других людей путем соприкосновения с ними. На то, что между таким заражением и духом убитого человека существует определенная связь, указывает одна из церемоний, практикуемых для искупления совершенного преступления. Старейшины деревни приносят в жертву свинью возле одного из священных фиговых деревьев, которые играют важную роль в религиозных обрядах племени. Здесь они устраивают пиршество и съедают самые лакомые части животного, а сало, кишки и несколько костей оставляют для духа, который, как они уверены, в ту же самую ночь явится в образе дикой кошки и съест все это. После этого, утолив свой голод, он успокоится и не будет больше приходить в деревню и тревожить ее жителей. Следует заметить, что у этого племени только убийство человека своего клана влечет за собой осквернение и соответствующие обряды; убийство же человека из другого клана или племени таких последствий не имеет.
По обычаям племени багишу в местности Элгон, в Восточной Африке, человек, виновный в убийстве жителя той же деревни, принадлежавшего к тому же клану, должен покинуть свою деревню и переселиться в другое место, даже в случае примирения его с родственниками убитого. Затем он должен зарезать козу, смазать себе грудь содержимым ее желудка, а остальное выбросить на крышу дома убитого, «чтобы умилостивить духа» (убитого). Аналогичный обряд очищения установлен у этого племени для воина, убившего человека в сражении, причем можно с уверенностью сказать, что смысл обряда – успокоение духа убитого. Воин возвращается в свою деревню, но не вправе провести первую ночь в своем доме, а должен остановиться в доме одного из своих друзей. Вечером он убивает козу или овцу, кладет в горшок содержимое ее желудка и смазывает себе жиром голову, грудь и руки. Если у него есть дети, то их также смазывают подобным образом. Обезопасив таким способом себя и детей, воин смело отправляется в свой дом, смазывает все дверные косяки, а остающуюся часть содержимого козьего желудка бросает на крышу, по-видимому, на съедение притаившемуся там духу. В течение целого дня убийца не смеет коснуться пищи своими руками и должен есть при помощи двух палочек, изготовленных для этой цели. На следующий день он может уже свободно вернуться к себе в дом и к своей обычной жизни. Все эти ограничения не относятся к его жене; она даже может идти оплакивать убитого и принимать участие в его похоронах. Такое проявление печали даже способствует смягчению недобрых чувств духа и может склонить его к тому, чтобы простить ее мужа.
У нилотов Кавирондо убийца изолируется от других жителей деревни и живет в отдельной хижине со старухой, которая прислуживает ему, варит пищу, а также кормит его, потому что ему возбраняется дотрагиваться руками до пищи. Такая изоляция продолжается три дня. На четвертый день другой человек, который сам совершил некогда убийство или умертвил человека в сражении, отводит убийцу к реке, где обмывает его с головы до ног; затем он режет козу, варит ее мясо и кладет на четыре палки по куску мяса; убийца съедает из его рук поочередно все четыре куска, после чего тот же человек кладет на палки четыре кома густой каши, которые убийца также должен проглотить. Наконец, козья шкура разрезается на три полосы, из которых одна надевается убийце на шею, а две другие обматываются вокруг кистей рук. Весь обряд совершается только двумя лицами на берегу реки. По окончании обряда убийца может свободно вернуться домой. Считается, что до тех пор, пока такой обряд не исполнен, дух покойного не может отправиться в землю мертвых и витает над убийцей.
У племени балоко, живущего в Верхнем Конго, убившему человека из какого-нибудь соседнего селения не приходится бояться духа убитого, потому что духи бродят здесь лишь на весьма ограниченной территории; но зато нельзя безбоязненно убить человека из своего же селения, где убийцу от духа отделяет небольшое расстояние, что заставляет его постоянно бояться мести духа. Здесь, на беду убийцы, не существует ритуала, избавляющего его от страха, и убийца вынужден оплакивать свою жертву так, как если бы это был его родной брат, он перестает заботиться о своей внешности, бреет голову, постится и проливает потоки крокодиловых слез. Все эти внешние проявления горя, которые простодушный европеец может принять за признаки искреннего раскаяния и угрызения совести, на самом деле рассчитаны лишь на то, чтобы обмануть духа.
Подобным образом у североамериканских индейцев племени омаха убийца, чью жизнь пощадили родственники убитого, вынужден соблюдать определенные строгие правила в течение известного периода времени, обычно от двух до четырех лет. Он должен ходить босиком, не есть горячей пищи, не возвышать голоса, не оглядываться по сторонам. Одежда его всегда, даже в теплую погоду, должна быть запахнута, ворот – наглухо закрыт. Ему запрещено размахивать руками, он должен держать их прижатыми к телу; ему нельзя расчесывать волосы и давать им развеваться по ветру. Никто не Должен есть вместе с ним, и только одному из родственников разрешается жить с ним в его шатре. Когда все племя уходит на охоту, он обязан поставить свое жилье на расстоянии четверти мили от остальных, «дабы дух убитого не поднял сильного ветра, могущего причинить вред». Указанная здесь причина изоляции убийцы от общего лагеря дает, по-видимому, ключ к объяснению всех вообще ограничений, которым подвергаются у первобытных народов люди, совершившие убийство, преднамеренное или непреднамеренное. Изоляция таких людей диктуется не моральным чувством отвращения к их преступлению, а исключительно практическими мотивами осторожности или попросту страхом перед опасным духом, который гонится по пятам за убийцей.
На северо-восточном берегу Новой Гвинеи у племени ябим родственники убитого, согласившиеся вместо кровной мести получить денежное вознаграждение, заставляют родственников убийцы вымазать им лоб мелом, «чтобы дух не стал их тревожить, не уводил бы свиней из их стада и не расшатал бы зубы за то, что они не отомстили за убийство». Здесь мы видим, что не сам убийца, а родственники жертвы преступления отмечают себя знаком, но принцип остается тот же самый. Дух убитого, естественно, возмущается поведением бессердечных родственников, не потребовавших крови убийцы за кровь убитого. И вот, когда дух уже готов броситься на них и расшатать им зубы, либо утащить свинью из их стада, либо причинить им другую беду, он вдруг останавливается при виде белого знака на их черном или темно-коричневом лбу. Этот знак как бы служит распиской в получении сполна всей причитающейся с убийцы суммы денег, доказательством того, что родственники добились если не кровного, то денежного вознаграждения за убийство. И дух должен удовлетвориться этим слабым утешением и избавить в будущем семью убитого от всякого преследования. Тот же знак и с той же целью может быть, конечно, наложен и на лоб убийцы как доказательство того, что он за свое преступление уплатил полностью наличными деньгами или обычным у племени денежным эквивалентом и что, стало быть, дух не может иметь к нему никаких претензий. Не была ли «Каинова печать» подобным знаком? Не служила ли и она доказательством уплаченной им компенсации за пролитую кровь, своего рода распиской в получении от него денежной суммы?
Вероятно, что это так и было, но есть и другая возможность, которую также нельзя оставить без внимания. Очевидно, что по только что изложенной мной теории «Каинова печать» могла быть наложена на человека, убившего своего соплеменника или односельчанина, потому что компенсация за убийство выплачивалась лишь людям, принадлежавшим к одному и тому же племени или к той же общине, что и убийца. Но духи убитых врагов, наверное, не менее опасны, чем духи убитых друзей, и если представляется невозможным умилостивить их уплатой родственникам денежной суммы, то что же другое остается делать с ними? Существовало несколько способов для ограждения воинов против духов людей которых они отправили на тот свет раньше времени. Одно из средств заключалось, очевидно, в том, что убийца наряжался так, чтобы дух не мог узнать его; другое – в том, чтобы придать себе такой воинственный и страшный вид, чтобы дух не решился тягаться с ним. Один из этих двух мотивов лежит в основании следующих обычаев, которые я беру на выбор из числа многих им подобных.
У баякка, одного из племен банту в Свободном государстве Конго, «существует поверье, что человек, убитый в сражении, посылает свою душу к убившему его человеку, чтобы отомстить ему за убийство; но последний может избежать смерти, если воткнет себе в волосы красное перо из хвоста попугая и выкрасит себе лоб в красный цвет». Тонга (в Юго-Восточной Африке) верят, что человек, убивший в сражении врага, подвержен большой опасности со стороны духа убитого, который преследует его и может довести до сумасшествия. Чтобы предохранить себя от мести духа, убийца должен оставаться в главном селении племени несколько дней, в течение которых он не может являться домой к своей жене, должен носить старую одежду и есть из особой посуды при помощи особой ложки. В прежнее время такому человеку между бровями делали надрезы и втирали в них специальную мазь, которая вызывала появление прыщей, придававших человеку вид рассвирепевшего буйвола. У племени басуто «воины, убившие врага, подвергаются очищению. Вождь племени должен обмыть их и принести в жертву вола в присутствии всего войска. Им также натирают тело желчью животного, чем предотвращается преследование их со стороны духа».
Среди племен банту в Кавирондо существует обычай, по которому человек, убивший в сражении врага, по возвращении домой бреет себе голову, а друзья натирают ему тело мазью, приготовляемой обыкновенно из коровьего помета, чтобы дух убитого не стал мстить ему. У балухья из Кавирондо «воин, убивший человека в сражении, изолируется от своей деревни и около четырех дней живет в отдельной хижине, где старая женщина варит ему пишу и кормит, как ребенка, потому что ему не полагается притрагиваться к пище. На пятый день он отправляется к реке в сопровождении другого человека, который сперва обмывает его, а потом убивает белую козу и, сварив ее мясо, кормит им воина. Шкура козы режется на куски, которыми обматываются кисти рук и голова воина, после чего он возвращается на ночь в свою временную хижину. На следующий день его опять отводят к реке и умывают, затем ему дают в руки белую курицу, которую он сам убивает, а сопровождающий человек снова кормит его куриным мясом. Тогда наконец он провозглашается чистым и может вернуться в свой дом. Иногда случается, что воин в сражении прокалывает копьем другого человека, последний умирает от ран спустя некоторое время. Тогда родственники убитого приходят к воину и сообщают ему о смерти раненого, и воин тут же изолируется от общины на все время, пока не будут совершены все вышеописанные обряды. Туземцы говорят, что обряды эти необходимы для того, чтобы освободить дух покойника, остающийся привязанным к воину до тех пор, пока не будет выполнен весь ритуал. Если воин вздумает отказаться от выполнения обряда, то дух спросит его: „Почему ты не выполняешь обряда и не отпускаешь меня на свободу?“ Если и после этого воин будет упорствовать в своем отказе, то дух схватит его за горло и задушит».
Выше мы видели, что у нилотов из Кавирондо в отношении убийц сохранился вполне аналогичный обычай, преследующий цель освободиться от мести со стороны духа убитого. Это совершенное сходство ритуала в обоих случаях вместе с явно выраженными мотивами его проливает яркий свет на основной смысл очистительных обрядов, соблюдаемых человекоубийцей, будь то воин или преступник: и в том и в другом случае цель одна – избавить человека от мстительного духа жертвы. Обматывание головы и кистей обеих рук кусками козьей шкуры, по-видимому, имеет целью сделать человека неузнаваемым для духа. Даже в тех случаях, когда в наших источниках ничего не говорится о духе убитого, мы можем все же с уверенностью сказать, что совершаемые пролившими человеческую кровь воинами или другими лицами в интересах воинов очистительные действия направлены на то, чтобы успокоить разгневанного духа, прогнать или обмануть его. Так, у племени ичопи (в Центральной Африке), когда победоносное войско, возвращаясь из похода, приближается к своей деревне, оно делает привал на берегу реки, все воины, убившие врагов в сражении, вымазывают себе руки и тело белой глиной, а те из них, которые сами не прокололи копьем врага, а лишь помогли добить его, покрывают глиной только свою правую руку. В эту ночь человекоубийцы спят в загоне для скота и боятся близко подойти к своим домам. На следующее утро они смывают с себя глину в реке. Шаман подает им чудодейственное питье и смазывает им тело свежим слоем глины. Эта процедура повторяется шесть дней подряд, и очищение считается оконченным. Остается только обрить голову, после чего воины объявляются чистыми и могут вернуться в свои дома. У борана, одного из группы племен галла, при возвращении военного отряда в деревню женщины обмывают победителей, убивших в сражении людей из неприятельского лагеря, составом из сала и масла, а лица их окрашивают в красный и белый цвет. У племени масаи воины, убившие во время сражения иноплеменников, окрашивают правую половину своего тела в красный, а левую половину – в белый цвет. Подобным же образом туземцы из племени нанди, убившие человека из другого племени, выкрашивают себе тело с одного бока в красный, а с другого – в белый цвет. В течение четырех дней после убийства убийца почитается нечистым и не может явиться к себе домой; он строит себе небольшой шатер на берегу реки, где и живет. Все эти дни он не должен иметь сношений с женой или любовницей, а есть может только овсяную кашу, говядину и козье мясо. К концу четвертого дня он должен очистить себя сильнодействующим слабительным, приготовленным из сока дерева сегетет и козьего молока, смешанного с кровью теленка. У племени вагого человек, убивший в сражении врага, обводит себе правый глаз красной краской, а левый глаз – черной.
По обычаю индейцев, живущих у реки Томсон в Британской Колумбии, люди, убившие своих врагов, окрашивают себе лицо в черный цвет. Без такой предосторожности, по их поверью, дух убитого ослепит убийцу. Индеец племени пима, убивший одного из своих традиционных врагов – апачей, в продолжение шести дней подвергался строгой изоляции и очищению. Все это время он не имел права прикасаться к мясу и соли, смотреть на огонь или заговаривать с кем-либо. Он жил одиноко в лесу, где ему прислуживала старая женщина, приносившая скудную пищу. Почти все это время голова его была обмазана слоем глины, к которой он не имел права прикасаться. Группа индейцев тинне, уничтожившая отряд «медных» эскимосов у реки Коппермайн, считала себя после этого оскверненной и долгое время, чтобы очиститься, соблюдала ряд любопытных ограничений. Тем из них, кто убил врага, строго запрещалось варить пищу для себя и для других. Им запрещалось пить из чужой посуды и курить чужую трубку, есть вареное мясо, а только сырое, поджаренное на огне или высушенное на солнце. И всякий раз перед едой, прежде чем положить первый кусок в рот, они должны были красить себе лицо красной охрой от носа к подбородку и через щеки от одного уха к другому.
У индейского племени чинук (в штатах Орегон и Вашингтон) убийца красил себе лицо древесным углем с топленым салом и надевал на голову, лодыжки ног и кисти рук кольца из кедровой коры. По прошествии пяти дней черная краска смывалась и заменялась красной. В течение всех пяти дней ему не полагалось спать и даже ложиться, а также смотреть на грудных детей и чужую трапезу. К концу очистительного периода он вешал на дерево свое, головное кольцо из кедровой коры, и дерево это, по существовавшему поверью, должно было засохнуть. Среди эскимосов, живших у залива Лангтон, убийство индейца и убой кита считались одинаково славными подвигами. Человек, убивший индейца, татуировался от носа до ушей, а убивший кита – от рта до ушей. И тот и другой должны были воздерживаться от всякой работы в течение пяти дней и от некоторых видов пищи – в течение целого года; в частности, запрещалось есть голову и кишки животных. Когда отряд дикарей из племени арунта (в Центральной Австралии) возвращается домой после кровавого набега, отомстив врагу за обиду, они страшатся духа убитого, будучи в полной уверенности, что он преследует их в образе маленькой птички, издающей жалобный крик. В течение нескольких дней после возвращения они ничего не говорят о набеге, разрисовывают свое тело угольным порошком и украшают лоб и ноздри зелеными ветвями. Наконец, они раскрашивают все тело и лицо яркими красками и уже после этого начинают рассказывать о случившемся; однако по ночам они все еще не могут заснуть, прислушиваясь к жалобному крику птицы, в котором им чудится голос их жертвы.
На островах Фиджи всякий туземец, убивший своей дубинкой человека на войне, освящался или подвергался табу. Местный вождь окрашивал ему тело куркумой в красный цвет с головы до пят. Строилась особая хижина, где он должен был провести первые три ночи, причем ему запрещалось лежать, и он мог спать только сидя. В течение первых трех дней он не мог менять свою одежду, снимать краску с тела и входить в дом, где находилась женщина. То, что этими предписаниями имелось в виду защитить воина от духа убитого им человека, вполне подтверждается другим обычаем тех же островитян. Когда, как это часто случалось у этих дикарей, они закапывали человека живым в землю, то при наступлении ночи поднимали страшный шум ударами бамбуковых палок, трубными звуками особого рода раковин и тому подобными средствами, чтобы прогнать прочь дух убитого и не дать ему возможности вернуться в свой старый дом. А чтобы сделать дом этот непривлекательным для духа, они снимали со стен дома всякие украшения и обвешивали их разными наиболее, по их мнению, отталкивающими предметами. Подобный же обычай существовал и у североамериканских индейцев: чтобы прогнать дух только что замученного ими до смерти врага, они бегали по деревне с ужасающими воплями и били палками по разной домашней утвари, по стенам и крышам хижин. Такого же рода обычаи наблюдаются еще и ныне в разных частях Новой Гвинеи и архипелага Бисмарка.
Итак, возможно, что «Каинова печать» использовалась для того, чтобы сделать человекоубийцу неузнаваемым для духа убитого или же с целью придать его внешности настолько отталкивающий или устрашающий вид, чтобы у духа по крайней мере отпала всякая охота приближаться к нему. В различных работах я высказьшал предположение, что траурное одеяние вообще служило для защиты оставшихся в живых родственников от страшившего их духа погибшего человека. Независимо от правильности моего утверждения, можно с уверенностью сказать, что люди иногда стараются преобразиться настолько, чтобы остаться неузнанными покойником. Так, в западных округах Тимора, большого острова Малайского архипелага, прежде чем покойника положат в гроб, его жены стоят кругом и оплакивают его; тут же находятся их подружки, все с распущенными волосами, чтобы «ниту» (дух) умершего не мог узнать их. У гереро (в Юго-Западной Африке) бывает, что умирающий обращается к человеку, которого не любит, со словами: «Откуда ты взялся? Я не хочу тебя видеть здесь» – и при этом показывает ему кукиш левой рукой. Услышав такие слова, человек уже знает, что умирающий решил сжить его со света после своей смерти и что, стало быть, его ожидает вскоре смерть. Однако во многих случаях он может избежать угрожающей опасности. Для этого он быстро покидает умирающего и ищет себе «онган-га», т. е. врачевателя или колдуна, который его раздевает, умывает, натирает маслом и переодевает в другую одежду. Тогда он совершенно успокаивается, говоря: «Ну, теперь отец наш не узнает меня». И ему нечего больше бояться умершего.
Возможно также, что, после того как бог отметил Каина особой печатью, последний вполне успокоился, уверенный, что дух убитого брата не узнает его и не станет тревожить. Сказать в точности, каким именно знаком отметил бог первого убийцу, мы не можем; в лучшем случае мы только можем сделать то или иное предположение на этот счет. Если судить по аналогичным обычаям современных нам дикарей, то бог мог окрасить Каина в красный, черный или белый цвет, а может быть, художественный вкус подсказал ему ту или иную комбинацию из всех этих цветов. Например, он мог окрасить его в однородный красный цвет, как это принято у дикарей островов Фиджи, или в белый, как у дикарей ичопи, или в черный, как у племени арунта; но мог также одну половину тела покрыть красной, а другую – белой краской, как это в обычае у племен масаи и нанди. Возможно также, что бог ограничил поле своих художественных усилий одним лишь лицом Каина и обвел ему правый глаз красной краской, а левый – черной, в стиле вагого, или же разукрасил ему физиономию нежными тонами киновари от носа к подбородку и от рта к ушам, на манер индейского племени тинне. Он мог также покрыть голову Каина пластом глины, как делают пима, или же вымазать все его тело коровьим пометом, по обычаю банту. Наконец, он мог татуировать его, как у эскимосов, от носа к ушам или между бровями, как у тонга, от чего вскакивали волдыри, придававшие человеку вид разъяренного буйвола. Разукрашенный таким образом до неузнаваемости, первый мистер Смит (ибо Каин значит по-английски Смит [9 - Тувалкаин, потомок Каина, был, по Библии, первым кузнецом (Быт., 4, 22). По-арабски и по-сирийски «каин» значит «кузнец». У автора игра слов: smith означает по-английски «кузнец», а также является распространенной фамилией. -Прцм. пер.]) мог свободно шагать по широкому лику земли, нисколько не боясь встречи с духом убитого брата.
Такое истолкование «Каиновой печати» имеет то преимущество, что устраняет из библейского рассказа явную нелепость. Ибо, по обычному толкованию, бог наложил на Каина знак для того, чтобы обезопасить его от возможного нападения со стороны людей, но при этом совершенно забыл, очевидно, что, в сущности, на Каина некому было нападать, ибо все население земли состояло тогда из самого убийцы и его родителей. А потому, предполагая, что враг, перед которым испытывал страх первый убийца, был не живой человек, а дух, мы тем самым избегаем непочтительного отношения к богу и не приписываем ему столь грубой забывчивости, которая совершенно не вяжется с божественным всеведением. Здесь опять оказывается, что сравнительный метод выступает в роли могущественного advocаtus dei [10 - Advocаtus dei (адвокат бога) – в католицизме лицо, которому при канонизации поручалось защищать святость канонизируемого против доводов адвоката дьявола (advocаtus diaboli), оспаривавшего его святость. – Прим. пер.].
Глава IV. ВЕЛИКИЙ ПОТОП
Введение
Когда совет Королевского антропологического института предложил мне произнести обычную ежегодную речь, посвященную памяти Гексли [11 - Гексли Томас Генри (1825 – 1895) – английский естествоиспытатель, соратник Ч. Дарвина и популяризатор его учения, отстаивал дарвинизм от нападок со стороны клерикалов. – С. Т.], я с благодарностью принял предложение, считая для себя высокой честью ощутить себя причастным к тому, к кому я как к мыслителю и человеку питаю глубокое уважение и чьи взгляды на великие проблемы жизни целиком разделяю.
В поисках подходящей темы я вспомнил, что в последние годы своей жизни Гексли посвящал часть своего заслуженного досуга исследованию преданий, дошедших до нас от древнейших времен и изложенных в книге Бытие, и я счел поэтому целесообразным взять одно из них темой для своей речи. Мой выбор остановился на общеизвестной легенде о великом потопе. Сам Гексли рассмотрел эту тему в интересном очерке, в котором чувствуется вся прелесть его прозрачного и выразительного стиля. Он задался целью показать, что легенда эта, если на нее смотреть как на историческое свидетельство о потопе, залившем некогда весь мир и истребившем почти всех людей и животных, противоречит неопровержимым данным геологии и должна быть решительно отвергнута как басня. Я не собираюсь ни защищать, ни критиковать его аргументы и выводы по той простой причине, что я не геолог и что поэтому с моей стороны было бы просто дерзостью высказывать то или иное мнение по этому вопросу. Я подхожу к нему с совершенно другой стороны, а именно как к преданию. Давно уже известно, что легенды о великом потопе, в котором погибло почти все человечество, широко распространены по всему миру; все, что я попытался сделать, – это собрать и сравнить эти легенды, а также показать, к каким выводам приводит это сравнение. Короче говоря, я рассматриваю эти легенды с точки зрения сравнительного фольклора. Моя задача – раскрыть, как возникли эти рассказы и как они получили столь широкое распространение на земном шаре; я не касаюсь вопроса об их достоверности, хотя, конечно, вопрос этот нельзя совершенно игнорировать, поскольку речь идет о происхождении рассказов. Поставленное в такие рамки, исследование этого вопроса не является чем-то новым. Попытки подобного рода делались часто, особенно в последние годы, и я широко воспользовался трудами моих предшественников, тем более что некоторые из них разрабатывали этот вопрос с большой эрудицией и талантом. Особенно многим я обязан немецкому географу и антропологу Рихарду Андре, чья монография «Легенды о потопе», как и вообще все его труды, представляет собой образец трезвой научности и здравого смысла, соединенных с чрезвычайной ясностью и сжатостью изложения.
Помимо интереса, какой эти легенды представляют сами по себе как источник сведений о великой катастрофе, которая некогда в одно мгновение уничтожила почти весь человеческий род, они заслуживают изучения еще и потому, что касаются вопроса, который в настоящее время широко обсуждается антропологами. Вопрос этот таков: чем можно объяснить те многочисленные и поразительные черты сходства, которые обнаруживают верования и обычаи народов, живущих в разных местах земного шара? Следует ли рассматривать эту общность обычаев и верований как следствие заимствования их одним народом от другого благодаря непосредственному контакту между ними либо через посредство других народов? Или же они возникли у каждой расы самостоятельно как следствие одинаковой работы человеческой мысли под влиянием одних и тех же обстоятельств? И вот если мне позволено высказать свое мнение по этому горячо обсуждаемому вопросу, то я должен со своей стороны прямо заявить, что сама постановка вопроса в форме противопоставления двух взаимно исключающих друг друга точек зрения представляется мне в корне неправильной. Насколько я в состоянии судить, весь накопленный запас наблюдений и все соображения говорят за то, что обе причины оказывали свое широкое и могущественное воздействие на процесс образования сходных обычаев и верований у различных народов. Иначе говоря, во многих случаях сходство объясняется простым заимствованием, с некоторыми более или менее значительными видоизменениями, но немало бывает и таких случаев, когда сходные у разных народов обычаи и верования возникают независимо друг от друга, в результате одинаковой работы человеческой мысли под влиянием аналогичных условий жизни. Но если так (а я думаю, что это единственно правильная и приемлемая точка зрения), то отсюда следует, что, пытаясь в каждом отдельном случае объяснить замеченное нами сходство между обычаями и верованиями у разных народов, мы отнюдь не должны исходить из одной какой-нибудь общей теории, будь то теория заимствования или теория самобытного образования. В каждом отдельном случае нужно учитывать конкретные особенности, подвергая факты беспристрастному анализу, и тщательно взвешивать все доказательства, говорящие в пользу той или иной причины. В случае же равноценности доказательств обоего рода приписать сходство совокупному действию обеих причин.
Этот общий вывод о приемлемости обеих теорий – теории заимствования и теории самостоятельного образования, как одинаково правильных и в известных пределах соответствующих действительности, подтверждается, в частности, исследованием легенд о потопе. Известно, что легенды о великом потопе распространены среди многих различных народов в отдаленных друг от друга странах; и, насколько возможно говорить в подобных случаях о доказательствах, можно считать доказанным, что сходство, несомненно существующее между многими из этих легенд, отчасти является результатом прямого заимствования одним народом у другого, а отчасти следствием совпадающих, но вполне самостоятельных наблюдений, сделанных в различных местах земного шара и относящихся к великим наводнениям или другим чрезвычайным явлениям природы, вызывающим представления о потопе. Таким образом, изучение этих легенд, независимо от нашего мнения относительно их исторической достоверности, может оказаться полезным, если мне удастся смягчить остроту существующего спора и убедить крайних сторонников обеих теорий, что в этом споре, как и во многих других, истина оказывается не на чьей-либо стороне, а где-то посередине.
Вавилонское сказание о великом потопе
Из всех имеющихся в литературе легенд о великом потопе наиболее древняя – вавилонская или, правильнее, шумерийская: известно, что, как ни стара сама по себе вавилонская версия этой легенды, она была заимствована вавилонянами от их еще более древних предшественников – шумерийцев, от которых семитические обитатели Вавилонии, по-видимому, переняли основные элементы своей цивилизации. Вавилонское предание о великом потопе известно благодаря вавилонскому историку Беросу, который в первой половине III в. до н. э. составил историю своей страны. Берос писал по-гречески, и хотя его труд до нас не дошел, но некоторые фрагменты сохранились благодаря позднейшим греческим историкам. Среди этих фрагментов оказался, к счастью, рассказ о потопе. Вот он. Великий потоп произошел в царствование Ксисутруса, десятого царя Вавилонии. Бог Кронус явился к нему во сне и предупредил его о том, что все люди будут уничтожены потопом в пятнадцатый день месяца, который был восьмым месяцем по македонскому календарю. А потому бог велел ему написать историю мира от начала и закопать ее для сохранности в Сиппаре, городе солнца. Кроме того, он велел ему построить корабль и сесть туда вместе со своими родственниками и друзьями, взять с собой запас пищи и питья, а также домашних птиц и четвероногих животных и, когда все будет готово, отплыть. На вопрос царя: «Куда же мне отплыть?» – бог ответил: «Ты поплывешь к богам, но до отплытия ты должен молиться о ниспослании добра людям». Царь послушался бога и построил корабль; длина корабля была пять стадий, а ширина – два стадия [12 - Вавилонский стадий равнялся 194 метрам. – Ред.]. Собрав все, что было нужно, и сложив в корабль, он посадил туда своих родственников и друзей. Когда потоп стал убывать, Ксисутрус выпустил на волю несколько птиц. Но, не найдя себе нигде пищи и приюта, птицы вернулись на корабль. Через несколько дней Ксисутрус снова выпустил птиц, и они вернулись на корабль со следами глины на ногах. В третий раз он их выпустил, и они больше на корабль не вернулись. Тогда Ксисутрус понял, что земля показалась из воды, и, раздвинув несколько досок в борту корабля, выглянул наружу и увидел берег. Тут он направил судно к суше и высадился на горе вместе со своей женой, дочерью и кормчим. Он воздал почести земле, построил алтарь и принес жертву богам, а потом исчез вместе с теми, кто высадился с ним из корабля. Оставшиеся на корабле, увидев, что ни он, ни сопровождающие его люди не возвращаются, тоже высадились на берег и стали искать его, выкликая его имя, но нигде не могли найти Ксисутруса. Тогда раздался голос с неба, который приказал им чтить богов, призвавших к себе Ксисутруса за его благочестие и оказавших такую же милость его жене, дочери и кормчему. И еще велел им тот голос отправиться в Вавилон, разыскать спрятанное писание и распространить его среди людей. Голос также возвестил им, что страна, в которой они находятся, – Армения. Услышав все это, они принесли жертву богам и отправились пешком в Вавилон. А обломки корабля, приставшего к горам Армении, существуют до сих пор, и многие люди снимают с них смолу для талисманов. Вернувшись в Вавилон, люди откопали в Сиппаре писание, построили много городов, восстановили святилища и вновь населили Вавилон.
По словам греческого историка Николая Дамасского, современника и друга Августа и Ирода Великого, «в Армении находится большая гора, называемая Барис, на которой, как гласит предание, спаслось много людей, бежавших от потопа; говорят также, что какой-то человек, плывший в ковчеге, высадился на вершине этой горы и что деревянные остатки того судна сохранялись еще долгое время. Человек этот, вероятно, был тот самый, о котором упоминается у Моисея, законодателя иудеев». Сомнительно, чтобы Николай Дамасский почерпнул эти сведения из вавилонского или еврейского предания; ссылка на Моисея показывает, что он был, по-видимому, знаком с рассказом книги Бытие, который мог стать ему известным со слов его покровителя Ирода.
В нашу эпоху суждено было извлечь из давно утерянных архивов Ассирии подлинную вавилонскую версию легенды. При раскопках Ниневии, составляющих славу и гордость XIX в. и имеющих чрезвычайное значение для истории древнего мира, английским исследователям удалось обнаружить значительную часть библиотеки великого царя Ашшурбанипала, царствовавшего в 669 – 633 гг. до н. э., во время блестящего заката Ассирийской державы. Этот царь, наводивший ужас на соседние народы вплоть до берегов Нила, украсил свою столицу великолепными сооружениями и собрал в ее стенах из ближних и дальних стран многочисленные тексты по истории, естествознанию, грамматике и религии для просвещения своего народа. Тексты эти, в значительной части заимствованные из вавилонских источников, представляют собой клинописные таблицы из мягкой глины, впоследствии обожженные и сложенные в библиотеке. Библиотека была, по-видимому, расположена в верхнем этаже дворца, который во время последнего разграбления города рухнул от пожара, причем большинство таблиц разбилось вдребезги. Сохранившиеся потрескались и опалены огнем пылавших развалин. В последнее время к развалинам приложили свою руку кладоискатели, которые искали здесь для себя не научные сокровища, а настоящий золотой клад, чем немало содействовали еще большей разрозненности этих драгоценных памятников. В довершение всех бед богатая солями вода, каждую весну проникающая в почву, пропитывает таблицы. Соли кристаллизуются по линиям трещин, и по мере роста кристаллы расщепляют и без того разбитые таблицы на более мелкие фрагменты. Все же благодаря кропотливому труду Джорджа Смита, хранителя Британского музея, множество фрагментов было восстановлено, ему удалось реставрировать знаменитую эпическую поэму о Гильгамеше в двенадцати песнях, вернее, таблицах, из которых одиннадцатая содержит вавилонскую легенду о потопе. Это великое открытие было обнародовано Смитом на собрании Общества библейской археологии 3 декабря 1872 г.
По остроумной догадке Генри Раулинсона, двенадцать песен поэмы о Гильгамеше соответствуют двенадцати знакам зодиака, так что движение рассказа в поэме как бы следует за движением солнца в течение всех двенадцати месяцев года. Эта теория до некоторой степени оправдывается местом, какое занимает в поэме легенда о потопе, изложенная в одиннадцатой песне, потому что вавилонский одиннадцатый месяц в году приходился как раз на дождливый сезон, был посвящен богу ветров Рамману и, как говорят, назывался «проклятый месяц дождей». Как бы то ни было, легенда здесь является отдельным эпизодом или отступлением, лишенным всякой связи со всем остальным содержанием поэмы. Вот как она начинается.
Герой поэмы Гильгамеш потерял своего дорогого друга Энкиду, похищенного смертью, и сам тяжело заболел. Опечаленный происшедшим и в страхе перед грядущим, он решил разыскать своего отдаленного предка Утнапиштима, сына Убара-Гуту, и узнать от него, как смертный человек может обрести вечную жизнь.
Утнапиштим, думал он про себя, наверное, знает этот секрет, так как сам стал подобен богам и живет теперь где-то далеко в блаженном бессмертии. Тяжелый и опасный путь пришлось совершить Гильгамешу, чтобы дойти до него. Он должен был перейти через гору, охраняемую двуполым скорпионом, там, где заходит солнце; он шел по темной и страшной дороге, где ни разу не ступала нога смертного; он переправился на лодке через обширное море, перебрался по узкому мосту через реку смерти и наконец предстал перед лицом Утнапиштима. Но когда Гильгамеш задал своему великому предку вопрос, как человеку достигнуть бессмертия, то получил неутешительный ответ: мудрец сказал ему, что для человека не существует бессмертия. Удивленный таким ответом со стороны того, кто некогда сам был человеком, а теперь сделался бессмертным, Гильгамеш, естественно, спросил своего высокочтимого родственника, каким образом ему удалось избегнуть общей участи. На этот вопрос Утнапиштим поведал следующий рассказ о великом потопе.
Утнапиштим сказал Гильгамешу: «Я хочу открыть тебе, о Гильгамеш, сокровенное слово; умысел богов я хочу поведать тебе. Ты знаешь город Шуруппак, что лежит на берегу Евфрата; это город старинный, и боги его внушили великим богам мысль послать на землю потоп. Там был отец богов Ану, их советник и воитель Энлиль, их вестник Ниниб, их властитель Эннуги. Бог мудрости Эа также сидел вместе с ними; он передал их слова тростниковой хижине, говоря: „О, тростниковая хижина, тростниковая хижина! О, стена, стена! О, слушай, тростниковая хижина! О, внимай, стена! О, человек из Шуруппака, сын Убара-Туту, ломай свой дом, построй корабль, оставь свои богатства, бойся своей гибели! Бросай своих богов, спасай свою жизнь, возьми с собою в корабль всякие семена жизни! А корабль, который ты соорудишь, должен быть хорошо соразмерен; его ширина и длина должны соответствовать друг другу, и ты его спустишь в открытое море“. Я внял словам его и сказал богу моему Эа так: „О, господин мой, я преклоняюсь пред твоим велением и исполню его. Но что я отвечу городу и народу и его старейшинам?“ Эа открыл свои уста и так сказал мне, слуге своему: „Вот что ты ответишь им: так как Энлиль возненавидел меня, то я не могу больше оставаться в вашем городе и не могу преклонить голову на земле Энлиля; я должен спуститься в глубокое море и буду жить у господина моего Эа“. Утнапиштим послушался бога Эа, собрал лес и все, что было нужно для постройки судна, и на пятый день остов был готов. Он построил его в форме баржи, на которую поставил дом в сто двадцать локтей высотой, и разделил дом на шесть ярусов, а в каждом ярусе сделал девять комнат. Он сделал в нем отверстия для спуска воды, обмазал снаружи горной смолой и древесной смолой изнутри. Затем он велел принести масло, зарезал волов и ягнят, наполнил кувшины кунжутным вином, маслом и виноградным вином. Он созвал народ на пир, как в день новогодний; народ пировал, и вино лилось рекой. А когда корабль был готов, он наполнил его всем, что имел из серебра, и всем, что имел из золота, и всем, что имел из семян жизни. Он также посадил на корабль всю свою семью и всех домочадцев; собрал домашний скот, зверей полевых и всяких ремесленников и всех поместил на корабль. Бог-солнце Шамаш назначил время, объявив: „С наступлением вечера властитель тьмы пошлет разрушительный ливень; тогда войди в ковчег и запри за собой дверь“. Пришел урочный час, и с наступлением вечера властитель тьмы послал разрушительный ливень. „Я видел начало бури, но дальше смотреть на нее побоялся. Я вошел в ковчег и запер за собою дверь. Кормчему корабля, а также Пузур-Амурри, мореходу, поручил я (плавучий) дворец и все, что в нем было. Когда стало рассветать, появилось на горизонте черное облако. Рамман гремел среди небес, а боги Мужати и Лугаль предшествовали ему. Подобно гонцам, шли они по горам и равнинам; Иррагал сорвал с корабля мачту. Явился Ниниб и разразился бурей. Боги Ануннаки вздымали кверху пылающие факелы, бросавшие яркий свет на землю. Смерч бога Раммана поднимался к небесам, и дневной свет потух во мраке“. Весь день бушевала гроза, и воды вздулись до горных вершин. „Один не видел другого, люди не узнавали друг друга. Боги в небесах испугались потопа и пятились назад, карабкались по небосклону к обители Ану. Боги припадали к земле, как собаки, жались у стен. Иштар надрывалась от крика, как женщина в родовых муках; царица богов обливалась слезами и восклицала своим дивным голосом: „Да обратится в прах тот день, когда я в собрании богов накликала горе! Увы, это я накликала горе в собрании богов! Это я накликала смерть для уничтожения моих людей! Где они теперь – те, которых я призвала к жизни? Как рыбьей икрой, кишит ими море“. Боги Ануннаки плакали вместе с ней; боги в изнеможении садились и плакали с плотно сжатыми губами. Шесть дней и шесть ночей свирепствовал ветер; потоп и гроза опустошили землю. На седьмой день стихла гроза, и ливень, и буря, бушевавшая подобно вражескому войску. Море успокоилось, вода пошла на убыль; ураган и потоп прекратились. Я посмотрел на море: на нем лежала тишина, весь род человеческий превратился снова в глину. Там, где были поля, простиралось болото. Я открыл окно, и дневной свет упал на мое лицо. У меня подкашивались ноги, я сел и заплакал; слезы катились по щекам моим. Я смотрел на мир: везде было море. По прошествии двенадцати (дней?) показался остров. Корабль приплыл к земле Низир; он сел на гору Низир, и гора не отпускала корабль. Прошел день, другой – гора Низир все не отпускала корабль. Прошел третий день, четвертый – гора Низир все не отпускала корабль. Прошел пятый день, шестой – гора Низир все не отпускала корабль. На седьмой день я выпустил голубя и дал ему улететь. Но голубь полетал немного и, не найдя нигде приюта, вернулся назад. Тогда я выпустил ласточку и дал ей улететь. Ласточка покружилась немного, но, не найдя нигде приюта, вернулась назад. Затем я выпустил ворона и дал ему улететь. Ворон улетел и увидел, что вода спала; он клевал пищу, пробирался по лужам, каркал, но назад не вернулся. Тогда я вывел всех из корабля и отпустил их на все четыре стороны. Я принес жертву и совершил возлияние на вершине горы. По семи в ряд я выставил жертвенные сосуды и собрал под ними в кучу тростник, кедровое и миртовое дерево. Боги вдыхали запах, боги вдыхали благоухания. Боги, как мухи, собирались вокруг того, кто принес им жертву. Тут выступила вперед мать богов. Она подняла кверху ожерелье, которое Ану сделал по ее желанию, и сказала: „О вы, боги, собравшиеся здесь“! Как верно то, что я не забуду этих лазоревых самоцветов, которые я ношу на шее, так же верно и то, что я буду помнить всегда эти дни и никогда их не забуду. Пусть все боги присутствуют при этом жертвоприношении, но пусть Энлиль не приходит, потому что он не размыслил, наслал потоп и обрек на гибель моих людей“. Тогда подошел Энлиль и, увидев корабль, рассвирепел. Полный гнева против богов, против Игиги, он воскликнул: „Кто-то, я вижу, спас свою жизнь. Нет, ни один человек не останется в живых после всеобщего истребления“. Тут Ниниб открыл свои уста и сказал, обращаясь к воителю Энлилю: „Кто, как не Эа, мог сделать подобное дело? Ведь Эа знает все, что происходит на свете“. Тогда Эа открыл свои уста и сказал, обращаясь к воителю Энлилю: „Ты, о воитель, – владыка богов, но ты не размыслил и наслал на землю потоп. На грешнике должен быть отомщен его грех, и на преступнике – его преступление. Не давай же воли своей руке, дабы не все люди погибли; пощади, дабы не все они исчезли с лица земли. Вместо потопа пусть бы лучше пришел лев и сократил род людской! Вместо потопа пусть бы лучше пришел леопард и сократил род людской! Вместо потопа пусть бы лучше пришел голод и опустошил землю! Вместо потопа пусть бы лучше пришла богиня-чума и поразила человечество! А я не открыл умысла великих богов; я только дал Атрахазису увидеть сон, и во сне он услышал умысел богов“. После этого Энлиль принял свое решение и вошел в ковчег. Он взял меня за руку и вывел из корабля и меня и жену мою, велел ей стать на колени рядом со мной, а сам подошел к нам, стал между нами обоими и благословил нас (говоря): „До сих пор Утнапиштим был человеком, но отныне пусть Утнапиштим и жена его уподобятся богам и станут равными нам, пусть Утнапиштим живет далеко от земли, у устья рек“. И тогда меня взяли и унесли далеко от земли и оставили жить у устья рек».
Такова длинная легенда о потопе, внесенная в поэму о Гильгамеше, с которой она, по-видимому, вначале не стояла ни в какой связи. Сохранился фрагмент другой версии этой легенды на одной разбитой плитке, найденной, как и плитка поэмы о Гильгамеше, среди развалин библиотеки Ашшурбанипала в Ниневии. В этом фрагменте содержится часть беседы, происшедшей перед потопом между богом Эа и вавилонским Ноем, который здесь называется Атрахазис – имя, которое, как мы видели, случайно приписано ему в поэме о Гильгамеше, хотя везде в этой поэме он именуется не Атрахазис, а Утнапиштим. Имя Атрахазис, как полагают, было первоначальным вавилонским именем героя, которое в греческой версии легенды о потопе у Бероса заменено именем Ксисутрус. В упомянутом фрагменте бог Эа приказывает Атрахазису: «Ступай в ковчег и закрой за собою дверь; возьми туда с собой свои запасы хлеба, свои домашние вещи и прочее имущество, свою (жену?), семью, родственников, своих ремесленников, полевой скот и всех травоядных полевых животных». Герой возражает на это, что он никогда раньше не строил корабля, и просит начертить ему на земле план корабля для руководства при постройке.
До сих пор мы видели, что вавилонские версии легенды о потопе относятся ко времени Ашшурбанипала, т. е. к VII в. до н. э., на этом основании можно было допустить более позднее происхождение их в сравнении с еврейской версией и, стало быть, предположить, что они заимствованы у евреев. Однако мы располагаем данными, несомненно свидетельствующими о значительно более древнем происхождении вавилонской легенды, благодаря еще одной разбитой плитке, найденной при раскопках, предпринятых турецким правительством в Абу-Хабба, на месте, где находился некогда древний город Сиппар. Плитка эта содержит весьма искаженное изложение легенды о потопе и снабжена точной датой, а именно: в конце текста имеется отметка о том, что табличка написана в двадцать восьмой день месяца шабату (одиннадцатый месяц у вавилонян), в одиннадцатый год правления царя Аммизадуга, т. е. около 1966 г. до н. э, К сожалению, текст настолько отрывочен, что дает мало сведений, но имя Атрахазис здесь встречается, а также говорится о большом ливне и, по-видимому, о корабле и спасшихся на нем людях.
Другая очень древняя версия легенды о потопе была обнаружена в Ниппуре во время раскопок, производившихся Пенсильванским университетом. Она написана на небольшом обломке таблицы из необожженной глины, и на основании начертания букв и места нахождения датируется открывшим ее профессором Гильпрехтом не позднее 2100 г. до н. э. В этом фрагменте бог возвещает, что пошлет на землю потоп, который сметет сразу весь людской род; бог предлагает человеку, к которому обращает свою речь, построить себе большое судно с крепкой крышей, где он сможет спасти свою жизнь, и взять туда с собою животных и птиц.
Все эти версии легенды о потопе написаны на семитическом языке Вавилонии и Ассирии. Но есть другая отрывочная версия, найденная американцами при раскопках в Ниппуре и написанная на шумерийском языке, т. е. на несемитическом языке древнего народа, который, по-видимому, предшествовал семитам в Вавилонии и основал в нижней долине Евфрата свою собственную замечательную культуру, обыкновенно именуемую вавилонской культурой. Город Ниппур, где была найдена эта шумерийская легенда о потопе, был самым священным и, возможно, наиболее древним религиозным центром страны, и местный бог этого города Энлиль стоял во главе вавилонского пантеона. Судя по начертанию письма, текст таблички, на которой записана легенда, относится, вероятно, ко времени знаменитого вавилонского царя Хаммурапи, т. е. приблизительно к 2100 г. до н. э. Но сама легенда, надо полагать, гораздо древнее, потому что в конце третьего тысячелетия, когда был написан текст таблички, шумерийцы как отдельный народ перестали уже существовать, растворившись в семитическом населении страны, и язык их стал уже мертвым языком, хотя древняя литература и содержащиеся в ней священные тексты служили еще предметом изучения и переписывались семитическими жрецами и писцами. В результате открытия шумерийской версии легенды о потопе возникло предположение о том, что сама легенда ведет свое происхождение от времени, предшествовавшего занятию долины Евфрата семитами, которые, поселившись в новой стране, заимствовали легенду о потопе от своих предшественников – шумерийцев. Интересно отметить, что шумерийская версия легенды о потопе служит продолжением рассказа, к сожалению весьма отрывочного, о сотворении человека; согласно этому рассказу, люди были созданы богами раньше животных. Таким образом, шумерийская легенда сходится с библейским рассказом в книге Бытие, поскольку и здесь и там сотворение человека и великий потоп трактуются как два тесно связанных между собой события первоначальной истории мира. При этом шумерийское сказание совпадает не с жреческим, а с яхвистским источником, изображая такую последовательность событий, при которой сотворение человека предшествовало сотворению животных.
Пока что опубликована только нижняя половина таблички этой «шумерийской книги Бытие», но и этой половины достаточно, чтобы представить себе в общих чертах легенду о потопе. Здесь рассказывается, что Зиугидду или, правильнее, Зиудзудду был некогда царем и жрецом бога Энки – шумерийского божества, соответствующего семитическому Эа. Изо дня в день он служил богу, смиренно повергаясь ниц перед ним и исполняя у алтаря установленные обряды. В награду за такое благочестие Энки сообщает ему, что по требованию Энлиля на совете богов решено истребить семя человеческого рода посредством ливня и бури. Прежде чем сделать святому человеку это своевременное предупреждение, божественный друг просит его отойти к стене, говоря: «Стань у стены слева от меня, и у стены я скажу тебе слово». Эти слова находятся в очевидной связи с тем странным местом в семитической версии легенды, где Эа начинает свое предупреждение Утнапиштиму в таких выражениях: «О, тростниковая хижина, тростниковая хижина! О, стена, стена! О, слушай, тростниковая хижина! О, внимай, стена!» Эти два параллельных места в обеих версиях легенды заставляют предположить, что доброжелательный бог, не желая прямо сообщить смертному человеку тайное решение богов, прибегает к уловке и шепотом доверяет тайну стене, по другую сторону которой он предварительно поставил Зиудзудду. Таким образом праведный человек подслушал чужой разговор и узнал роковую тайну, тогда как его божественный покровитель имел возможность впоследствии утверждать, что он не открыл человеку умысла богов. Эта уловка приводит на память известную легенду о том, как слуга царя Мидаса открыл, что у его господина ослиные уши, и, не будучи в состоянии удержаться, чтобы не выболтать кому-нибудь этой тайны, шепотом рассказал ее пещере и засыпал пещеру землей, но на этом месте вырос тростник, и шелест его листьев, волнуемых ветром, разнес по всему свету секрет об уродстве царя. Та часть таблицы, в которой, вероятно, содержалось описание того, как строился ковчег и как сел в него Зиудзудду, потеряна, а сохранившаяся часть сразу захлестывает нас волнами потопа. Бушующая буря и ливень описываются как явления одновременные. Затем текст продолжается так: «После того как ливень и буря свирепствовали на земле целых семь дней и семь ночей, а огромный ковчег силой вихря носился все время по могучим волнам, появился бог-солнце, проливая дневной свет на небо и землю». Когда свет солнца засиял над ковчегом, Зиудзудду пал ниц перед богом-солнцем и принес в жертву вола и овцу. Здесь опять пробел в тексте, а вслед за тем мы читаем, что царь Зиудзудду пал ниц перед богами Ану и Энлилем. Гнев Энлиля против людей теперь как будто смягчился, как можно понять из его слов, относящихся к Зиудзудду: «Жизнь, подобную жизни бога, я дарую ему». И дальше: «Вечную душу, подобную душе бога, я сотворю для него». А это значит, что герой легенды о потопе, шумерийский Ной, обрел дар бессмертия или даже превратился в бога. Дальше ему преподносится титул «хранителя семени человеческого рода», и боги отводят ему обитель на горе, быть может на горе Дильмун, хотя такое чтение имени не вполне достоверно. Конец легенды до нас не дошел.
Итак, мы видим, что в существенных чертах шумерийская версия легенды о потопе совпадает с более длинной и обстоятельной версией, сохранившейся в поэме о Гильгамеше. В обеих версиях великий бог (Энлиль или Бэл) решил истребить человечество, затопив землю дождем. В обеих версиях бог (Энки или Эа) предупреждает человека о близкой катастрофе, и человек, получивший такое предупреждение, спасается в ковчеге. В обеих потоп в период его наибольшей силы продолжается семь дней. В обеих версиях, после того как вода начинает спадать, человек приносит жертву и под конец возводится в ранг богов. Единственное существенное различие касается имени героя, который в шумерийской версии называется Зиудзудду, а в семитической – Утнапиштим или Атрахазис. Шумерийское имя Зиудзудду напоминает другое – Ксисутрус, которое Берос дает герою, спасшемуся от потопа. Если сходство этих двух имен не случайно, то мы имеем новое основание удивляться той верности древнейшим документальным источникам, которую сохранил в своем описании вавилонский историк.
Открытие этой чрезвычайно интересной таблички, содержащей рассказ о потопе в связи с рассказом о сотворении мира, дает основание предполагать, что заключающиеся в книге Бытие сказания о первоначальной истории мира родились не у семитов, но были ими заимствованы от более древнего цивилизованного народа. Дикие орды семитов, нахлынувшие за несколько тысячелетий до нашей эры из Аравийской пустыни в плодородную долину Нижнего Евфрата, застали там уже сложившуюся цивилизацию. Потомки первобытных бедуинов постепенно переняли искусства и нравы покоренной страны точно так же, как гораздо позднее северные варвары позаимствовали известный культурный лоск от покоренного ими населения Римской империи.