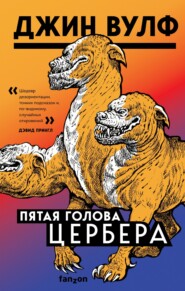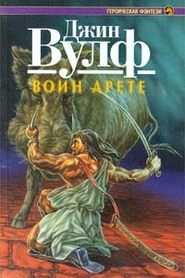По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сдается мне, Эрл уехал в Мемфис; ну и ладно, зато есть ваш папаша – экий живчик, не хуже какого-нибудь юноши. – Мы ехали мимо магазинов с темными витринами по улице, которая казалась очень широкой – возможно, потому что была пуста. – Это если верить ему на слово, а я верю; ну, такие вот дела. Она тоже поехала в Мемфис – слыхали, да? Потому все и решили, что Эрл именно туда удрал. Все случилось примерно через три месяца после того, как он исчез. Почти до самого Дня независимости; потом вернулась – ну, ей же надо было найти себе какое-то дело, а я так разумею, что женщина, которая была сама себе хозяйка, к другой в служанки не пойдет. Впрочем, Эрл не больно-то ее обеспечивал.
Несомненно, у дома моего деда имелся какой-то фасад, но я его не помню. Здание было, как я уже говорил, деревянным и вроде бы белым, хотя оно могло показаться таковым из-за снега. Как раз перед тем, как мы приехали (точнее, за несколько минут до того – ведь я, как и все маленькие дети, был уверен, что любая поездка заканчивается, едва начавшись), я начал опасаться, что дом окажется невзаправдашним – то есть не деревянным, а кирпичным или каменным, как другие такие же, в каком-то смысле противоестественные и похожие на театральные декорации (или даже нечто еще более нереальное, ведь в тот период ни термин, ни понятие как таковое не были мне знакомы), служащие – как я считал – лишь для того, чтобы отгородить улицы от чего-то иного; населенные людьми, судя по всему, но пригодные для троллей (а в этих существ я верил еще много лет после того Рождества, как верил, если уж на то пошло, и в Санта-Клауса).
Но дом был сколочен из надежных досок – такой не рухнет, а если и рухнет, то не навалится тяжким бременем. Дедушка и его экономка встретили нас на крыльце; в этом воспоминании я уверен. У всех дыхание превращалось в пар, и пока мама рылась в сумочке, дедушка расплатился с мужчиной, который нас привез. Миссис Кроуфорд, которая вышла на улицу в одном длинном платье, не накинув пальто, обняла меня и попросила звать ее Мэб; от нее пахло душистой пудрой и по?том, а также постирочным днем, какие устраивали в то время: грязной водой, разогретой на угольной плите. Звучит неприятно, но ощущалось иначе. Эти запахи – за исключением пудры, так как моя мать, тетя Оливия и другие женщины, которых я знал, пользовались другими марками, – были знакомыми и гораздо менее чуждыми, чем запахи железнодорожного вагона, в котором мы приехали.
Помню, какая суматоха воцарилась на скрипучих ступеньках крыльца, пока мы толкались, обнимались, расплачивались с водителем, разгружали багаж и приветствовали друг друга, и еще помню, как застывало в холодном воздухе дыхание и заметало снежком грязную сетчатую дверь, видневшуюся за приоткрытой на четверть настоящей дверью. Внутри стояла пузатая печка, и когда мы к ней подошли, белокурая Мэб попыталась помочь мне снять калоши, но пятки застряли, так что в конце концов маме пришлось ненадолго оставить дедушку и заняться мной. Потолки во всех комнатах были очень высокими, и там стояла большая рождественская елка, украшенная игрушками, шарами и незажженными свечами, а еще печеньем с присыпанной драже глазурью из яичного белка со свекольным соком.
За ужином я заметил (стоит подчеркнуть, когда я рассказываю, как что-то заметил, почувствовал или испытал, моя вера в правдивость рассказа сродни религиозному чувству – а ведь, может статься, единственная причина, по которой детские воспоминания так сильно на нас влияют, заключается в том, что из всего багажа памяти они самые отдаленные, вследствие чего самые зыбкие, и в наименьшей степени сопротивляются тому процессу, посредством которого мы подгоняем их под идеал, по сути представляющий собой художественный вымысел или, по крайней мере, нечто далекое от реальности; поэтому вполне вероятно, что некоторые из описанных мною событий вообще не происходили, но должны были произойти, а другие не имели тех оттенков или привкусов – к примеру, ревности, старины или стыда, – которые я позже бессознательно предпочел им придать), что хотя дедушка называл миссис Кроуфорд «Мэб» – несомненно, следуя привычке, – она называла его «мистер Эллиот»; и тут крылось нечто новое в их отношениях, причем она была довольна собой и считала, что культивирует смирение ради высшего блага – в те времена, стоило взрослым приступить к обсуждению подобных эмоций, неизменно всплывало выражение «образцовый христианин». Дедушку, по-моему, смущало это новоявленное почтение, он знал, что оно фальшивое, а также понимал, что моя мать распознает фальшь (что, несомненно, случилось еще до конца трапезы), от чего в нем пробудились стыд и гнев. Он оскорбил миссис Кроуфорд в том грубом деревенском стиле, который они оба понимали, сказав своей дочери (уплетая клецки за обе щеки), что не ел как следует с тех пор, как ее собственная мать «покинула этот мир» – дескать, кое-кто целыми днями бездельничает, поскольку заботиться нужно лишь об одном человеке, в отличие от нее, Деллы, которой «этот маленький негодник не дает сомкнуть глаз ни днем ни ночью, да еще и за благоверным надо присматривать». Это, конечно, выводило за скобки Ханну, о чьем существовании он наверняка знал: готовкой и тяжелой домашней работой занималась именно она. Стены столовой были увешаны сепиевыми фотографиями гарцующих лошадей, единственным исключением оставалось пространство прямо за головой деда, полностью скрытое из его поля зрения, когда он сидел за столом: там висел большой портрет женщины в величественном и сложном одеянии восьмидесятых годов девятнадцатого века – моей бабушки по материнской линии, ее звали Эвадна.
Когда трапеза закончилась, меня раздели и уложили в постель совместными усилиями матери и Мэб, которая пришла с нами, неся лампу, – не для того, как она сказала, чтобы показать путь, который, по ее заверениям, моя мама должна была знать гораздо лучше, чем она сама, а потому что «будет неправильно, если вы подниметесь к себе без провожатых, едва приехав, нельзя так поступать, и я бы ночью глаз не сомкнула, если бы такое учудила; не спала бы ни секундочки, миссис Вир». «Зовите меня Делла», – сказала мама, и миссис Кроуфорд от этого так разволновалась, что едва не выронила лампу.
Когда она ушла, мать принялась осматривать комнату, где, по ее словам, жила в детстве.
– Это была моя кровать, – сказала она, указывая на ту, на которой сидела минуту назад, – а другая принадлежала твоей тете Арабелле.
Я спросил, должен ли я спать в ней, и она сказала, что мы можем спать вместе, если мне так хочется. Я пробежал по холодному полу – тряпичный коврик не слишком защищал от холода – и сел на середину кровати, наблюдая за мамой.
– У нас тут был кукольный домик, – сказала она, – между слуховыми окнами.
– Мама, я получу кукольный домик на Рождество?
– Нет, глупыш, кукольные домики для девочек. Ты получишь игрушки для мальчиков.
Я сожалел об этом; у моей подруги по играм (девочки, хотя до того момента я не понимал, что этот факт как-то связан с игрушками) был большой и красиво расписанный кукольный домик со съемными стенами. Я несколько раз играл с ним, и поскольку видел его часто, мог вообразить во всех подробностях – а теперь вышло так, что мне никогда не обнаружить его под рождественской елкой; домик уплыл в туманное царство невозможного, как раз когда я решил, что он совсем близко. Я собирался расставить в нем своих игрушечных солдатиков, чтобы они стреляли из окон.
– Книга, – сказала мама после долгой паузы, на протяжении которой изучала содержимое шкафов. – Санта может принести тебе книгу, Ден.
Мне нравились книги, но я сомневался, что Санта-Клаус посещает какой-либо другой дом, кроме нашего – в особенности если речь шла о домах за пределами Кассионсвилла. Что уж говорить об этом странном, тихом жилище, пропитанном запахами старой одежды, которую много лет не вынимали из шкафа. Я спросил маму, и она сказала, что предупредила Санту о нашем приезде.
– А дедушке Санта что-нибудь принесет?
– Если он был хорошим мальчиком. Отвернись, Ден. Посмотри на стену. Мама хочет раздеться.
Когда лампа погасла, весь дом погрузился в безмолвие. Даже с закрытыми глазами я чувствовал, как снаружи тихо падает снег; еще я понимал, что мы единственные люди на этом этаже, пока наконец, как мне показалось, очень поздно, не услышал, как Мэб устало поднимается по лестнице, чтобы лечь спать в комнате, которая – как впоследствии рассказала мне мама – во времена ее детства принадлежала маме бабушки Ванти. Мне было тепло там, где спина прижималась к спине матери, ужасно холодно в прочих местах, несмотря на сокрушительную тяжесть стеганых одеял и перин; отчасти, без сомнения, потому, что я так устал, а еще потому, что южный дом не привык к холоду, который обрушился на него в ту ночь, – ведь это был просторный, продуваемый сквозняками особняк, даже в разгар зимы грезивший о спокойных, жарких вечерах, о качелях на крыльце и жужжании комаров. Мама спала, а я – нет. Под кроватью стоял ночной горшок; я воспользовался им и снова вернулся в тепло одеял, не испытывая облегчения.
Наконец, совершенно уверенный в том, что пролежал без сна почти всю ночь и что рассвет, наверное, уже посерел в окнах (хотя мой «рассвет» оказался не более чем сиянием луны на свежевыпавшем снегу снаружи), я прокрался вниз, чтобы погреться у печки в гостиной и посмотреть на рождественскую елку, пусть и считал, что подарки – если я вообще их получу – ждут меня дома, на том месте, где стояла бы наша елка, будь она у нас, или под каминной полкой без чулок. Я имел лишь смутное представление о плане этого жилища; помню, как несколько раз натыкался на не те комнаты – большую кухню, столовую с лошадьми, гарцующими по стенам, похожую на музей гостиную с чучелом какой-то большой птицы под стеклянным колпаком на центральном столе, словно предназначенным для компании (если компания когда-нибудь вновь придет сюда, если найдется общество, достойное этой гостиной с ее хрустальными чашами и восковыми фруктами, мебелью из конского волоса и фонографом, помню, как над ним немыслимым цветком ипомеи распустился рупор), которая должна была сидеть и изучать нетронутое пылью оперение; словно это был симург, последний в целом мире; словно дед решил организовать сборище натуралистов – и, возможно, птица на самом деле была такой и он действительно готовился принять у себя таких людей.
Дверь в нужную комнату, «повседневную гостиную», была закрыта, но я увидел желтую, как масло, полоску света у основания. Думал ли я, что это свет из печи, проникающий сквозь слюдяное окошко, или что кто-то оставил непогашенную лампу, или солнце светит в восточное окно – не забывайте, я был твердо убежден, что наступило утро, – теперь и сам не знаю; вероятно, я не стал тратить время на размышления. Я открыл дверь (не ручкой, которая поворачивалась, как у нас дома – а еще у нас было газовое освещение и керосином пользовались только тогда, когда приходилось куда-то нести лампу, так что в доме деда мне поначалу все время казалось, что происходит нечто чрезвычайное, – а странной защелкой, та сразу поддалась под нажимом моего большого пальца), и тут же ласковый желтый свет – нежный, как двухдневный цыпленок, как цветок одуванчика, и куда более яркий – хлынул наружу, и я с изумлением увидел, что все свечи на рождественской елке горят, каждая вытянулась по струнке на конце ветки, словно увенчанный пламенем белый призрак. Я направился к дереву, но, кажется, на полпути застыл как вкопанный. Елка блистала на фоне темного оконного стекла; за ним, далеко-далеко, сверкали звезды, отражаясь в реке; меж ветвями двигался лучистый пароход, с такого расстояния миниатюрнее и ярче любой игрушки. Под деревом и между нижними ветвями были сложены и втиснуты подарки, но я их почти не видел.
– М-да, похоже, ты опоздал, – проговорил дедушка, причудливо растянув первое слово. – Старина Ник уже ушел.
Я ничего не ответил, поначалу не видя его в углу, где он сидел в огромном старом дубовом кресле-качалке с вырезанной на высоком подголовнике маской.
– Он пришел, оставил всякие штуки, зажег свечи и вышел через дымоход. Взгляни-ка на часы вон там – уже за полночь. Он почти всегда приходит в двенадцать и не канителится. Я сам только спустился, чтобы взглянуть на эти свечи, прежде чем потушить их и лечь спать. Когда-то, много лет назад, я так и делал после того, как он уйдет. Ты умеешь определять время, младой Вир?
Меня звали не Младой, но я знал, что он имеет в виду меня, и покачал головой.
– Думаю, ты можешь взглянуть разочек. А потом вернешься в постель. Или уже насмотрелся?
– У нас дома нет свечей на елке.
– Твой отец, наверное, боится пожара. Что ж, всякое бывает. Я довольно быстро пришел следом за Ником, чтобы их задуть, а еще сам срубил это дерево меньше двух дней назад. Когда твоя мама была маленькой, они с сестрицей бегали подглядывать. Наверное, она уже про все забыла – а может, послала тебя.
– Она спит.
– Хочешь кинуть взгляд, что принес Ник?
Я кивнул.
– Ну, твой подарок я не покажу, а вот на остальные, думаю, поглядеть стоит. Итак, давай посмотрим.
Он поднялся из кресла: высокий, в темной одежде; на подбородке торчат жесткие черные волоски, словно столбики забора, которые обмакнули в креозот. Опираясь на трость, дедушка присел вместе со мной возле елки.
– Вот это твой подарок, – он показал мне тяжелый прямоугольный пакет с примятым бантом. – И еще этот. – Коробочка, в которой что-то дребезжало. – Тебе понравится. Ну, я надеюсь, что понравится.
– А можно сейчас открыть?
Дедушка покачал головой.
– Дождись завтрака. Теперь смотри сюда. – Он взял большую и тяжелую коробку, в которой что-то булькало, когда ее наклоняли. – Это туалетная вода для Мэб. А вот здесь… – Коробочка поменьше, перевязанная красной лентой. – Подожди чуток… – Он аккуратно снял ленту, и коробочка приоткрылась, словно раковина из синей кожи. – Это для твоей мамули. Знаешь, как такое называется? Жемчуг. – Он поднял нить, чтобы я полюбовался ею в сиянии свечей. – Все как на подбор, одинаковые. А сзади серебряный замочек с бриллиантами.
Я кивнул, впечатленный: мама уже донесла до меня важность своей шкатулки для драгоценностей, и я принял мудрое решение не прикасаться к священному сокровищу даже кончиком пальца.
– По-твоему, они ярко блестят? – спросил дедушка. – Дождись, пока она их увидит, и посмотри в ее глаза. Когда Ванти покинула этот мир, я взял все, что мы не отправили вместе с нею в могилу, и поделил между Беллой и Деллой. Так-то я многое повидал, но среди тех украшений не было ничего и вполовину столь изысканного – я ей такого не дарил, от матушки она такого не получила. А теперь ступай-ка в постель.
И словно по волшебству – возможно, это оно и было, поскольку я верю в волшебную суть Америки и в то, что мы, канувшие в Лету американцы, некогда были обитающим в нем волшебным народом, ныне ожидающим возможности предстать перед непостижимым грядущим поколением, как безымянные племена домикенской эпохи предстали перед греками; только дайте сигнал, и мы начнем шнырять, играя на дудочке, в еще не выросших рощах, а женщины наши в облике ламий поселятся среди розово-красных холмов, руин Чикаго и Индианаполиса, в то время как кроны деревьев поднимутся выше сто двадцать пятого этажа, – я снова оказался в постели, и старый дом покачивался в тишине, как будто привязанный к вселенной единственной нитью, свитой из печного дыма.
На следующее утро я проснулся в объятиях матери, мое лицо было холодным, но все остальное – теплым. Мы отнесли наши вещи на кухню и оделись там, обнаружив, что Мэб уже встала, готовит и греет воду, чтобы дед мог срезать щетину на подбородке своей большой бритвой; он лишь раз в неделю брился таким образом, но в Рождество, великий день, собирался сделать исключение. Она дала мне сахарное печенье с огромной изюминой посередине, чтобы заморить червячка, пока не готовы овсянка, ветчина и яйца, холодное молоко из примыкающего к заднему крыльцу «ледника», кофе – оказалось, и мне по традиции полагалась порция, чего никогда не случалось дома, – а также печенье и домашние пончики. Я, конечно, охотнее заглянул бы под елку, но об этом – как объяснила мама, согласно правилам дома – не могло быть и речи. Сначала завтрак. Этому покойная и мною забытая бабушка Ванти суровой рукой учила мою маму и ее сестру на протяжении всего их детства; и этому она и ее отец были полны решимости научить меня, хотя я всерьез подозревал, что в моем чулке найдутся апельсины (которые я всегда любил) и орехи, которые оказались бы куда лучшим перекусом, чем любое сахарное печенье. Мама несколько раз наведывалась в гостиную в промежутках между попытками помочь Мэб (такое же подобие помощи она оказывала Ханне дома) с приготовлением еды, но при этом клялась, что не ходила дальше двери; а мне даже не разрешили покидать кухню. Дед спустился вниз и сбрил щетину вокруг бороды в углу, где висело зеркало, – я впервые заметил, что он ниже ростом, чем мой отец. Он не обращал внимания на женщин, пока не покончил с этим занятием, а потом сел во главе стола, и мама сразу же налила ему кофе.
– Самое холодное Рождество на моей памяти, – сказала Мэб. – Снег на крыльце вот такой глубокий. – Она сделала преувеличенный жест, расставив руки на три-четыре фута. – Полагаю, нас заметет.
– Глупости говоришь, Мэб, – произнёс дедушка.
От его слов она улыбнулась, на пухлых щеках появились ямочки; она запустила пальцы, слегка влажные от разбитых яиц, в свои волосы цвета масла.
– Ну чего вы так, мистер Эллиот!
– К полудню все пройдет, – встряла мама. – Какая жалость. Снег такой красивый.
Дед сказал:
– Послушал бы я твои похвалы снегу, если бы тебе пришлось топать по нему, чтобы накидать сена лошадям.
Мэб пихнула маму локтем.
– Держу пари, вы бы хотели, чтобы мисс Белла была здесь! Вы бы с ней пуляли в него снежками!
– А я и так могу, – заявила мама. – Попрошу Дена помочь мне, если вы не захотите.
Несомненно, у дома моего деда имелся какой-то фасад, но я его не помню. Здание было, как я уже говорил, деревянным и вроде бы белым, хотя оно могло показаться таковым из-за снега. Как раз перед тем, как мы приехали (точнее, за несколько минут до того – ведь я, как и все маленькие дети, был уверен, что любая поездка заканчивается, едва начавшись), я начал опасаться, что дом окажется невзаправдашним – то есть не деревянным, а кирпичным или каменным, как другие такие же, в каком-то смысле противоестественные и похожие на театральные декорации (или даже нечто еще более нереальное, ведь в тот период ни термин, ни понятие как таковое не были мне знакомы), служащие – как я считал – лишь для того, чтобы отгородить улицы от чего-то иного; населенные людьми, судя по всему, но пригодные для троллей (а в этих существ я верил еще много лет после того Рождества, как верил, если уж на то пошло, и в Санта-Клауса).
Но дом был сколочен из надежных досок – такой не рухнет, а если и рухнет, то не навалится тяжким бременем. Дедушка и его экономка встретили нас на крыльце; в этом воспоминании я уверен. У всех дыхание превращалось в пар, и пока мама рылась в сумочке, дедушка расплатился с мужчиной, который нас привез. Миссис Кроуфорд, которая вышла на улицу в одном длинном платье, не накинув пальто, обняла меня и попросила звать ее Мэб; от нее пахло душистой пудрой и по?том, а также постирочным днем, какие устраивали в то время: грязной водой, разогретой на угольной плите. Звучит неприятно, но ощущалось иначе. Эти запахи – за исключением пудры, так как моя мать, тетя Оливия и другие женщины, которых я знал, пользовались другими марками, – были знакомыми и гораздо менее чуждыми, чем запахи железнодорожного вагона, в котором мы приехали.
Помню, какая суматоха воцарилась на скрипучих ступеньках крыльца, пока мы толкались, обнимались, расплачивались с водителем, разгружали багаж и приветствовали друг друга, и еще помню, как застывало в холодном воздухе дыхание и заметало снежком грязную сетчатую дверь, видневшуюся за приоткрытой на четверть настоящей дверью. Внутри стояла пузатая печка, и когда мы к ней подошли, белокурая Мэб попыталась помочь мне снять калоши, но пятки застряли, так что в конце концов маме пришлось ненадолго оставить дедушку и заняться мной. Потолки во всех комнатах были очень высокими, и там стояла большая рождественская елка, украшенная игрушками, шарами и незажженными свечами, а еще печеньем с присыпанной драже глазурью из яичного белка со свекольным соком.
За ужином я заметил (стоит подчеркнуть, когда я рассказываю, как что-то заметил, почувствовал или испытал, моя вера в правдивость рассказа сродни религиозному чувству – а ведь, может статься, единственная причина, по которой детские воспоминания так сильно на нас влияют, заключается в том, что из всего багажа памяти они самые отдаленные, вследствие чего самые зыбкие, и в наименьшей степени сопротивляются тому процессу, посредством которого мы подгоняем их под идеал, по сути представляющий собой художественный вымысел или, по крайней мере, нечто далекое от реальности; поэтому вполне вероятно, что некоторые из описанных мною событий вообще не происходили, но должны были произойти, а другие не имели тех оттенков или привкусов – к примеру, ревности, старины или стыда, – которые я позже бессознательно предпочел им придать), что хотя дедушка называл миссис Кроуфорд «Мэб» – несомненно, следуя привычке, – она называла его «мистер Эллиот»; и тут крылось нечто новое в их отношениях, причем она была довольна собой и считала, что культивирует смирение ради высшего блага – в те времена, стоило взрослым приступить к обсуждению подобных эмоций, неизменно всплывало выражение «образцовый христианин». Дедушку, по-моему, смущало это новоявленное почтение, он знал, что оно фальшивое, а также понимал, что моя мать распознает фальшь (что, несомненно, случилось еще до конца трапезы), от чего в нем пробудились стыд и гнев. Он оскорбил миссис Кроуфорд в том грубом деревенском стиле, который они оба понимали, сказав своей дочери (уплетая клецки за обе щеки), что не ел как следует с тех пор, как ее собственная мать «покинула этот мир» – дескать, кое-кто целыми днями бездельничает, поскольку заботиться нужно лишь об одном человеке, в отличие от нее, Деллы, которой «этот маленький негодник не дает сомкнуть глаз ни днем ни ночью, да еще и за благоверным надо присматривать». Это, конечно, выводило за скобки Ханну, о чьем существовании он наверняка знал: готовкой и тяжелой домашней работой занималась именно она. Стены столовой были увешаны сепиевыми фотографиями гарцующих лошадей, единственным исключением оставалось пространство прямо за головой деда, полностью скрытое из его поля зрения, когда он сидел за столом: там висел большой портрет женщины в величественном и сложном одеянии восьмидесятых годов девятнадцатого века – моей бабушки по материнской линии, ее звали Эвадна.
Когда трапеза закончилась, меня раздели и уложили в постель совместными усилиями матери и Мэб, которая пришла с нами, неся лампу, – не для того, как она сказала, чтобы показать путь, который, по ее заверениям, моя мама должна была знать гораздо лучше, чем она сама, а потому что «будет неправильно, если вы подниметесь к себе без провожатых, едва приехав, нельзя так поступать, и я бы ночью глаз не сомкнула, если бы такое учудила; не спала бы ни секундочки, миссис Вир». «Зовите меня Делла», – сказала мама, и миссис Кроуфорд от этого так разволновалась, что едва не выронила лампу.
Когда она ушла, мать принялась осматривать комнату, где, по ее словам, жила в детстве.
– Это была моя кровать, – сказала она, указывая на ту, на которой сидела минуту назад, – а другая принадлежала твоей тете Арабелле.
Я спросил, должен ли я спать в ней, и она сказала, что мы можем спать вместе, если мне так хочется. Я пробежал по холодному полу – тряпичный коврик не слишком защищал от холода – и сел на середину кровати, наблюдая за мамой.
– У нас тут был кукольный домик, – сказала она, – между слуховыми окнами.
– Мама, я получу кукольный домик на Рождество?
– Нет, глупыш, кукольные домики для девочек. Ты получишь игрушки для мальчиков.
Я сожалел об этом; у моей подруги по играм (девочки, хотя до того момента я не понимал, что этот факт как-то связан с игрушками) был большой и красиво расписанный кукольный домик со съемными стенами. Я несколько раз играл с ним, и поскольку видел его часто, мог вообразить во всех подробностях – а теперь вышло так, что мне никогда не обнаружить его под рождественской елкой; домик уплыл в туманное царство невозможного, как раз когда я решил, что он совсем близко. Я собирался расставить в нем своих игрушечных солдатиков, чтобы они стреляли из окон.
– Книга, – сказала мама после долгой паузы, на протяжении которой изучала содержимое шкафов. – Санта может принести тебе книгу, Ден.
Мне нравились книги, но я сомневался, что Санта-Клаус посещает какой-либо другой дом, кроме нашего – в особенности если речь шла о домах за пределами Кассионсвилла. Что уж говорить об этом странном, тихом жилище, пропитанном запахами старой одежды, которую много лет не вынимали из шкафа. Я спросил маму, и она сказала, что предупредила Санту о нашем приезде.
– А дедушке Санта что-нибудь принесет?
– Если он был хорошим мальчиком. Отвернись, Ден. Посмотри на стену. Мама хочет раздеться.
Когда лампа погасла, весь дом погрузился в безмолвие. Даже с закрытыми глазами я чувствовал, как снаружи тихо падает снег; еще я понимал, что мы единственные люди на этом этаже, пока наконец, как мне показалось, очень поздно, не услышал, как Мэб устало поднимается по лестнице, чтобы лечь спать в комнате, которая – как впоследствии рассказала мне мама – во времена ее детства принадлежала маме бабушки Ванти. Мне было тепло там, где спина прижималась к спине матери, ужасно холодно в прочих местах, несмотря на сокрушительную тяжесть стеганых одеял и перин; отчасти, без сомнения, потому, что я так устал, а еще потому, что южный дом не привык к холоду, который обрушился на него в ту ночь, – ведь это был просторный, продуваемый сквозняками особняк, даже в разгар зимы грезивший о спокойных, жарких вечерах, о качелях на крыльце и жужжании комаров. Мама спала, а я – нет. Под кроватью стоял ночной горшок; я воспользовался им и снова вернулся в тепло одеял, не испытывая облегчения.
Наконец, совершенно уверенный в том, что пролежал без сна почти всю ночь и что рассвет, наверное, уже посерел в окнах (хотя мой «рассвет» оказался не более чем сиянием луны на свежевыпавшем снегу снаружи), я прокрался вниз, чтобы погреться у печки в гостиной и посмотреть на рождественскую елку, пусть и считал, что подарки – если я вообще их получу – ждут меня дома, на том месте, где стояла бы наша елка, будь она у нас, или под каминной полкой без чулок. Я имел лишь смутное представление о плане этого жилища; помню, как несколько раз натыкался на не те комнаты – большую кухню, столовую с лошадьми, гарцующими по стенам, похожую на музей гостиную с чучелом какой-то большой птицы под стеклянным колпаком на центральном столе, словно предназначенным для компании (если компания когда-нибудь вновь придет сюда, если найдется общество, достойное этой гостиной с ее хрустальными чашами и восковыми фруктами, мебелью из конского волоса и фонографом, помню, как над ним немыслимым цветком ипомеи распустился рупор), которая должна была сидеть и изучать нетронутое пылью оперение; словно это был симург, последний в целом мире; словно дед решил организовать сборище натуралистов – и, возможно, птица на самом деле была такой и он действительно готовился принять у себя таких людей.
Дверь в нужную комнату, «повседневную гостиную», была закрыта, но я увидел желтую, как масло, полоску света у основания. Думал ли я, что это свет из печи, проникающий сквозь слюдяное окошко, или что кто-то оставил непогашенную лампу, или солнце светит в восточное окно – не забывайте, я был твердо убежден, что наступило утро, – теперь и сам не знаю; вероятно, я не стал тратить время на размышления. Я открыл дверь (не ручкой, которая поворачивалась, как у нас дома – а еще у нас было газовое освещение и керосином пользовались только тогда, когда приходилось куда-то нести лампу, так что в доме деда мне поначалу все время казалось, что происходит нечто чрезвычайное, – а странной защелкой, та сразу поддалась под нажимом моего большого пальца), и тут же ласковый желтый свет – нежный, как двухдневный цыпленок, как цветок одуванчика, и куда более яркий – хлынул наружу, и я с изумлением увидел, что все свечи на рождественской елке горят, каждая вытянулась по струнке на конце ветки, словно увенчанный пламенем белый призрак. Я направился к дереву, но, кажется, на полпути застыл как вкопанный. Елка блистала на фоне темного оконного стекла; за ним, далеко-далеко, сверкали звезды, отражаясь в реке; меж ветвями двигался лучистый пароход, с такого расстояния миниатюрнее и ярче любой игрушки. Под деревом и между нижними ветвями были сложены и втиснуты подарки, но я их почти не видел.
– М-да, похоже, ты опоздал, – проговорил дедушка, причудливо растянув первое слово. – Старина Ник уже ушел.
Я ничего не ответил, поначалу не видя его в углу, где он сидел в огромном старом дубовом кресле-качалке с вырезанной на высоком подголовнике маской.
– Он пришел, оставил всякие штуки, зажег свечи и вышел через дымоход. Взгляни-ка на часы вон там – уже за полночь. Он почти всегда приходит в двенадцать и не канителится. Я сам только спустился, чтобы взглянуть на эти свечи, прежде чем потушить их и лечь спать. Когда-то, много лет назад, я так и делал после того, как он уйдет. Ты умеешь определять время, младой Вир?
Меня звали не Младой, но я знал, что он имеет в виду меня, и покачал головой.
– Думаю, ты можешь взглянуть разочек. А потом вернешься в постель. Или уже насмотрелся?
– У нас дома нет свечей на елке.
– Твой отец, наверное, боится пожара. Что ж, всякое бывает. Я довольно быстро пришел следом за Ником, чтобы их задуть, а еще сам срубил это дерево меньше двух дней назад. Когда твоя мама была маленькой, они с сестрицей бегали подглядывать. Наверное, она уже про все забыла – а может, послала тебя.
– Она спит.
– Хочешь кинуть взгляд, что принес Ник?
Я кивнул.
– Ну, твой подарок я не покажу, а вот на остальные, думаю, поглядеть стоит. Итак, давай посмотрим.
Он поднялся из кресла: высокий, в темной одежде; на подбородке торчат жесткие черные волоски, словно столбики забора, которые обмакнули в креозот. Опираясь на трость, дедушка присел вместе со мной возле елки.
– Вот это твой подарок, – он показал мне тяжелый прямоугольный пакет с примятым бантом. – И еще этот. – Коробочка, в которой что-то дребезжало. – Тебе понравится. Ну, я надеюсь, что понравится.
– А можно сейчас открыть?
Дедушка покачал головой.
– Дождись завтрака. Теперь смотри сюда. – Он взял большую и тяжелую коробку, в которой что-то булькало, когда ее наклоняли. – Это туалетная вода для Мэб. А вот здесь… – Коробочка поменьше, перевязанная красной лентой. – Подожди чуток… – Он аккуратно снял ленту, и коробочка приоткрылась, словно раковина из синей кожи. – Это для твоей мамули. Знаешь, как такое называется? Жемчуг. – Он поднял нить, чтобы я полюбовался ею в сиянии свечей. – Все как на подбор, одинаковые. А сзади серебряный замочек с бриллиантами.
Я кивнул, впечатленный: мама уже донесла до меня важность своей шкатулки для драгоценностей, и я принял мудрое решение не прикасаться к священному сокровищу даже кончиком пальца.
– По-твоему, они ярко блестят? – спросил дедушка. – Дождись, пока она их увидит, и посмотри в ее глаза. Когда Ванти покинула этот мир, я взял все, что мы не отправили вместе с нею в могилу, и поделил между Беллой и Деллой. Так-то я многое повидал, но среди тех украшений не было ничего и вполовину столь изысканного – я ей такого не дарил, от матушки она такого не получила. А теперь ступай-ка в постель.
И словно по волшебству – возможно, это оно и было, поскольку я верю в волшебную суть Америки и в то, что мы, канувшие в Лету американцы, некогда были обитающим в нем волшебным народом, ныне ожидающим возможности предстать перед непостижимым грядущим поколением, как безымянные племена домикенской эпохи предстали перед греками; только дайте сигнал, и мы начнем шнырять, играя на дудочке, в еще не выросших рощах, а женщины наши в облике ламий поселятся среди розово-красных холмов, руин Чикаго и Индианаполиса, в то время как кроны деревьев поднимутся выше сто двадцать пятого этажа, – я снова оказался в постели, и старый дом покачивался в тишине, как будто привязанный к вселенной единственной нитью, свитой из печного дыма.
На следующее утро я проснулся в объятиях матери, мое лицо было холодным, но все остальное – теплым. Мы отнесли наши вещи на кухню и оделись там, обнаружив, что Мэб уже встала, готовит и греет воду, чтобы дед мог срезать щетину на подбородке своей большой бритвой; он лишь раз в неделю брился таким образом, но в Рождество, великий день, собирался сделать исключение. Она дала мне сахарное печенье с огромной изюминой посередине, чтобы заморить червячка, пока не готовы овсянка, ветчина и яйца, холодное молоко из примыкающего к заднему крыльцу «ледника», кофе – оказалось, и мне по традиции полагалась порция, чего никогда не случалось дома, – а также печенье и домашние пончики. Я, конечно, охотнее заглянул бы под елку, но об этом – как объяснила мама, согласно правилам дома – не могло быть и речи. Сначала завтрак. Этому покойная и мною забытая бабушка Ванти суровой рукой учила мою маму и ее сестру на протяжении всего их детства; и этому она и ее отец были полны решимости научить меня, хотя я всерьез подозревал, что в моем чулке найдутся апельсины (которые я всегда любил) и орехи, которые оказались бы куда лучшим перекусом, чем любое сахарное печенье. Мама несколько раз наведывалась в гостиную в промежутках между попытками помочь Мэб (такое же подобие помощи она оказывала Ханне дома) с приготовлением еды, но при этом клялась, что не ходила дальше двери; а мне даже не разрешили покидать кухню. Дед спустился вниз и сбрил щетину вокруг бороды в углу, где висело зеркало, – я впервые заметил, что он ниже ростом, чем мой отец. Он не обращал внимания на женщин, пока не покончил с этим занятием, а потом сел во главе стола, и мама сразу же налила ему кофе.
– Самое холодное Рождество на моей памяти, – сказала Мэб. – Снег на крыльце вот такой глубокий. – Она сделала преувеличенный жест, расставив руки на три-четыре фута. – Полагаю, нас заметет.
– Глупости говоришь, Мэб, – произнёс дедушка.
От его слов она улыбнулась, на пухлых щеках появились ямочки; она запустила пальцы, слегка влажные от разбитых яиц, в свои волосы цвета масла.
– Ну чего вы так, мистер Эллиот!
– К полудню все пройдет, – встряла мама. – Какая жалость. Снег такой красивый.
Дед сказал:
– Послушал бы я твои похвалы снегу, если бы тебе пришлось топать по нему, чтобы накидать сена лошадям.
Мэб пихнула маму локтем.
– Держу пари, вы бы хотели, чтобы мисс Белла была здесь! Вы бы с ней пуляли в него снежками!
– А я и так могу, – заявила мама. – Попрошу Дена помочь мне, если вы не захотите.