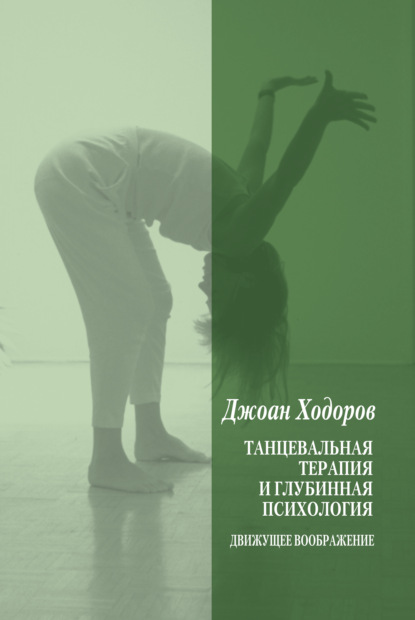По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Танцевальная психотерапия и глубинная психология
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Моя история
Глава 1
От танца к танцетерапии
Балетом я начала заниматься в семь лет. Моя первая учительница – Джейн Денхэм, чудесная молодая женщина – на каждом занятии уделяла время и изучению основ классического танца, и свободной импровизации. Маленькие ученицы по очереди входили в «магический круг», который открывал им путь в воображаемый мир, где можно было общаться с разными волшебными существами и даже перевоплощаться в них. Для меня танец не просто стал захватывающей и притягательной учебной дисциплиной, но и открыл возможность для самой настоящей игры воображения.
В подростковом возрасте я приступила к углубленным занятиям с Кармелитой Марачи, великой танцовщицей и педагогом. Наши ежедневные уроки стали главным в моей жизни. От своих учеников она требовала полной отдачи и закладывала основы балетной техники в строгой классической традиции. Но техника танца никогда не становилась для нее самоцелью; скорее она была средством, необходимым для выражения ярких образов, чтобы уметь передавать высоты и глубины человеческих переживаний. Музыка, эмоции и танец сливались в единое целое. Обычно Кармелите аккомпанировали концертирующие пианисты, игравшие с большим чувством. Музыка вызывала у многих учеников слезы, так что временами мы танцевали и плакали одновременно. Преодоление ноющей боли в мышцах и в пальцах ног, порою сбитых до крови,– неотъемлемая часть жизни любого танцора, и борьба с этими муками даже придавала особую выразительность танцу.
Затем я стала профессиональной танцовщицей и узнала совершенно иной подход к танцу. На протяжении нескольких лет я бралась за любую работу, которую удавалось найти. Приходилось танцевать в ночных клубах, участвовать в мюзиклах и других развлекательных представлениях. Иногда это была чудесная работа, особенно если мне выпадала честь сотрудничать с хорошим хореографом. Но чаще работа угнетала: в ней не хватало образных, эмоциональных переживаний – того главного, что заставляло меня танцевать в детстве.
Я стала преподавать. Вначале в перерывах между работой. Но со временем обучение стало доставлять мне большее удовлетворение, чем выступление на публике. Преподавание танца, особенно детям, помогло мне вновь прикоснуться к источнику истинного творчества.
Когда мне исполнилось чуть больше двадцати, я полностью отдалась преподаванию. Я открыла собственную школу в восточном Лос?Анджелесе, а также давала уроки в других городских школах и учебных центрах. Мне нравилось учить, и я старалась дать детям, с которыми работала, то же благотворное единение классической балетной техникой и игрой воображения, которое стало для меня столь важным. Вначале я хотела готовить профессиональных танцоров. Но однажды, когда меня попросили заниматься с группой трехлетних детишек, весь мир вокруг меня кардинально изменился. Они были слишком малы, чтобы осваивать какую?либо балетную технику, поэтому в работе с ними мне пришлось искать новый поход. Наблюдая за ними, я осознавала, что все их действия отражают окружающий мир в движении: они имитировали то, что видели. Когда они вспоминали что?либо, они воспроизводили это воспоминание в действии. Для меня явилось откровением, что дети знакомятся с миром и самими собой посредством своего телесного опыта.
Им нравились жуки. Поэтому мы долго рассматривали найденных жуков, придумывали разные «жучиные походки» и ходили так по студии. Если какой?то малыш получал ссадину или царапину, все остальные изучали ее с величайшим интересом. На каждом занятии мы тратили какое?то время на то, что собирались в круг и все по очереди демонстрировали свежие «болячки», а затем с помощью пантомимы показывали, как они их заполучили. Мы строили города воображаемыми инструментами и из воображаемых материалов. Мы по?своему проживали в танце все праздники: представляя то, как мы готовим еду, одеваемся в народные костюмы и разыгрываем историю того или иного народа. Мы превращались в самых разных диких животных. А еще мы изображали кошек, собачек и других домашних питомцев. Мы представляли себя учителями, мамами, папами, старшими и младшими братьями и сестрами. Мы изображали в танце гусениц и свивали из себя коконы, в которых мирно спали до тех пор, пока не наступало время вырваться бабочкой (к собственному великому изумлению) из кокона на волю. Понятия «танец» и «превращение» стали синонимами.
Занимаясь с такими маленькими детьми в танцевальной студии, я стала интересоваться преподаванием танцев в детских садах. Через дорогу напротив моей студии располагался детский сад Хэйта. Я начала сотрудничать с его директором Этель Янг. Мы разработали ряд программ и методических руководств для учителей по роли искусства в образовании маленьких детей. Мы считали, что все виды искусства: танец, живопись, лепка из глины, декорирование – это язык, с помощью которого дети выражали свой опыт и интерпретировали его. Этель помогла мне понять, что так называемый «процесс детского развития» неразрывно связан с процессом творчества. В эти годы, работая с малышами, а также с их родителями и педагогами, я приобрела то понимание развития, которое впоследствии пронизывало все стороны моей деятельности в области танцевальной терапии, психотерапии и юнгианского анализа.
Однажды в начале 1960?х годов социальный работник Центральной окружной больницы Лос?Анджелеса пришла в детский сад, чтобы позаимствовать опыт и улучшить программу лечения больного аутизмом ребенка из психиатрического отделения. Увидев, как я двигаюсь с детьми на занятии в танцевальной группе, она пригласила меня поработать с больными в детском психиатрическом отделении. К тому моменту психологического образования у меня еще не было.
В первый день я поднялась на шестой этаж очень старого здания. Двери были заперты. Здесь проходили лечение около 15 детей в возрасте от 3 до 12 лет. Большая часть детей были психотиками. К тому же, кто?то страдал слепотой, кто?то – глухотой. Кто?то упорно избегал контакта. Кто?то хотел, чтобы их удерживали в объятиях, обнимая, но не очень долгое время. Один малыш привязывался к каждому взрослому, которого ему удавалось найти. Ребенок тянул взрослого за собой туда, где лежала вещь, которую он хотел, но не мог достать сам. Указывая на нее пальцем и издавая требовательные звуки, он, как правило, ее получал. Затем он с великим старанием пытался спрятать свое новое сокровище во рту, за пазухой или в штанах. Другой малыш лет восьми слонялся туда?сюда, монотонно повторяя: «Я очень злой. Я очень злой мальчик».
В общей комнате для дневных занятий были облупившиеся желтые стены и батареи старого образца. Я вошла с переносным фонографом, пластинками, шарфами и барабаном. Одна из уставших нянечек подняла на меня глаза. Некоторые дети сидели, уставившись в одну точку и разговаривая сами с собой. По комнате, закатив глаза, на цыпочках ходила маленькая девочка. Я не могла определить, слепая она или зрячая. Вдоль окна кипела бурная деятельность: несколько ребятишек лазали вверх и вниз по батареям. Неожиданно я почувствовала, что могу все сразу изменить, если поставлю чудесную музыку. Помню, я включила запись украинского гопака.
Некоторым сотрудникам и детям понравилась музыка. Мы встали в круг, несколько условный, ибо дети вбегали и выбегали из него. Некоторые ребятишки кричали и шумели. Как я уже говорила, круг был очень условен – мы просто двигались в более или менее одном направлении. Мы топали, хлопали в ладоши, и к нам присоединилось еще несколько ребят. Затем к нам подошел один из мальчиков, взбиравшихся на батареи, но он не хотел делать то же самое, что делали мы, он хотел лаять. К нему присоединился еще один мальчуган, и вскоре они ползали на четвереньках и гавкали. Так как это действо становилось самым интересным из всего происходящего, я тоже опустилась на ладони и колени, и моему примеру последовали все остальные дети. Я надеялась, что через несколько минут мы все будем лаять и ползать более менее синхронно, но малышка с закатанными глазами, которая ходила на носочках, отделилась от нас. В надежде пригласить ее обратно в нашу группу я выключила гопак и поставила отрывок из Дебюсси – музыку, звучавшую как облака,– и достала шарфы. Так как многим детям нравилось брать предметы себе, половина шарфов испарилась под одеждой, во ртах, ушах и других полостях тела. И все же каким?то образом энергия, музыка и движение поддерживали связь между нами.
Затем я поставила запись мексиканского танца со шляпами. Детям он понравился, а нянечки, до тех пор бывшие лишь наблюдателями, улыбнулись и присоединились к танцу. На этом этапе «танец» означал прыжки, подскоки и бег по кругу, в центре которого стояла воображаемая шляпа. Но музыка объединяла весь этот хаос, и, когда сеанс подходил к концу, малыши, нянечки и некоторые терапевты танцевали, кто попарно, а кто en masse (все вместе). Когда все закончилось, некоторые дети хлопали в ладоши и радостно шумели, кто?то снова вскарабкался на батареи, остальные продолжили бродить и бормотать что?то про себя. Усталые нянечки хлопали в ладоши и смеялись. Заведующий психиатрическим отделением наблюдал все происходящее через стекло. Мне передали его слова: «У малышей еще никогда не было такой прекрасной тренировки. Она просто находка! Наймите ее!»
Последующие годы стали поистине переходным периодом. Это были годы анализа с доктором Кейт Маркус, одной из основателей Лос?Анджелесского института К.Г. Юнга. Меня всегда интересовал психоанализ, а психология Юнга была мне особенно близка. Но к анализу меня привела не увлеченность бессознательным, а жизненный кризис. В возрасте 24 лет я пережила горький развод. Мне пришлось искать ресурсы, чтобы поддерживать маленькую дочь и себя. Два или три раза в неделю я садилась в кресло напротив мудрой пожилой женщины. Мы говорили о снах. Результаты этой работы до сих пор поддерживают меня. Она стала основой и моделью для моего последующего роста.
Я продолжала преподавать в балетной студии в восточном районе Лос?Анджелеса, а также в нескольких детских садах и частных начальных школах. Однако мои цели прояснились. Я потеряла интерес к подготовке профессиональных танцоров. Вместо этого мне хотелось как можно больше узнать о терапевтических возможностях танца и творческого процесса. Я продолжала работать с Этель Янг, изучая связь между творчеством и детским развитием. Помимо преподавания, я стала увеличивать объем терапевтической работы в больнице; создавала программы танца и движения для необучаемых детей в ряде специализированных школ и проводила индивидуальные занятия с детьми, подростками и взрослыми с эмоциональными расстройствами. В этот период я начала интенсивные занятия с Труди Шуп и Мэри Уайтхаус, которые заложили основы танцевальной терапии.
Глава 2
Труди Шуп
Первый раз я попала на занятие к Труди Шуп, когда мне было 19. Она была всемирно известной танцовщицей и актрисой пантомимы. В то время она начала использовать свое глубокое понимание человеческой экспрессии и великолепное чувство юмора для работы в палатах психиатрических больниц.
Та первая встреча состоялась в 1956 г. в Лос?Анджелесе, когда она проводила занятие по импровизации в Центре танца на Западной авеню. Я преподавала там классический танец. Вместе с другими преподавателями и студентами Центра танца я записалась на ее урок.
После энергичной разминки мы под ее руководством начали выполнять серии различных упражнений, двигаясь из одного угла студии в другой по диагонали. Мы импровизировали с различными чувственными образами, например играли с воображаемыми мячами разных размеров и веса, ходили «по наклонной», как будто тащили тяжеленный чемодан. Затем мы стали фантазировать более свободно и принялись исследовать и выражать самый разный театрализованный и эмоциональный опыт.
Когда я вспоминаю этот день, я осознаю, что была восхищена, но в то же время испытывала растущее беспокойство. Как балетная танцовщица, я привыкла контролировать свое тело. Я обожала импровизировать, но мне было более комфортно с темами, которые можно было выразить на стилизованном языке классического танца.
Занятие Труди потребовало больше, чем я была способна вынести в тот раз. В определенный момент я утратила контакт с побуждающими образами. Мне казалось, что люди просто отдавались на волю всепобеждающей ритмичной музыке и позволяли ей нести себя по залу. Когда подошла моя очередь, я испытала панику и затем бросилась в пространство. Должно быть, у меня отключилось сознание, потому что я не могла вспомнить, что делала. Я просто оказалась на другой стороне зала, тяжело приземлившись на обе ноги. Я задыхалась. Мое сердце колотилось. Я была в шоке, практически онемела. У меня появилось ужасное чувство, что каким?то образом проявилась моя истинная тень, и я не видела ее, но зато ее увидели все остальные. Я чувствовала растерянность и неловкость, но не хотела, чтобы кто?то узнал, насколько мне плохо. Так что я просто проследовала в том же направлении, обогнула пианино, поднялась по лестнице и вошла в раздевалку. Я натянула верхнюю одежду на трико и ушла. Потребовалось пять лет, чтобы я достаточно повзрослела и почувствовала, что готова вернуться и учиться у Труди Шуп.
В начале 1960?х годов она обучала небольшую группу студентов, которые хотели научиться танцевальной терапии. В это время я чувствовала готовность и огромное желание погрузиться в обучение у нее. Мы регулярно встречались в большой профессиональной танцевальной студии в Ван Найс, где Труди проводила занятия. Мы также участвовали в сессиях групповой танцевальной терапии, которые она вела в Государственной больнице Камарильо.
Когда я пришла туда в первый раз, я была поражена, когда узнала, что многие считали Труди такой же пациенткой, как и они сами. Тогда большинство обслуживающего персонала носили униформу или, по крайней мере, белые халаты. Медицинский персонал чаще всего был одет в достаточно официальную одежду. Однако Труди одевалась так, чтобы было удобно двигаться. Она (и ее ученики) носили всевозможные виды странной, но яркой танцевальной формы и свободной одежды. Простое отношение к людям стало второй причиной, почему ее принимали за пациентку и почему пациенты считали ее «своей». Профессиональной маски, персоны не было. Она была просто сама собой.
Когда мы приходили в больницу, Труди проводила две или три сессии, одну за другой, с несколькими малыми группами. Большинству пациентов, с которыми она работала, был поставлен диагноз хронической шизофрении. Многие из них не разговаривали и были поглощены различными навязчивыми действиями: какие?то из этих действий были относительно безопасными, другие – саморазрушающими или агрессивными по отношению к другим. Когда мы вошли в одну из дальних палат в женском отделении, раздался громкий удар, похожий на протяжный раскат барабанного боя. Крупная женщина средних лет с тяжелым, пронзительным взглядом сидела на полу спиной к стене.
С огромной силой она то и дело пыталась сокрушить стену своей спиной. У другой женщины вся кожа была покрыта ссадинами, так как она постоянно выкручивала руки, царапая себя. В мужской палате один из пациентов бродил взад вперед в таком состоянии, что казалось, что он поражен ужасом: его плечи были напряжены и приподняты, глаза – навыкате, рот – открыт. Другой мужчина шаркал по комнате, вывернув стопы внутрь. Одна рука закрывала лицо, а другая была прижата к телу, застыв в судорожном, зажатом жесте, в котором чувствовался стыд. Еще я помню женщину с кататонией, у которой были подняты брови и приоткрыт рот, как будто она застыла в состоянии вечного удивления. Казалось, что большинство пациентов проживали всю свою жизнь сквозь фильтр одной?единственной первичной эмоции. Труди впервые заметила это еще на своей родине, в Швейцарии:
«Как ярко я помню пациентов профессора Блейлера в Цюрихе, когда много лет назад он попросил меня выступить перед ними. Какими черно?белыми были выражения их лиц – никаких оттенков – только гнев, только страх, только…»
(Schoop, 1974, р. 16)
В процессе создания своего метода работы она осознала существование другого типа пациентов, чье тело было расщеплено.
«Я вспомнила, что Блейлер говорил о die Spaltung – «расщеплении». Теперь термин, который он обычно применял к психике шизофреников, я видела в теле шизофреника. Расщепление проявлялось в тонусе тела, в выражении лица. Мягкое, улыбающееся лицо было прилажено к жесткому, упрямому телу. Разгневанные, сведенные судорогой ноги отрицали нежные, безвольные руки. Храбро выпяченная вперед грудная клетка перевешивала слабый, обвисший таз. Казалось, что такое разделение возникает в каждой составляющей движения или при любом сочетании этих составляющих».
(Schoop, 1974, р. 107)
Теперь в Соединенных Штатах она прекратила выступать и посвятила себя развитию новой профессии – танцевальной терапии. Будучи танцовщицей, она изучала тело так, как другие изучают психику. Ее замечательное умение наблюдать позволяло ей в мельчайших деталях видеть огромные искажения, ограничения и зажимы в теле пациентов. Она пришла к понимаю, что если бы она могла изменить тело, то, вполне вероятно, произошло бы соответствующее изменение в психике ее пациентов.
«Тело может повлиять даже на безнадежно расстроенную психику пациента с психозом. Попытка трансформировать его дисфункциональные физические нарушения – огромная и сложная задача, но я должна попытаться, и я хочу попытаться, заново создать для него такое тело, которое опять будет эффективно действовать, нормально работать; такое тело, которое будет оказывать положительное, целительное действие на его психику».
(Schoop, 1974, р. 45)
Как правило, Труди начинала работу в группе с каких?либо ритмических движений, уделяя внимание отдельным частям тела. Такая разминка часто выглядела как простые упражнения под команду: наклоны головы вперед – вниз, вправо – влево; поднять и опустить плечи, потом локти, потом ладони. Затем все вставали в круг и, держась за руки, чтобы не потерять равновесие, делали махи ногами. Вращение руками переходило во вращение всем корпусом тела: вращение тела перетекало в прыжки. Она делала все возможное, чтобы люди осознавали свое тело, и помогала им расширить спектр двигательных возможностей. Некоторые группы были способны переходить от подобных структурированных форм к более спонтанной игре «Следуй за лидером», когда участники по очереди делали то, что им нравилось.
Всегда поражаешься, наблюдая коренные изменения, которые происходят в группах танцевальной терапии. Самые глубоко регрессировавшие люди возвращались к жизни, когда начинали двигаться, играть и смеяться вместе с другими. Под руководством Труди ее группы проживали различные ситуации в пантомиме. Например, в большом круге она переходила от одного человека к другому, показывая им, как они ей нравятся. Затем она просила каждого: «Сделай то же самое по?своему». Тогда люди обращались к широкому ассортименту культурных форм дружественных приветствий. Один пациент слегка кланялся каждому, идя по кругу. Другой пожимал руки остальным. Третий обнимал всех. Следующий клал руку на плечо. Она также показывала, как люди отвергают друг друга. И снова все члены группы обращались к таким культурно закрепленным формам: поворачивали голову, или морщили (или зажимали) свой нос, или медленно трясли головой, словно говоря спокойное, но четкое «Нет». Один человек подходил ко всем стоящим в кругу и затем внезапно поворачивался спиной к ним. Другой, проходя по кругу, отталкивал людей.
Некоторые группы, работавшие друг с другом уже достаточно долго, развивали великолепную способность спонтанно входить в любой образ и обыгрывать его. Пациенты воплощали в актерской игре и даже в хореографии свои видения. Иногда их содержание было наполнено ужасом и уродством. Иногда мир фантазии был дружелюбным и золотым. Эллис была пациенткой, которая оставила свою жизнь в больнице, улетев далеко?далеко к своим друзьям на Венеру. Труди писала о дне, когда Эллис пригласила группу разыграть свою фантазию:
«Что, Эллис,– спросила я однажды,– если бы ты рассказала нам всем здесь в группе, как выглядят твои друзья и что они делают такого, что ты так сильно их любишь?»
«Ну…,– начала она нерешительно,– они счастливы видеть меня, когда я приезжаю к ним. А иногда Кландестина целует меня».
Никому в группе не нужно было говорить, что делать. Неуклюже, но с большой симпатией они пожимали руку Эллис. Они трепали ее по плечу. Они улыбались. Их приветствия понравились ей, потому что она продолжила свое повествование… Эллис начала учить свою группу тому, как эти прекрасные люди двигались, летали, пили и играли…
Эллис знала, что сегодня на занятии она была в больничной студии, а не на Венере и женщина, которая целовала ее – добрая старушка Бетти, а не Кландестина. Но разве эти земляне реагировали на нее не так, как ее инопланетные друзья? Возможно, теперь не так обязательно искать убежища на другой планете. Возможно, действительность не так уж и плоха, в конце концов!»
(Schoop, 1974, р. 148–149)
Каждая сессия работы групп заканчивалась по?разному. Иногда на пике активности: мы бегали, прыгали, совершали скачки, галопировали, топали, толкались. Иногда в более спокойном, рефлексивном настроении (тогда Труди ставила особенно красивую музыку – полонез) мы воображали, что одеты, как леди XVIII в., в длинные платья и украшены сверкающими драгоценностями. Джентльмены тоже облачались в воображаемые фраки, элегантные ботинки и напудренные парики. Все мы очень осторожно несли свою голову, чтобы не испортить воображаемые прически или парики. Казалось, что время существует лишь для того, чтобы мы приветствовали друг друга, и оно замедляло свой бег, когда мы, танцуя, величаво обходили друг друга в променаде.
Труди индивидуально работала с теми, кто настолько избегал контакта, что не мог функционировать в группе. Одна молчаливая женщина могла только медленно ходить, поэтому практически каждый день Труди просто ходила с ней по комнате. Спустя восемь месяцев ходьба превратилась в своего рода ритмичное, игровое взаимодействие. В итоге женщина смогла заговорить (Schoop, 1974, p. 73–75).
Возвратившись в студию, Труди и мы, ее студенты, обсуждали то, что видели в больнице. Когда мы говорили, мы «примеряли» походку и позу каждого пациента, которого запомнили, пытаясь представить и почувствовать, какое состояние души им соответствует. Большинство поз были ужасно неудобны. Мы чувствовали непереносимую тяжесть, представляя себе, как человек может ощущать жизнь в таком судорожно сжатом, искаженном теле. То, что я представляла себя просыпающейся и проживающей свой день, выражаясь буквально, «с выпяченным подбородком», заведенными за спину локтями и сжатыми кулаками, оказало глубокое влияние на мое восприятие мира. Если бы я жила в этом теле, для меня во всем бы чувствовалась угроза.
Учиться у Труди означало глубоко интересоваться любым аспектом человеческого самовыражения. Ее студенты «примеряли на себя» любые способы движения, включая движения их друзей и членов семьи. В своей группе мы наблюдали и «примеряли» походку и позы друг друга. Мы гиперболизировали то, что видели, и описывали, что чувствовали при этом. Мои партнеры по классу открыли мне, что, хотя моя походка была ровной и грациозной, они чувствовали напряжение, когда пытались повторить ее. Я осознала, что во время ходьбы мое тело слегка отклонялось назад. Чувство стесненности было связано с определенным типом телесного расщепления. Я осознала, что, даже когда я двигаюсь вперед, все равно сохраняю небольшую склонность к избеганию и уходу. С таким напряжением сложно жить. И все же я жила так годами, не осознавая этого. Когда Труди попросила меня преувеличить движения и более полно показать свои чувства, я поняла, что хотела сохранить дистанцию между собой и другими. Когда я шла, я придавала форму этому чувству, медленно подняв руки, словно отталкивая кого?то ладонями. В течение следующих месяцев я с изумлением постепенно осознавала воспоминания и эмоции, которые хранились в этой позе. Еле уловимое чувство одиночества пронизывало все стороны моей жизни. Когда я попыталась коренным образом измениться, т.е. заставить себя стоять в более вертикальном положении, я почувствовала, как будто всё и все внезапно стали так близко, что мне не было комфортно. Я решила вернуться в более привычную для себя отдаляющуюся позу. Но осознание меняет все. Когда я поняла, что мне свойственно отклоняться назад, на эмоциональном уровне я стала ощущать это как колебание между застенчивостью и презрением. Когда соматическое состояние обрело психологический смысл, я смогла переживать эмоции более открыто. Моему телу больше не нужно было удерживать их в себе. Постепенно естественным, по моим ощущениям, путем моя походка изменилась.
Труди обращала особое внимание на усиление конгруэнтности между намерением и действием. Если мы бежали, она хотела, чтобы в теле бежало все. Если мы поворачивались, она хотела, чтобы в повороте участвовала каждая часть тела. Ничего не должно было отставать. С другой стороны, если мы чувствовали неопределенность, каждая часть тела должна была участвовать в выражении этого расщепления. Она усматривала огромную ценность в ясности выражения.
Мы «знакомились» с теми частями тела, которые нам особенно нравились, и с теми, к которым испытывали неприязнь. Мы играли, хвастаясь тем, что нам нравилось, и пряча то, что не нравилось.