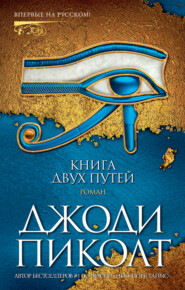По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Новое сердце
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Бог мой! – выдохнул Тексас, после чего все, кроме меня, продолжали молча жевать.
Леска Шэя с грузом ударилась о мои ступни.
– Попробуй, – настаивал он.
Я потянулся к кульку на конце лески. Поскольку то же самое уже проделали шестеро человек, я ожидал увидеть какие-то жалкие остатки, но, к моему удивлению, пластинка «Базуки» оказалась нетронутой. Я разломил жвачку пополам и положил кусочек в рот. Остальное завернул и потянул за леску Шэя, потом смотрел, как она понеслась обратно в его камеру.
Поначалу я с трудом это выносил – сладкий вкус раздражал болячки у меня во рту, как и острые края пластинки, пока она не размягчилась. Ну хоть плачь – так мне хотелось того, что принесет одно мучение, – я это знал. Я поднял руку, собираясь выплюнуть жвачку, когда случилось что-то невероятное: полость рта и горло перестали болеть, словно в жвачке было обезболивающее, словно я больше не был болен СПИДом, а стал обыкновенным человеком, купившим это лакомство на бензоколонке после заправки бака машины, готовый ехать далеко-далеко. Мои челюсти ритмично двигались. Я сел на пол камеры и, продолжая жевать, заплакал – не потому, что было больно, а потому что – не было.
Мы молчали так долго, что надзиратель Уитакер пришел посмотреть, чем мы заняты. И обнаружил он то, чего никак не ожидал увидеть. Семерых мужчин, впавших в детство, которого у них не было. Семерых мужчин, выдувающих яркие, как луна, пузыри из жвачки.
Впервые почти за полгода я всю ночь проспал крепким сном. Проснулся отдохнувшим и спокойным, безо всяких спазмов в животе, которые обычно мучили меня с утра часа по два. Я подошел к раковине, выжал пасту на колючую зубную щетку, какие нам выдавали, и бросил взгляд на волнистый металлический лист, служивший зеркалом.
Что-то изменилось.
Болячки от саркомы Капоши, уже год покрывающие мои щеки и вызывающие воспаление век, исчезли. Кожа была чистой, как вода в ручье.
Чтобы лучше рассмотреть лицо, я подался вперед. Открыв рот, потянул себя за нижнюю губу, тщетно выискивая волдыри и язвы, мешающие принимать пищу.
– Люций, – услышал я голос из вентиляционной решетки у себя над головой, – доброе утро.
Я поднял взгляд:
– Да, Шэй. Господи, оно и впрямь доброе!
В конечном счете мне не пришлось просить о медицинской консультации. Офицер Уитакер, потрясенный улучшением моего внешнего вида, сам вызвал Алму. Меня отвели в помещение, где встречается адвокат с клиентом, и Алма взяла у меня кровь на анализ. Час спустя она вернулась в мою камеру сообщить то, что я уже знал.
– У тебя лимфоциты в норме, – сказала Алма, – и вирусная нагрузка не определяется.
– Это хорошо?
– Это нормально. Такой анализ бывает у человека, не больного СПИДом. – Она покачала головой. – Похоже, твоя лекарственная терапия здорово подействовала…
– Алма… – позвал я, взглянул на Уитакера, стоявшего у нее за спиной, и быстро сдвинул простыню с матраса, открывая свой тайник с таблетками. – Несколько месяцев я не принимал лекарства.
Я высыпал медсестре в ладонь горсть таблеток. У женщины порозовели щеки.
– Но это невозможно.
– Это маловероятно, – поправил я. – Возможно все.
Она засунула таблетки в карман:
– Не сомневаюсь, этому есть медицинское объяснение…
– Это Шэй.
– Заключенный Борн?
– Это сделал он, – сказал я, хорошо понимая, насколько дико это звучит, но отчаянно пытаясь ей это внушить. – Я видел, как он оживил мертвую птичку. Как взял одну пластинку жвачки и сделал так, что хватило нам всем. В первый же вечер его пребывания здесь он превратил водопроводную воду в вино…
– Ладно-ладно. Офицер Уитакер, полагаю, нужна консультация психолога для…
– Я не свихнулся, Алма, я… ну, вылечился. – Я взял ее за руку. – Разве ты никогда не видела своими глазами то, что считала невозможным?
Она бросила взгляд на Кэллоуэя Риса, который уже целую неделю подчинялся ее лечебным процедурам.
– Он и это сделал тоже, – прошептал я. – Я-то знаю.
Алма вышла от меня и остановилась перед камерой Шэя, который в наушниках смотрел телевизор.
– Борн! – рявкнул Уитакер. – Наручники.
Он заковал запястья Шэя и открыл дверь его камеры. Алма встала перед Борном, скрестив на груди руки.
– Что тебе известно о состоянии здоровья заключенного Дефрена? – (Шэй не отвечал.) – Заключенный Борн?
– Он не может подолгу спать, – тихо произнес Шэй. – Ему больно жевать.
– У него СПИД. Но этим утром неожиданно все изменилось, – сказала Алма. – И почему-то заключенный Дефрен считает, что ты имеешь к этому какое-то отношение.
– Я ничего не делал.
Алма повернулась к надзирателю:
– Вы видели что-то из этого?
– В водопроводе первого яруса были обнаружены следы алкоголя, – признался Уитакер. – Мы искали протечку, но не нашли ничего убедительного. Да, и я видел, как все они жевали жвачку. Мы дотошно обыскали камеру Борна, но так и не нашли контрабанды.
– Я ничего такого не делал, – повторил Борн. – Это все они. – Вдруг он с оживленным видом сделал шаг к Алме. – Вы пришли за моим сердцем?
– Что?
– Мое сердце. Я хочу пожертвовать его после смерти.
Я слышал, как Шэй роется в своей коробке с пожитками.
– Вот, – сказал он, протягивая Алме газетную вырезку. – Вот девочка, которой оно нужно. Люций записал мне ее имя.
– Я ничего не знаю об этой…
– Но вы разузнаете, ладно? Поговорите с нужными людьми?
Алма замялась, а потом ее голос смягчился. Таким бархатным голосом она обычно обращалась ко мне, когда боль становилась нестерпимой.
– Поговорю, – сказала она.
Странная штука – смотреть телевизор и знать, что в действительности все происходит прямо за дверью. Парковку тюрьмы заполнила толпа. На лестнице у входа расположились люди в инвалидных креслах, пожилые женщины с ходунками, матери с прижатыми к груди младенцами. Были там и пары геев – в основном один из мужчин поддерживал слабого больного партнера; были и какие-то чокнутые с плакатами, демонстрирующими библейские изречения о конце света. Вдоль улицы, ведущей мимо кладбища в центр города, стояли микроавтобусы прессы – местные филиалы и даже команда канала «Фокс» из Бостона.