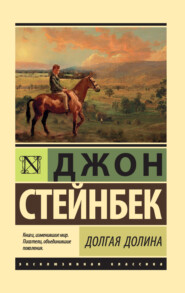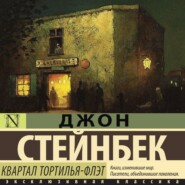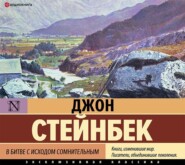По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Золотая Чаша
Автор
Жанр
Год написания книги
1929
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мне пора идти, уже смерклось!
– Да, тебе пора идти, но не размышляй над моими словами. Быть может, я просто хотел поразить тебя. Старости нужна безмолвная лесть, потому что высказанной вслух она более не доверяет. Помни только, что Мерлин говорил с тобой. И если где – нибудь тебе встретятся уэльсцы, которые поют мои песни, сложенные давным-давно, скажи им, что видел меня, что я нездешнее чудесное существо с голубыми крыльями. Я не хочу быть забытым, Генри. Ведь для старика быть забытым страшнее смерти.
Генри сказал:
– Мне пора. Уже совсем темно. Благодарю вас, сэр, что вы мне все это сказали, но, видите ли, я должен уехать в Индии.
Мерлин тихонько засмеялся:
– Ну, конечно, должен, Генри. И непременно поймай светляка побольше. Прощай, дитя!
Генри оглянулся один раз, когда черный силуэт дома начал уходить за отрог. Но в окнах не мерцал огонь. Старый Мерлин сидел там и с мольбой взывал к своим арфам, а они насмешливо вторили ему.
Юноша быстрее зашагал вниз по тропе. Долина впереди была темным озером, и огоньки ферм казались отражениями звезд в его глубине. Ветер замер, и в горах стояла вязкая тишина. Всюду кружили печальные беззвучные призраки. Здесь были их владения. Генри ступал осторожно, не отводя глаз от тропы, которая голубоватой лентой вела его вниз.
IV
Шагая по темной тропе, Генри вдруг вспомнил, что сказал ему Мерлин в самом начале. Так не повидать ли ему Элизабет перед уходом? Она ему вовсе не нравилась. Порой он даже ощущал, что в нем растет ненависть к ней. И эту ненависть он нянчил и подогревал, а она все больше преображалась в желание увидеть Элизабет.
Она была тайной. Все девушки и женщины ревниво оберегали что – то, о чем никогда вслух нс говорили. Его мать, как зеницу ока, хранила секреты теста для лепешек и порой плакала по неизвестным причинам. Под внешней оболочкой женщин – некоторых женщин – параллельно их внешней жизни шла другая, внутренняя, и эти две жизни никогда не пересекались.
Всего год назад Элизабет была хорошенькой девочкой и, увидев его, принималась перешептываться с подружками, хихикать, дергать их за волосы, а потом внезапно стала совсем другой. Никакой зримой перемены Генри обнаружить не мог, но ему чудилось, что она обрела способность понимать – глубоко и безмятежно. Его пугала эта мудрость, которая вдруг снизошла на Элизабет.
И ее тело… Не такое, как у него, обладающее властью (об этом говорилось еле слышным шепотом) дарить неведомое блаженство, творить темное волшебство. Но даже это расцветшее тело она окружала тайной. Прошло время, когда они вместе беззаботно ходили на речку купаться. Теперь Элизабет старательно укрывала себя от него, словно ее преследовала неотвязная мысль, что вдруг он увидит… Это новое в ней пугало и смущало Генри.
Порой она ему снилась, и он просыпался в холодном поту – вдруг она узнает про его сон. А иногда ему в ночи являлся смутный образ, в котором странно сочетались Элизабет и его мать. После такого сна его весь день томило отвращение к себе и к ней. Себя он видел противоестественным чудовищем, а ее суккубом во плоти. И он не мог никому рассказать про это. Все отвернулись бы от него, как от прокаженного.
Но, может быть, все – таки увидеться с ней' напоследок? Этот год облек ее странным могуществом – притягательным и отталкивающим, и его воля трепетала, как тростник на ветру. Быть может, другие мальчики и правда навещали ее по вечерам и целовали, успев заранее этим похвастать, но другие мальчики не видели ее во сне, как он, не думали о ней с невыразимым отвращением, как порой думал он. Да, есть в нем что – то противоестественное, раз он неспособен отличить желание от омерзения. И ведь ей так легко заставить его смутиться и оробеть!
Нет, он к ней ни за что не пойдет! Да с какой стати Мерлин – ну, пусть не Мерлин, а кто угодно еще – вдруг вообразил, будто она для него что – то значит, эта дочка нищего батрака? Она же не стоит того, чтобы о ней думать!
За его спиной послышались шаги, гулко отдававшиеся в ночной тиши. Кто – то нагонял его, и вскоре с ним поравнялась юркая худая фигура.
– Это ведь ты, Уильям? – вежливо спросил Генри.
– Он самый, – ответил тот и переложил кирку с одного плеча на другое. Его дело было чинить дороги. – А ты то что делаешь тут ночью?
– Я был у Мерлина. Слушал, что он говорил.
– Чума его прибери! Он теперь только и умеет, что языком болтать. А ведь раньше песни слагал, хорошие песни, душевные. Ты бы сам то же сказал, спой я тебе хоть одну, да что – то не хочется. А теперь сидит он на Вершине, как старый облезлый орел. Проходил я как – то мимо, ну, и заговорил с ним – ты хоть у него спроси. Я ведь не из тех, кто свои мысли при себе держит. «Почему ты больше не слагаешь песен?» – так я ему сказал, этими самыми словами. «Почему, – говорю, – ты больше не слагаешь песен?» А он говорит: «Я вырос и стал взрослым, – говорит. А во взрослых сердцах песен нет. Только дети слагают песни. Только дети и полоумные». Чума его прибери] Сам он полоумный и есть, так по мне выходит. А тебе он что наговорил, козел седобородый?
– Видишь ли, я уезжаю в Индии…
– В Индии? Ты, что ли? Ну – ну! Я вот в Лондоне побывал. И все там в Лондоне вор на воре. Один держит доску, а на ней махонькие плашки. «Попытай свое искусство, друг! – говорит. – На какой плашке снизу черная метка?» «Вот на этой», – говорю. Так оно и вышло. Зато уж потом… Он ведь тоже вор был. Все они там воры. Им там в Лондоне только и дела, что разъезжать в каретах – туда сюда, туда – сюда, туда по одной улице, а обратно по Другой. Да еще раскланиваются друг с другом, пока достойные люди в поте лица трудятся в полях и в рудниках, чтоб они там могли раскланиваться между собой. А мне что остается или, к примеру, тебе, если все теплые местечки позанимали разбойники. А знаешь ты, какую разбойничью цену заламывают в Лондоне за одно яйцо?
– Мне сюда сворачивать, – сказал Генри. – Я тороплюсь домой.
– Индии! – Уильям тоскливо вздохнул и сплюнул в траву. – Да что уж! Голову прозакладываю, все они там воры и разбойники.
Когда Генри наконец добрался до бедной хижины, где жила Элизабет, мрак стал совсем непроницаемым. Он знал, что в очаге посреди комнаты горит огонь и дым стелется под потолком, ища выхода наружу, через небольшую дыру в кровле. Настоящего пола там нет – только утрамбованная земля и очаг. Отходя ко сну, семья закутывалась в овчины и ложилась вокруг очага ногами к нему.
Окна без стекол не были даже занавешены, и Генри видел то старого Туима с густыми черными бровями, то его худую издерганную жену. Он ждал, пока в окне не мелькнула Элизабет, а тогда свистнул, как ночная птица. Девушка подошла к окну и выглянула наружу, но Генри стоял в темноте неподвижно. Тогда Элизабет открыла дверь и встала на пороге, освещенная сзади отблесками огня. Генри увидел сквозь платье черный абрис ее фигуры. Он увидел изящный изгиб ее ног и округлость бедер. Им овладел безумный стыд – и за себя, и за нее. Без единой мысли в голове он вдруг кинулся назад сквозь тьму, задыхаясь и борясь с рыданиями.
V
Услышав, что Генри вошел в комнату. Старый Роберт с надеждой поднял голову, но надежда тут же угасла, и он быстро отвернулся к огню. Матушка Морган вскочила и сердито встала перед юношей.
– Это что еще за глупости? – спросила она грозно. В какие – такие Индии ты собрался?
– Матушка, я должен уехать. Правда, должен. И отец меня понимает. Как ты не слышишь, что Индии зовут меня.
– А вот так. И грех говорить такие глупости. Ты еще младенец несмышленый, и тебя нельзя за порог одного выпустить. Отец запретит тебе и думать об этом.
Упрямый подбородок юноши стал гранитным, на скулах вздулись желваки. Глаза полыхали гневом.
– Если ты не понимаешь, матушка, я скажу тебе одно: завтра я уйду и не посмотрю ни на кого из вас!
Оскорбленная гордость смела изумление с ее лица и тут же исчезла, уступив место неизбывной боли. Она не знала, куда бежать от нежданной муки. А Генри, едва увидев, что натворили его слова, кинулся к ней.
– Прости, матушка, я не хотел… Прости. Но почему ты не можешь отпустить меня, как отпустил отец? Я не хочу делать тебе больно, и все – таки я должен уехать. Пойми же!
Он обнял ее, но она отвернулась. Ее слепой взгляд был устремлен в никуда.
Она была так уверена в своей правоте! Всю свою жизнь она оскорбляла, понуждала, бранила своих близких, а они понимали, что ее тиранию рождает любовь к ним. Но теперь, когда один из них, маленький мальчик, заговорил с ней ее собственным привычным тоном, рана, нанесенная ей, была столь глубока, что зажить совсем уже вряд ли могла.
– Ты говорил с Мерлином? Что он сказал тебе? – спросил Роберт со своего места у очага.
Мысли Генри мотнулись к Элизабет.
– Он говорил про то, во что я не верю, – ответил он.
– Что же, это была только соломинка, – пробормотал Роберт. – Ты нанес своей матери беспощадный удар, продолжал он. – Я еще никогда не видел ее такой… такой притихшей. – Затем Роберт распрямил плечи и заговорил твердым голосом: – Я приготовил для тебя пять фунтов, мой сын. Деньги небольшие. Может быть, мне удалось бы наскрести еще, но такую малость, которая ничего не изменила бы. А вот рекомендательное письмо к моему брату, сэру Эдварду. Он уехал еще до злодейского убийства короля, и почему – то – возможно, потому, что вел он себя тихо, – старый Кромвель его не отозвал. Если он окажется на Ямайке, когда ты туда доберешься, можешь вручить ему мое письмо. Но он замкнутый, холодный человек и очень гордится знатными знакомствами, так что бедного родственника вряд ли встретит с распростертыми объятиями. Вот почему я не уверен, что это письмо тебе поможет. Он тебя невзлюбит. Разве что ты умудришься не заметить ничего смешного в человеке, который очень похож на меня, но чванно разгуливает с серебряной шпагой и с перьями на шляпе. Я вот не выдержал, засмеялся, и с той минуты он перестал быть моим братом. Письмо, однако, побереги: оно может сослужить тебе службу с другими людьми.
Он поглядел на жену, скорчившуюся в темном углу.
– Мать, а ужинать мы сегодня не будем?
Она как будто не услышала, и Роберт сам поставил еду на стол.
Страшно терять сына, ради которого ты только и жила. Почему – то она никогда не сомневалась, что он всегда будет подле нее – маленький мальчик, и всегда подле нее. Она старалась нарисовать себе будущее без Генри, но эта мысль разбилась о серую стену худосочного воображения. Какая неблагодарность – бежать от нее, внушала она себе, как жестоко он поступил с ней… Но сразу же ее сознание мячиком отлетало назад. Генри – ее малютка сынок и потому не может быть ни бесчувственным, ни подлым. Неизвестно как, но эти пустые слова, эта боль обязательно исчезнут, и он по – прежнему будет подле нее, восхитительно бестолковый и послушный.
Ее рассудок всегда был бритвой реальности, ее воображение всегда ограничивалось переносом настоящего в ближайшее будущее, но теперь они блаженно унеслись к малютке, который учился ползать, учился ходить, учился лепетать первые слова. И она уже забыла, что он решил уйти, так заворожили ее эти грезы о серебряном прошлом.
Крестили его в длинной батистовой рубашечке. Вся святая вода, которой его окропили, собралась в одну каплю и скатилась по курносому носишке, а она в своей страсти к порядку тотчас вытерла ее носовым платком и тут же подумала, не придется ли теперь окрестить его еще раз. Молодой священник потел и давился словами молитвы. Но что с него было взять? Совсем зеленый, да к тому же из местных. Да, слишком зелен для столь важного обряда. Вдруг таинство не свершится? Перепутает слова или допустит еще какие – нибудь нарушения… Но тут она обнаружила, что Роберт опять застегнул камзол кое – как. Хоть кол ему на голове теши, никогда не вденет пуговицу в нужную петлю. Вот и кажется кривобоким! Надо подойти к Роберту и шепнуть ему про камзол, пока люди в церкви ничего не заметили. Такие мелочи и рождают всякие сплетни! Но если она отойдет, глупый недотепа – священник того и гляди уронит младенца…
Они кончили ужинать, и дряхлая Гвенлиана, с трудом поднявшись из – за стола, прошаркала к своему креслу у огня, чтобы потихоньку вновь ускользнуть в приветливое будущее.
– Когда ты думаешь отправиться? Утром? – спросил Роберт.