По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Россия выходит из войны. Советско-американские отношения, 1917–1918
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Впоследствии Баллард рассказал в письме полковнику Хаусу о всей нелепости ситуации, возникшей в результате этих внезапных крупных пожертвований в казну эсеров. Следует напомнить, что он и сам не раз жертвовал средства этой партии, но без шумихи в очень скромных количествах. Баллард впервые узнал о благотворительной выходке Томпсона, когда к нему пришли его собственные друзья из эсеровских кругов и начали горячо благодарить за это неожиданное падение политической манны небесной. Тщетно он пытался убедить визитеров, что не имеет к этому никакого отношения и слышит об этом впервые, – они восприняли объяснения как доказательство крайней утонченности методов Балларда и умелой маскировки каналов. Обеспокоенный тем, что Томпсон узнает о недоразумении и возмутится, Баллард отправился к его заместителю Робинсу и попытался деликатно разъяснить щекотливость ситуации, но последний был настолько погружен в свои собственные дела, что не выказывал никакого желания вникать в суть проблемы, а сам Баллард оказался неспособным проявить прямоту и «пробить» кипучий эгоцентризм Робинса. Тогда он предложил эсерам самим разъяснить Томпсону, что они всегда получали средства из других источников, и сгладить ситуацию, но те неохотно раскрывали внешним сторонам информацию о прежних источниках финансирования, всегда опасаясь общественной критики с известной формулировкой «платные лакеи капитализма».
Несколько позднее большевики выступили с критикой пожертвования Томпсона, хотя по большому счету они должны были бы загнать ее себе в глотку. 7 декабря «Правда» жестко атаковала Брешковскую известной фразой, что «это не революция, а проституция». Стоит ли разъяснять, что причины этого нападения носили сугубо внутриполитический характер и «прокол с Уолл-стрит» пришелся очень кстати. В конце концов Баллард философски смирился с тем, что оказалось неизбежным, и позволил себе насладиться незаслуженной благодарностью за вклад, сделанный Томпсоном.
Такое внезапное проявление американской благотворительности, естественно, не могло не повлиять на позицию американского посла. К счастью для Фрэнсиса, он не был проинформирован об этом факте, хотя вряд ли не уловил слухи о произошедшем. Томпсон вместе с двумя местными американскими бизнесменами, бывшими в курсе дела, пригласили Фрэнсиса на неофициальную встречу, где прозрачно намекнули об инциденте, намеренно воздержавшись от подробностей на том основании, что для посла было бы лучше не иметь официального знания. Как говорят, мадам де Карм, владеющая информацией, тоже была немногословна на этот счет, хотя продолжала поддерживать связь с «губернатором» под косыми взглядами Томпсона и других. В свою очередь, Фрэнсис, который с самого начала выступал против отправки Комиссии Красного Креста, но был резко одернут Вашингтоном, почувствовал себя освобожденным от ответственности и принял сложившуюся ситуацию без возражений вплоть до момента большевистской революции. Однако вскоре он был вынужден отправить государственному секретарю конфиденциальную личную телеграмму, которая бросает яркий, но печальный свет на его отношения не только с Комиссией Красного Креста, но и с военной миссией.
«…Только что Джадсон спросил меня, – телеграфировал Фрэнсис, – не возражаю ли я, если Красный Крест будет использовать его шифр, и на мой ответ, что он должен решить сам, сказал, что обратился в свой департамент и получил полномочия, при условии моего одобрения, на такое использование.
Я сказал, что не возражаю. Сообщаю вам, что ничего не знаю о содержании телеграмм и не знаком с тем, что сделал Красный Крест.
Понимаю, что Томпсон потратил гораздо больше миллиона долларов из своих личных средств, но относительно методов или объектов я не проинформирован… В течение последних двух месяцев Томпсон редко посещал посольство. Поскольку Красный Крест является полуофициальным и, как правило, считается полностью официальным, я часто рассматривал целесообразность расспросить Томпсона об этих выплатах, поскольку ходит много слухов об этом, но, как я понимаю, он расходует индивидуальные средства, и всего лишь сообщил ему через Джадсона, с которым он находится в тесном контакте, что, надеюсь, это никоим образом не отразится на нашем правительстве или стране. Со слов Джадсона, Томпсон говорит, что тратит свои собственные деньги и немедленно покинет Россию, если ему не разрешат делать это так, как ему нравится. Впоследствии он посетил посольство, но ничего не сказал на эту тему в ходе обстоятельной беседы» (Национальный архив, Досье посольства в Петрограде на миссию Красного Креста, телеграмма Фрэнсиса № 1443 от 3 июля 1917 г.).
Президент Вильсон, как будет видно, был крайне недоволен, узнав о выплатах Томпсона. Он обвинил не только Томпсона, но, по-видимому, и Фрэнсиса в безрассудном и расточительном использованием средств и сохранил этот инцидент в своей скрытной, но бесконечно цепкой памяти. Очевидно, на президента особенно повлияла мысль, что эта деятельность была предпринята Томпсоном в то время, когда он, президент, активно обсуждал вопрос о рекомендациях миссии Рута по запуску кампании политической информации в России. Поступок Томпсона, без сомнения, показался ему неоправданным и неуважительным с точки зрения ожидания окончательного президентского решения. По словам Крила (чья память, безусловно, не всегда была точной в таких вопросах), решение отправить Сиссона в Россию было отражением недовольства президента деятельностью Томпсона.
Для доктора Биллингса, как номинального начальника Томпсона, эти политические операции оказались непосильны. У него создалось впечатление, что его используют в качестве прикрытия для деятельности, о которой он не проинформирован и над которой он не имеет никакого контроля. Доктор не стал долго переживать ситуацию и уже в середине сентября, «больной и разочарованный», отказался от своей миссии и вернулся в Соединенные Штаты, оставив формальное командование на Томпсоне. «Не знаю насчет Томпсона, – отмечал он в частной переписке вскоре после своего возвращения, – но лично я очень мало доверяю его суждениям». Личный секретарь Томпсона Корнелиус Келлехер описывал ситуацию более жестко. «Бедный мистер Биллингс… – писал он много лет спустя, – полагал, что возглавляет научную миссию по оказанию помощи России. На самом деле он был не чем иным, как маской, а не лицом миссии Красного Креста».
К тому времени, как доктор Биллингс уехал, Томпсон стал легендой в лихорадочном обществе революционного Петрограда. Его огромное состояние, яркая индивидуальная внешность, крупная мускулистая фигура, вездесущие недокуренные сигары, впечатляющий образ жизни, включая люкс в отеле «Европа», французский лимузин, огромный волкодав, готовность коллекционировать антиквариат – все это сделало его харизматичным и чрезвычайно заметным объектом местного внимания.
Когда Томпсон посещал оперу, его усаживали в императорскую ложу и иронически приветствовали как «американского царя». По понятным причинам власть Керенского рассматривала его как «настоящего» посла Соединенных Штатов.
Захват власти большевиками стал для Томпсона большим потрясением. Он зашел слишком далеко в собственном отождествлении с судьбой внутриполитических противников большевиков – вплоть до того, что щедро снабжал их средствами. Будучи реалистом, он не мог не отметить смертоносную эффективность, с которой большевики захватили власть и укрепили свой режим, и был впечатлен их серьезностью и безжалостностью намерений. Эти впечатления подкреплялись докладами его заместителя Рэймонда Робинса, которого он отправил в провинцию для закупки зерна за несколько недель до Октябрьской революции и который вернулся, впечатленный повсеместной властью местных Советов по сравнению с другими политическими и административными образованиями. Потрясенный всем этим, Томпсон изменил свои политические взгляды и под влиянием Октябрьской революции импульсивно и с энтузиазмом воспринял идею поддержки большевиков, точно так же, как изначально бросился на поддержку Керенского. Однако он чувствовал, что безнадежно скомпрометирован и дискредитирован как личность, судя по степени, в которой он оказывал личную поддержку врагам большевиков. Робинс, по-видимому, разделял эту точку зрения и уговаривал его покинуть Россию. Через три недели после революции Томпсон действительно уехал в Лондон и вернулся домой, полный решимости заручиться поддержкой на высоком уровне идеи использования большевистского режима в качестве инструмента против Германии, точно так же, как он впервые задумал использовать Керенского.
Последствия захвата власти большевиками для Комиссии Красного Креста еще больше усугубили прискорбные недоразумения между миссией и официальным американским правительственным истеблишментом. Поскольку Томпсон не раскрыл послу и его помощникам всего характера своей политической деятельности, он, очевидно, не был склонен объяснять им все причины беспокойства, которое испытывал за свою собственную безопасность и за безопасность членов миссии. Позже посольство догадалось о ситуации, тем не менее произведенное впечатление было неудачным. В докладе Государственному департаменту 9 декабря 1917 года Фрэнсис отметил: «Миссия Американского Красного Креста проявляла удивительную нервозность с начала революции. Томпсон и некоторые другие члены спали в квартире военной миссии, у которой была и остается большевистская охрана и с которой у Томпсона гораздо более тесные отношения, чем с посольством. Эта нервозность, возможно, объясняется выплатами для Брешковской» (из телеграммы № 2081 от 9 декабря 1917 г.).
В другом сообщении Фрэнсис жаловался, что, следуя на эвакуационном поезде, Томпсон останавливал его только три раза, проскочив остальные десять железнодорожных эвакопунктов. «Мне не следовало предлагать в нем места работникам Красного Креста, – писал посол, – поскольку, насколько я понимаю, они добровольно согласились работать в таких условиях, а сейчас работают только на одно – на побег» (Переписка Лансинга, письмо Фрэнсиса от 20 ноября 1917 г.).
Аналогичное недоразумение произошло и в Москве. Сообщая 26 ноября 1917 года, что весь консульский персонал, члены Христианской молодежной ассоциации и люди, связанные с американскими предприятиями, останутся на своих постах, Саммерс добавил, что «члены Американского Красного Креста уехали как можно скорее после начала боевых действий, несмотря на мои протесты» (из телеграммы № 89 от 26 ноября 1917 г.). Очевидно, что это не предвещало ничего хорошего для будущих отношений между членами миссии и Генеральным консульством – отношений, которым несколько позже предстояло приобрести новое и совершенно неожиданное значение. Таким образом, сокрытие от других американцев того, что Томпсон считал своей «настоящей» личной миссией, с самого начала привело к возникновению недоразумений самого неприятного и прискорбного характера.
Все эти обстоятельства осложнили положение человека, который должен был стать преемником Томпсона на посту главы Миссии Красного Креста, фигуры, имевшей большое значение на первых этапах советско-американских отношений, – Рэймонда Робинса.
Робинс, чья смерть последовала только в 1954 году, все еще ждет своего биографа, поэтому попытка в нескольких словах рассказать об этой поразительной и колоритной личности не соответствует истинной значимости этого персонажа. В 1917 году он находился в расцвете сил. Как и Томпсон, Робинс был продуктом американского Запада. Родился он, правда, на Востоке, а на Запад переехал в детстве, работал шахтером в Скалистых горах и, в конце концов, присоединился к золотой лихорадке Аляски. Это предприятие не только увенчалось финансовым успехом. Юношеский контакт с красотой и таинственностью Крайнего Севера произвел глубокое духовное впечатление на Робинса, которое больше никогда его не покидало.
Вернувшись на Средний Запад, центром своей деятельности Робинс сделал Чикаго. Здесь, будучи одновременно либералом и набожным христианином, он стал чем-то средним между политиком и религиозным евангелистом, принимая заметное участие в работе первых чикагских поселенческих домов и в других либеральных начинаниях. Среди прочего, он защищал двух русских политических беженцев, Рудевица и Пурена, для экстрадиции которых царское правительство предприняло интенсивные, но безуспешные усилия в 1908 году. Первоначально демократ, в 1912 году Робинс перешел на сторону Теодора Рузвельта и стал одним из основателей Прогрессивной партии. В 1914-м он баллотировался в сенаторы от штата Иллинойс по списку республиканцев-прогрессистов. Его включение в Комиссию Красного Креста в 1917 году, по-видимому, было результатом рекомендации Теодора Рузвельта.
Прибыв в Россию в сентябре 1917 года, Робинс обладал рядом качеств, хорошо подходящих ему для роли, которую ему было суждено сыграть: избыток энергии, значительные управленческие и юридические способности, некоторое знакомство с рабочим движением в Соединенных Штатах и живой интерес к русской революционной интриге. Очевидно, ему несколько мешало неоднородное и не полностью сбалансированное образование, а также отсутствие тех инструментов, которые могли бы помочь ему сформировать более всестороннее суждение о российских событиях: в частности, знание русского языка, русской истории и литературы. У него, человека по натуре полностью поглощенного современными реалиями, представление о России конца 1917 года было сформировано на основе нескольких интенсивных, но кратких и недавних впечатлений, но ему не хватало исторически перспективного взгляда. Северный пейзаж и петроградская зима, приправленная сильным волнением по поводу войны и важности его собственной миссии, вызывали самые яркие ассоциации с юношеским приключением на Юконе и приводили в состояние мистическо-религиозной экзальтации, способствующее скорее энтузиазму, нежели проницательности.
Вклад Робинса в анализ советских реалий в целом воспринялся с подозрением и отвергнут на родине, хотя он и не был полностью лишен достоинств. Робинс ненавидел то, что он сам называл «внутренним» усвоением знаний, и верил в необходимость передвижений, что и делал самым недвусмысленным образом. Он постоянно перескакивал с одного места на другое, видя то, что не видели остальные, – огромное разнообразие людей. Несомненно, он наблюдал большее число советских лидеров первых месяцев и лет их власти, чем любой другой отдельно взятый американец. Возможно, этот опыт не всегда приводил к точным суждениям, но, по крайней мере, это позволило Робинсу избежать ряда ошибочных впечатлений, закрепившихся в сознании других иностранцев. Таким образом, его взгляды на реалии революции, пусть и неоднозначные по своей фактической основе и часто выраженные расплывчато, никогда не были тривиальными или неинтересными. Эти взгляды прежде всего не основывались на раздражающем отношении к личности как к коммунисту. Существовали и другие аспекты, которым Робинс уделял самое пристальное внимание. Ни один американец, давно знакомый с советской внутренней системой, не может без глубокого восхищения и сочувствия читать слова, с которыми Робинс пытался в 1919 году обратиться к сенатскому Комитету по судебной системе: «Как могло случиться, что пристальный интерес к Советскому Союзу и уважение к выдающимся качествам его лидеров обязательно должны означать симпатию к их идеологии или желание видеть их успешными в мировых революционных устремлениях?»
С другой стороны, Робинс обладал определенными личными особенностями, из-за которых ему было трудно вписаться в запутанную схему обязанностей и взаимоотношений, которая характеризовала официальное и полуофициальное американское сообщество России в то время. Совершенно непривычный к правительственным процедурам, он относился к ним с неприязнью. Он понятия не имел о той кропотливой точности, которая необходима для того, чтобы сделать общение между правительствами эффективным и полезным. Его концепция дипломатии носила глубоко субъективный характер, и взаимопонимание могло основываться на сверкании глаз или твердости рукопожатия. В состоянии экзальтированного и самоотверженного энтузиазма он страдал от неспособности найти с другими людьми золотую середину между крайностями от страстной преданности до мрачного недоверия. Описывая его внешность, современники сравнивали Робинса с американским индейцем того времени: длинные черные волосы, пронзительный взгляд и бесшумная поступь. Эти качества побудили Томпсона окрестить его Пантерой. С точки зрения эмоционального склада они были двойниками: энергичные, властные, подозрительные ко многим и чрезвычайно лояльные к единицам и харизматичные до последней капли. Будучи оратором, актером и сентименталистом, Робинс оставался человеком с характером огромной силы, с исключительной физической и интеллектуальной энергией и несомненно – идеалистом.
Принимая во внимание все сказанное и учитывая неблагоприятные обстоятельства, при которых в Россию прибыла Комиссия Красного Креста, Робинсу было очень нелегко наладить личные отношения с американским сообществом, да и он сам, вероятно, был мало в этом заинтересован. Защищенный своим статусом, он играл в одиночку как в обществе, так и по большей части – официально. Он уехал из России в 1918 году, оставив после себя длинный шлейф обид и подозрений среди официальных членов американского сообщества. Теперь, основываясь на имеющихся данных, уже нелегко оценить реалии, лежащие под слоем пыли этой старой вражды.
Робинс представлял собой характерную фигуру либерального движения Среднего Запада в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, и, будучи таковой, разделял как сильные, так и слабые стороны этого социального явления. Робинса поддерживала его способность оставаться энтузиастом, искренность, непоколебимая уверенность, романтизм и непрекращающаяся любовь к действию. Тем не менее он страдал от присущего ему провинциализма, поверхностности видения исторической перспективы, неустойчивости и несбалансированности многих интеллектуальных подходов. Именно из этого фона он и черпал свой религиозный пыл и веру в человеческий прогресс; но также из этого фона он черпал и отсутствие сочетания терпимости и терпения к печальным условиям политического существования человека, делающие его карьеру фигуры в российско-американских отношениях бурной, одновременно эпизодической и, в конце концов, такой трагичной. Робинс был человеком, способным вызвать у своих друзей восхищение и преданность не менее сильные, чем подозрения и критические замечания, которые он вызывал у других. Поскольку в ходе этого повествования будет необходимо пересказать ряд резких слов, о нем сказанных, было бы справедливо закончить это упоминание о Робинсе примером чувства, которое друзья питали к нему до конца его насыщенной событиями жизни. В «Конгрегационалисте» от 27 октября 1932 года появилось следующее письмо от профессора Чарльза Э. Мерриама[18 - Чарльз Эдвард Мерриам (1874–1953) – американский политолог, основатель чикагской школы политологии.] из Чикагского университета: «Влиятельной и колоритной фигурой в Чикаго является Рэймонд Робинс, четверть века находившийся в эпицентре самых бурных событий в городе. Шахтер в Кентукки, удачливый искатель чистого золота на Клондайке, юрист и министр по профессии… Но прежде всего, пламенный оратор удивительной силы, полководец юмора, сатиры, нежности, эмоциональной привлекательности в их лучших проявлениях, он был и остается пылающим мечом во многих чикагских битвах. Обладая широкими демократическими симпатиями, неподкупной честностью и неукротимым мужеством, его клинок всегда был огненным кольцом, а его голос – трубным зовом во множестве битв».
Ни одно упоминание о деятельности в Робинса в России не было бы полным без слов о его альтер эго, которое направляло его шаги в этой стране со времен большевистской революции, организовывало контакты с советскими властями, переводило и служило секретарем, – Александре Гумберге. Описанный Эдгаром Сиссоном как «нью-йоркский еврей с меланхоличными глазами, чувствительными чертами лица и проницательнейшим умом», он был в то время довольно молодым человеком. Родившийся в России и мальчиком вывезенный в Соединенные Штаты, он вращался в русских социалистических кругах Нью-Йорка и в 1914–1915 годах был менеджером газеты «Островной мир», познакомился с Троцким, когда последний был там в январе-феврале 1917 года. После Февральской революции Гумберг вернулся в Россию, воспользовавшись российским паспортом, и, по-видимому, в те месяцы считал себя гражданином России. Один из его братьев стал крупным большевистским функционером, действовавшим под партийным псевдонимом Зорин. Сам же Александр поддерживал прекрасные и близкие отношения с Троцким, Радеком, Петерсом и другими высокопоставленными партийцами.
Вскоре после прибытия в Петроград Гумберг, по-видимому, оказался полезным членам миссии Рута, а позже – Джону Ф. Стивенсу, председателю Американской консультативной комиссии железнодорожных экспертов, в качестве помощника и переводчика. С прибытием Комиссии Красного Креста Гумберг, вероятно, был передан в распоряжение Томпсона и Робинса (несколько позже какое-то время он также служил и Сиссону).
Вплоть до захвата власти большевиками рассматриваемая полезность Гумберга для американцев, хотя и была значительной, еще не достигла своего полного потенциала. После большевистской революции его обширные знакомства в российских радикальных кругах и легкий доступ ко многим большевистским лидерам в любое время сделали Гумберга незаменимым помощником для американцев, которые не знали русского языка и не имели независимых средств доступа к большевистским властям. Его нужность для советских властей благодаря этой деятельности, по-видимому, была не меньшей, чем для американцев. Со времени Октябрьской революции до весны 1918 года он находился в самой гуще отношений между советскими властями, с одной стороны, и большинством американских властей – с другой (за заметным исключением самой канцелярии посольства). Можно сказать, что Гумберг являлся неофициальным посредником для всех неофициальных доверенных лиц.
Этот человек находился между двумя мирами, в которых и проходила вся его жизнь. Без видимой пристрастности он одаривал обе стороны своим готовым пониманием, скептицизмом и, в некотором смысле, даже привязанностью. С сардоническим весельем он наблюдал за их резким взаимодействием друг с другом и наслаждался попытками смягчить противоборство там, где мог. Будучи «Пятницей» Робинса и гением второго плана, он с отчаянием и не без юмора рассматривал свою собственную роль миротворца. В мире, где миротворцев не очень ценят, эта роль в конечном счете должна была привести его к неприятностям с обеими сторонами – и привела. Возможно, было бы неплохо вспомнить в заключение ту страстную защиту, с которой Робинс выступил в 1919 году в зале заседаний Комитета конгресса, когда один из сенаторов, проводивших расследование, осмелился предположить, что Гумберг был «связан с большевистским правительством». Эта защита оказалась настолько громоподобной, что подняла сонных зрителей на ноги. Разразившаяся буря аплодисментов вынудила председателя комитета взять паузу и призвать к порядку.
«Могу ли я сразу заявить, – продолжил Робинс, – что услуги этого русского, Александра Гумберга, а также характер этих услуг, оказанных в условиях стресса и под огнем, были таковы, что сделали его, по моему мнению, самым полезным одиноким русским человеком в самые трудные дни российской ситуации?
…Я всегда поддерживаю его с полным уважением и готов выступить перед Комитетом, любым другим надлежащим органом Соединенных Штатов или судом в защиту его патриотизма, его подлинной, мужественной службы. И когда, господа, на него напали как на немецкого агента на основании лживых заявлений, я бросил вызов лицам, стремящимся дискредитировать его. Эти лживые и трусливые клеветники убежали обратно во тьму.
Мне сказали: „Робинс, ты в безопасности. Ты силен, невзирая на пропаганду, направленную на твою дискредитацию. Несмотря на то, что говорят против тебя, ты сможешь выжить, но брось этого маленького еврея, к нему есть вопросы“, на что я ответил: „Семь тысяч раз – нет! Это не входит в рамки моих принципов!“
Этот маленький еврей прошел со мной сквозь огонь. Этот маленький еврей лежал на животе, когда пулеметные очереди прошивали стену над нашими головами и вокруг. Этот маленький еврей встал на крыло моего автомобиля, когда нас окружили прогерманские анархисты, вооруженные винтовками со штыками и револьверами. Этот маленький еврей посмотрел вниз на взведенные курки и, приставив револьвер к животу, ухмыльнулся и спросил у анархистов: „Вы ведь не боитесь, не так ли?“ И я с ним до конца пути.» (Большевистская пропаганда. Слушания в Подкомитете по судебной системе. Сенат США, 6-й конгресс, Вашингтон, 1919).
На заре советско-американских отношений среди известных американских деятелей в Петрограде был еще один американец, заслуживающий внимания. Он не относился к числу официального американского правительственного истеблишмента – отнюдь. В последовательности событий, которым посвящено это повествование, он появляется лишь кратко и случайно. И все же его фигура в такой степени является их частью, а отношение так глубоко раскрывает реалии эпохи, что ни один подобный обзор личностей без него не кажется полным. Это отсылка к тому мятежному и романтическому духу, который бродил по улицам и залам собраний Петрограда в те волнующие дни и впитывал впечатления революции с такой жадной жаждой и волнением. Его имя Джон Рид.
На самом деле здесь мало что можно сказать о Риде. Как всем известно, он был юношей с Западного побережья, выпускником Гарварда, социалистом, бунтарем против американского общества своего времени, писателем, в частности – автором великолепной книги очевидца о первых днях революции «Десять дней, которые потрясли мир». Во многих отношениях Рид был человеком ребячливым и даже раздражающим. С точки зрения официальных американцев Петрограда, впрочем не только официальных, писатель относился к числу людей провокационных, невнимательных, нетерпимых и даже напрасно оскорбительных. Его картина жизни была до крайности фрагментарной. Он мог жестоко ошибаться во многих вещах (хотя редко в виденных собственными глазами). В его критическом отношении к собственной стране и ее обществу концентрировалась вся раздражающая дерзость невежественной и непочтительной молодежи, без признаков искупающей скромности и уважения к возрасту и опыту. Свой антагонизм к собственному обществу он проявил в наихудшее из возможных времен, когда чувства американцев к своей стране были доведены до белого каления, а собственная способность к терпимости снизилась до предела.
И все же историк не может без чувства глубокой печали следить за трагическими и бурными прохождениями Джона Рида в рамках этого исследования. Одаренный поэт, он только и ожидал той великолепной зрелости, которая медленно и мучительно приходит к талантам, обладающим задатками великих наблюдателей, авторов и наблюдателей человеческой натуры. В то время представление Рида о России ограничивалось улицами Петрограда и Москвы. По этой причине оно было не совсем адекватным, а в некоторых отношениях и вовсе пребывающем в заблуждении. Но куда бы ни падал взгляд Рида, он со страстной искренностью и энергией фиксировал все, что перед ним лежало. Несмотря на буйные и раскованные политические пристрастия, повествование Рида о событиях того времени превосходит все другие современные записи с точки зрения своей литературной силы, проникновенности и знанием деталей. Это произведение будет вспоминаться и вспоминаться, в то время когда все остальные забудутся. Через его книгу, как и через весь причудливый отчет о его приключениях и ошибках, проходит бурная волна идеализма ослепительной честности и чистоты, которая непреднамеренно сделала честь американскому обществу, породившему Рида и достоинства которого так плохо понимал он сам.
Возможно, не следовало бы требовать от Америки того времени принятия этого глупого и непокорного ребенка и отношения к нему с нежностью и пониманием просто ради его искренности и талантов. Однако создается непреодолимое впечатление, что лечение, фактически оказанное ему на родине после возвращения из России, было уже трагически ненужным. Даже его незрелые мнения заслуживали аргументированного и терпеливого обсуждения, а не эмоционального возмущения. Было бы лучше, если провокационное поведение Рида встретили насмешливым сочувствием, нежели уголовными обвинениями. При проявлении такого внимания одаренная натура могла бы быть сохранена до того времени, когда ее таланты созрели и дали свой полный расцвет, вместо того чтобы быть выброшенной прочь и найти преждевременную смерть в Москве и погребение, скорее ироничное, чем уместное, рядом с революционными деятелями, чей прах покоится в Кремлевской стене. В любом случае Рид находился в Петрограде, когда произошла революция, пылающая, как живой факел, и порождающая огромный, зарождающийся антагонизм, который в конечном итоге разделил два великих народа, разрушил жизнь молодого таланта, как и жизнь многих других. Уже одним только этим Рид заслуживает того, чтобы его не забывали и уж тем более не подвергали осмеянию.
Все американцы, описанные в этой главе, уже мертвы. Их больше нет среди нас, чтобы подкрепить свои слова и действия той красноречивой и страстной защитой, которую каждый из них мог бы проявить по-своему. Я старался помнить об этом, знакомясь с их личностями и делами, и всегда относился к ним более внимательно и менее догматично, чем они обычно относились друг к другу. Не всегда они проявлялись в лучшем виде, и именно по этой причине приятно отметить, что, хотя все они действовали в запутанных и тяжелых обстоятельствах, не было из них ни одного, кто искал личной выгоды в сложившейся ситуации, ни одного (за исключением Рида), кто хоть на мгновение забыл бы об интересах своей страны, ни одного, кто поступил бы иначе, действуя с мужеством и убежденностью, следуя голосу честной совести.
Глава 3. Первые реакции
В прошлый вторник большевики взяли город в свои руки, и я хочу вам сказать, что это нечто ужасное…
Из письма Филипа Джордана к миссис Дэвид Р. Фрэнсис. 18 ноября 1917 г.
Окончательный захват власти большевиками в Петрограде произошел 7–8 ноября 1917 года и достиг кульминации захватом Зимнего дворца, свержением Временного правительства и арестом членов кабинета Керенского (за исключением самого Керенского) в ночь с 7 на 8 ноября.
Как было сказано в прологе, жизнь во многих районах российской столицы оставалась внешне нормальной, а официальное американское сообщество никоим образом физически не пострадало от этих волнующих событий. Посольство сыграло лишь эпизодическую и совершенно непреднамеренную роль, предоставив транспорт для побега премьера Керенского утром 7 ноября. Это произошло следующим образом.
В ночь с 6 на 7 ноября транспортные средства автомобильного парка Петроградского военного округа, обычно дислоцирующиеся около штаб-квартиры обслуживающего персонала и использующиеся в качестве официальных правительственных автомобилей, были весьма эффективно саботированы большевиками – предположительно с помощью простого снятия магнето. Поэтому утром 7 ноября, когда крейсер «Аврора» уже стоял на якоре посреди Невы и его орудия были нацелены на Зимний дворец, премьер Керенский принял решение покинуть Петроград в надежде собрать несколько лояльно настроенных войск для подавления восстания, но оказался без транспортного средства. В общем утреннем хаосе адъютант автомобильного парка прапорщик Борис Книрша был отправлен вместе с другим офицером с инструкциями «достать» одну или две машины, быть может не совсем честным способом. Отчаянно и без особой надежды на успех двое мужчин мерили шагами Петроградскую, разыскивая по памяти дома видных деятелей, известных тем, что они владеют частным автомобилем. Выйдя из дома одного такого человека на Морской и намереваясь в качестве последнего средства обратиться в посольства Великобритании и Италии, двое мужчин с удовольствием заметили припаркованный перед соседним домом красивый «рено» с американским флагом и стоящим рядом шофером. Это, как оказалось, была машина помощника американского военного атташе капитана Э. Фрэнсиса Риггса. Водитель ждал секретаря посольства Шелдона Уайтхауса в канцелярию на ежедневную работу. Прапорщик Книрша и его спутник позвонили в дверь и сказали русскому шурину Уайтхауса, барону Рамзи, что будут вынуждены реквизировать машину в личное пользование самого Керенского. Уайтхаус и Рамзи достаточно скептически отнеслись к этому заявлению и настаивали на том, что должны получить приказ от самого главы Временного правительства лично. Все четверо мужчин поехали в штаб-квартиру Генштаба, где и обнаружили Керенского, театрально расхаживающего взад-вперед, образуя некий центр нарастающей утренней неразберихи. Керенский подтвердил, что ему нужна была машина, чтобы, по его словам, отправиться в Лугу и поднять лояльные войска, с помощью которых подавить сброд, угрожавший безопасности всего города. Он признался Уайтхаусу, что большевики контролировали город, правительство, не имеющее надежных войск, практически бессильно, и полагал, что другие члены его кабинета будут арестованы в течение дня. Заодно он поручил Уайтхаусу передать послу Фрэнсису просьбу, чтобы тот не признавал советское правительство, заявив, что ожидает ликвидации восстания в течение пяти дней.
Уайтхаус не видел альтернативы и уступил автомобиль. Оставив водителя вместе с машиной разделять ее неопределенную судьбу, он вместе с Рамзи отправился в посольство пешком. Хотя Фрэнсис, опасаясь вовлечения канцелярии в политические события того дня, попытался замять инцидент, это, естественно, стало известно и привело к общему мнению, что Керенский сбежал в официальной посольской машине, прикрываясь американским флагом.
На самом же деле все было не совсем так. Истинные детали были отмечены мрачной безрезультатностью, характерной для череды событий в переломные и хаотичные времена. В дополнение к машине Риггса Книршу и его спутнику удалось «прибрать к рукам» «пирс-эрроу» известного петроградского адвоката. При побеге из города Керенский поехал на «пирс-эрроу», а Книрша занял «рено», который, управляемый финским шофером Риггса, был взят с собой в качестве резервной машины. Покидая здание Генерального штаба, шофер «пирс-эрроу» вышел вперед и стал петлять по городу, очевидно с целью обеспечить Керенскому большую защиту. Поскольку Книрша и финский шофер понятия не имели, куда должен был направиться кортеж, подобное маневрирование привело к бесцельному блужданию по улицам Петрограда, что в данных обстоятельствах было уже небезопасно.
В конце концов «пирс-эрроу» на огромной скорости помчался из города, а «рено» бросился в достаточно бестолковую погоню. Еще в самом начале гонок с «рено» свалился американский флаг (Книрша, как он говорил, подобрал его и куда-то спрятал). Бешено мчась по мощеным дорогам, Книрша и финн преследовали «пирс-эрроу» до самой Гатчины, находившейся примерно в 25 милях к югу от города.
Здесь «рено» был вынужден остановиться, чтобы заправиться и найти запасную камеру взамен лопнувшей. Керенский поехал вперед, приказав, чтобы «рено» следовал за ним до Луги, расположенной в 50 милях южнее. Найти камеру в Гатчине оказалось несколько проблематично, и только к семи часам вечера Книрша снова смог тронуться в путь.
Но у «рено» были недостаточно яркие фары. Пройдя небольшое расстояние, согласно лаконичному официальному отчету Книрши, машина в темноте «врезалась в камень». Уже не скрывая отвращения, Книрша велел финну как-нибудь отвести машину обратно в Петроград, а сам пешком отправился на ближайшую железнодорожную станцию и сел на поезд. Машина, по-видимому не слишком сильно пострадавшая от столкновения, была возвращена Риггсу примерно через день. В остальном же петроградские американцы никоим образом не были причастны к свержению правительства и не испытывали от этого особых неудобств. (Рассказ о приключениях автомобиля Риггса реконструирован по собственному отчету Книрши, включенному в статью «Вокруг Гатчины» (М.; Л., 1925), воспоминаниям Керенского (Керенский А.Ф. Катастрофа: собственная история революции Керенского. Нью-Йорк, 1927) и, наконец, по личным отчетам об инциденте, любезно предоставленным Норманом Армором и Шелдоном Уайтхаусом, проживавшими с Риггсом в доме на Морской. Стоит заметить, что воспоминания Керенского заметно отличаются от других, а последние более обстоятельны и совпадают между собой почти во всех отношениях.)
В Москве все было по-другому. Там шли гораздо более ожесточенные бои, продолжавшиеся почти неделю. Генеральное консульство, расположенное в Брюсовом переулке недалеко от центра города, оказалось в зоне обстрела. Ряд сотрудников, блокированных в служебных помещениях, были вынуждены провести там несколько дней, не имея возможности добраться до своих домов; другие укрылись в казармах французской военной миссии, поскольку здания, в которых они жили, оказались слишком уязвимыми при артобстрелах. Те, кто ухитрялся посещать офис в те дни, включая генерального консула Саммерса, делали это с большим риском для жизни, постоянно ныряя в дверные проемы и за углы, чтобы укрыться от стрельбы. Как Генеральное консульство, так и дом Саммерса были повреждены огнем из винтовок и артиллерии. Саммерс, скромно умолчав о своей собственной деятельности, особо поблагодарил Госдепартамент за героизм и эффективность работы своего помощника де Витта С. Пула. Когда наконец 14 ноября московское восстание закончилось победой большевиков, все американцы были физически невредимы и консульское учреждение возобновило привычное функционирование.
Первым актом советской власти, затронувшим интересы западных держав, стал призыв к общему прекращению войны. Напомним, что слово «мир» было одним из ключевых в главных лозунгах, с помощью которых большевистская фракция пробилась к власти. Обещание вывести Россию из войны представляло собой давнее политическое обязательство со стороны советских лидеров, начиная с Циммервальдской конференции европейских социалистов в 1915 году. Это был основной принцип большевистской политики, безусловно основанный на традиционном левосоциалистическом отношении к «империалистическим» войнам. Не забывало большевистское руководство и о том, что только путем прекращения военных действий армия могла быть успешно и окончательно дестабилизирована и обеспечила бы поддержку нового режима крестьянско-солдатскими массами.
В соответствии с этим уже 8 ноября, на следующий день после первоначального захвата власти, в разгар всех бурных событий тех дней и часов Ленин и его соратники нашли время, чтобы одобрить на Втором съезде Декрет о мире, призывающий «все воюющие народы и правительства к немедленному началу переговоров о справедливом и демократическом мире». Такой мир они определили как немедленный, «без аннексий и контрибуций».
С официальной точки зрения союзников этот декрет рассматривался как недружественный шаг. Западные страны по-прежнему смотрели на Россию как на одного из членов Антанты, поскольку никакого официального заявления о выходе страны из тройственного альянса не поступало, а Декрет о мире был принят и передан миру без предварительной консультации или предупреждения союзных правительств. Это явно угрожало нарушением формальных обязательств, взятых Россией в 1914 году по отношению к другим державам Антанты, не заключать сепаратный мир. В 1917 году, когда страсти войны достигли пика, внезапная угроза дезертирства России представляла собой не только серьезный удар по Альянсу, но и выглядела в глазах большей части западной общественности как акт откровенного вероломства и предательства.






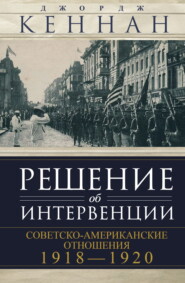
![Кочевая жизнь в Сибири (Tent life). [1864-1867]: Приключения среди коряков и других инородцев: Пер. с англ.](/covers_185/523985.jpg)

