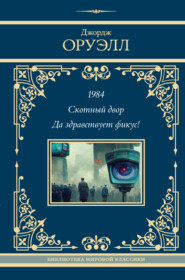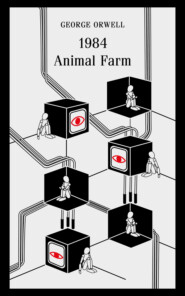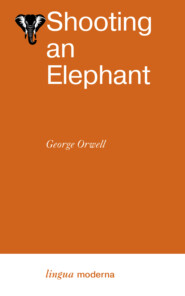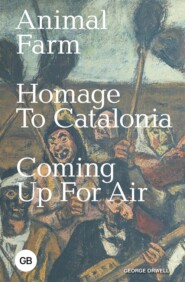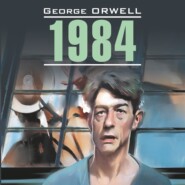По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дни в Бирме
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это будет трудно, он ведь дружит с европейцами. Все они ходят к нему, когда заболеют. Он вылечил мистера Макгрегора от флатуленции в эту холодную пору. Кажется, они его считают очень хорошим доктором.
– Как мало вы знаете европейский разум, Ко Ба Сейн! Если европейцы ходят к Верасвами, то лишь потому, что он единственный доктор в Чаутаде. Никакой европеец не доверяет черномазым. Нет, с подложными письмами нужно лишь набраться терпения. Скоро я устрою так, что у него не останется друзей.
– Есть такой мистер Порли, лесоторговец, – сказал Ба Сейн, имея в виду мистера Флори. – Он близкий друг доктора. Всякий раз, как бывает в Чаутаде, каждое утро заходит к нему домой. Два раза даже приглашал его на ужин.
– Что ж, на этот раз вы правы. Если Флори дружит с доктором, нам это может помешать. Индийцу не навредишь, когда у него друг-европеец. Это дает ему – они обожают это слово – престиж. Но Флори довольно быстро охладеет к другу, как начнутся неприятности. Эти люди не питают лояльности к туземцу. К тому же мне известно, что Флори – трус. Я с ним разберусь. А за вами, Ко Ба Сейн, остается слежка за Макгрегором. Не писал ли он недавно комиссару – в смысле, по личному делу?
– Писал два дня назад, но, когда мы вскрыли письмо, не нашли там ничего важного.
– Ну что ж, мы дадим ему тему для писем. А едва он начнет подозревать доктора, придет время для другого дела, о котором мы говорили. И тогда мы – как там говорит Макгрегор? Ах, да: убьем двух зайцев одним выстрелом. Целую стаю зайцев – ха-ха!
Смех Ю По Кьина представлял собой мерзкое бульканье, поднимавшееся из самого брюха, наподобие кашля; и все же смеялся он заразительно, как ребенок. Больше он ни слова не сказал о «другом деле», слишком секретном, чтобы обсуждать его на веранде. Ба Сейн, видя, что беседа подошла к концу, встал и отвесил поклон, точно складной метр.
– Не желает ваша честь еще чего-нибудь? – сказал он.
– Убедитесь, чтобы Макгрегор получил экземпляр «Бирманского патриота». А Хла Пе лучше скажите, чтобы он побыл дома с приступом дизентерии. Мне он понадобится для написания анонимок. Пока все.
– Я могу идти, сэр?
– Идите с богом, – несколько отвлеченно сказал Ю По Кьин и тут же громко позвал Ба Тайка.
Он ни минуты не тратил попусту. С другими посетителями он разделался довольно быстро, а деревенскую девчонку отослал не солоно хлебавши – посмотрел ей в лицо и сказал, что знать не знает. Пора было завтракать. В животе проснулся жестокий голод, нападавший на него каждое утро ровно в это время. Он нетерпеливо крикнул:
– Ба Тайк! Эй, Ба Тайк! Кин Кин! Мой завтрак! Поскорей, умираю с голода.
На столе в гостиной, за шторой, уже стояло большое блюдо с рисом и дюжина тарелок с карри, сушеными креветками и ломтями зеленого манго. Ю По Кьин проковылял к столу, уселся со стоном и набросился на еду. Позади стояла, прислуживая, его жена, Ма Кин. Это была худощавая смуглая женщина сорока лет и пяти футов роста, с лицом доброй обезьянки. Ю По Кьин сосредоточенно жевал, не замечая ее. Придвинув миску к самому носу, он проворно закидывал в рот еду жирными пальцами, часто дыша. Он всегда ел быстро, страстно и обильно; это была не столько еда, как оргия чрева, приправленная карри. Наевшись, он откинулся на спинку, рыгнул раз-другой и велел Ма Кин подать ему зеленую бирманскую сигару. Английский табак Ю По Кьин никогда не курил, заявляя, что он безвкусен.
Затем Ба Тайк помог ему облачиться в официальный наряд, и Ю По Кьин постоял в гостиной перед длинным зеркалом, любуясь собой. Гостиная с деревянными стенами и двумя колоннами из тиковых стволов, подпиравшими стропила, была темной и неряшливой, как и все бирманские комнаты, хотя Ю По Кьин украсил ее «на ингалейкский манер» лакированным сервантом и стульями, литографиями королевской семьи и огнетушителем. На полу лежали бамбуковые циновки, заляпанные соком лайма и бетеля.
В углу, на коврике, сидела Ма Кин и штопала инджи[5 - Легкая куртка.]. Ю По Кьин медленно повернулся перед зеркалом, пытаясь разглядеть спину. На нем была инджи из крахмального муслина и парчовая пасо[6 - Парадная мужская юбка.] из мандалайского шелка, с шикарным оранжево-розовым переливом, а на голове гаун-баун[7 - Парадный мужской головной убор, представляющий собой платок, накрученный на шапочку-основу.] из бледно-розового шелка. Изловчившись, он глянул за спину и увидел, как переливчатая пасо плотно обтягивает его необъятный зад. Он гордился своей тучностью, видя в массе плоти символ величия. Он, когда-то бывший безродным голодранцем, теперь был жирен, богат и внушал страх. Он наливался телами поверженных врагов; эта мысль показалась ему весьма поэтичной.
– Новую пасо достал по дешевке за двадцать две рупии, – сказал он. – Слышь, Кин Кин?
Ма Кин склонила голову над штопкой. Она была женщиной простой, старомодной, и европейские обычаи – в их числе сидение на стуле – были ей чужды еще больше, чем Ю По Кьину. Каждое утро она шла на базар, держа корзину на голове, как деревенская, а по вечерам молилась в саду на белый шпиль пагоды, возносившийся над городом. Уже двадцать с лишним лет ей были известны козни Ю По Кьина.
– Ко По Кьин, – сказала она, – ты много зла наделал в жизни.
Ю По Кьин отмахнулся от нее.
– Подумаешь, важность. Откуплюсь за все пагодами. Времени еще навалом.
Ма Кин снова склонилась над штопкой, выражая в привычной манере неодобрение.
– Но, Ко По Кьин, к чему все эти мухлежи и козни? Я слышала ваш с Ко Ба Сейном разговор на веранде. Вы замышляете что-то против доктора Верасвами. Зачем вы хотите зла индийскому доктору? Он добрый человек.
– Что ты в этом смыслишь, женщина? Этот доктор мне поперек дороги. Во-первых, взяток не берет, что никому не нравится. А кроме того… ну, кое-что понять у тебя просто мозгов не хватит.
– Ко По Кьин, ты стал богатым и властным, а что хорошего? Бедными мы были счастливей. Как сейчас помню, когда ты был простой надзиратель, и мы купили свой первый дом. Как мы гордились плетеной мебелью и твоей авторучкой с золотым пером! А когда к нам зашел молодой английский полисмен, уселся в лучшее кресло и выпил бутылку пива, за какую честь мы это считали! Счастье не в деньгах. Зачем тебе больше денег?
– Не мели ерунды, женщина! Занимайся штопкой и готовкой, а серьезные дела оставь тем, кто в них смыслит.
– Ну, не знаю. Я твоя жена и всегда тебе повиновалась. А все же о карме всегда надо помнить. Береги свою карму, Ко По Кьин! Купил бы, что ли, живой рыбы и выпустил в реку? Это карму очень чистит. А еще утром ламы приходили за рисом и сказали, что у них двое новых в монастыре голодают. Дал бы им чего-нибудь, Ко По Кьин? Я сама ничего не дала, о твоей карме пеклась.
Ю По Кьин оторвался от зеркала. Слова жены не оставили его равнодушным. Он никогда не упускал возможности почистить карму, если это ничего ему не стоило. Добрые дела в его понимании были вроде денежного вклада, неуклонно возраставшего. Каждая рыба, выпущенная в реку, каждое подаяние ламе приближали его к нирване. Эта мысль внушила в него уверенность. Он велел, чтобы корзину манго, которую принес деревенский староста, отнесли в монастырь.
Затем он вышел из дома, раскрыл желтый зонтик над головой и пошел по дороге, а за ним Ба Тайк с папкой бумаг. Ю По Кьин шел вразвалку, держа спину ровно, выпятив пузо. Розовая пасо сияла на солнце сахарной глазурью. Он направлялся в суд разбирать текущие дела.
2
Примерно в то же время, когда Ю По Кьин занялся утренним делами, «мистер Порли», лесоторговец и друг доктора Верасвами, направился из дома в клуб.
Флори был жгучим брюнетом с черными усиками, среднего роста и довольно крепкого сложения. Густая шевелюра спадала ему на лоб, а кожа его, от природы землистая, задубела на солнце. Он не растолстел и не облысел, и выглядел не старше своих тридцати пяти лет, однако лицо его, со впалыми щеками и припухшими глазами, имело, несмотря на загар, изможденный вид. Он, очевидно, не брился с утра. Одет он был по-обычному, в белую рубашку, саржевые шорты цвета хаки и чулки, на запястье висел бамбуковый стек, только вместо топи[8 - Тропический пробковый шлем.] он носил потертую широкополую шляпу-терай, заломленную набок. За ним семенил черный кокер-спаниель по кличке Фло.
Впрочем, все это не особо отличало его от остальных. Первым, что всем бросалось в глаза, было страшное родимое пятно, протянувшееся кривым серпом по левой щеке, от края глаза до рта. Сизое пятно походило на кровоподтек, отчего возникало впечатление, что Флори как следует отделали. Он прекрасно сознавал это и, едва кого-нибудь завидев, начинал маневрировать, стараясь скрыть левую половину лица.
Дом Флори стоял на краю поля, вблизи джунглей. Сразу за воротами выгоревший, буро-зеленый майдан резко шел под уклон, и по нему были разбросаны полдюжины ослепительно-белых бунгало. Все зыбилось, дрожало в жарком воздухе. На середине склона, рядом с церквушкой, крытой жестью, располагалось английское кладбище, обнесенное белой стеной. А чуть дальше стоял Европейский клуб, и именно он – одноэтажный деревянный барак – являл собой центр города. В любом индийском городе Европейский клуб служил духовной цитаделью, подлинным средоточием британской власти, той нирваной, по которой тщетно томились туземные служащие и толстосумы. В случае Чаутады это было тем более верно, ибо здешний клуб гордился тем, что едва ли не один во всей Бирме не допускал в свои члены ни единого азиата. Позади клуба катила бурные охряные воды Иравади, алмазно сверкая на солнце; а за рекой простирались необъятные рисовые поля, ограниченные темной грядой холмов на горизонте.
Туземный город, вместе с судебно-карательной системой, лежал по правую руку, по большей части скрытый рощами фиговых деревьев. Из-за деревьев вздымался золотым копьем шпиль пагоды. Это был вполне типичный город для Верхней Бирмы, почти не претерпевший изменений со времен Марко Поло до 1910 года, и он мог продремать в Средневековье еще век, если бы сюда не дотянулась железная дорога. В 1910 году британское правительство удостоило Чаутаду статуса окружного центра и очага Прогресса, что следовало понимать как совокупность судебного комплекса с целой армией пузатых, однако же вечно голодных служащих больницы, школы и одной из тех вместительных тюрем, которые англичане понастроили повсюду от Гибралтара до Гонконга. Население Чаутады составляло порядка четырех тысяч, среди которых были пара сотен индийцев, несколько десятков китайцев и семеро европейцев. Кроме того, имелись два метиса, мистер Фрэнсис и мистер Сэмюэл, отпрыски двух миссионеров – американского баптиста и римского католика соответственно. Что касается достопримечательностей, их в городе не было, не считая одного индийского факира, который вот уже двадцать лет жил на дереве вблизи базара и каждое утро поднимал на веревке корзину с едой.
Флори зевнул, выходя из ворот. Его мучило похмелье, и на ярком свете у него заныла печень.
«Вот же чертова дыра!» – подумал он, щурясь и смотря вниз с холма.
Он зашагал по раскаленной дороге, хлеща стеком пожухлую траву, и, поскольку никто, кроме собаки, не мог его услышать, запел на мотив псалма «Свят, свят, свят Ты, Единый, святостью великой»:
– Черт, черт, черт, чертовщиной до краев набитый.
Время близилось к девяти, и солнце с каждой минутой пекло все сильней. Казалось, жара ритмично лупила по голове огромной подушкой. Флори подошел к воротам клуба, думая, зайти или проследовать дальше и заглянуть к доктору Верасвами. Затем он вспомнил, что сегодня «почтовый день», когда доставляют английские газеты, и пошел в клуб мимо высокой ограды теннисного корта, заросшей вьюнком в розовато-лиловых звездах.
Дорожку окаймляли английские цветы – флоксы и шпорники, шток-розы и петунии – еще не спаленные солнцем, разросшиеся до немыслимых размеров. Петунии вымахали почти с дерево. От лужайки ничего не осталось – всю ее поглотила могучая местная флора: огненные деревья с раскидистыми кронами кроваво-красных соцветий, плюмерии, облепленные кремовыми цветами, лиловые бугенвиллеи, алые гибискусы и коралловые китайские розы, изжелта-зеленые кротоны и тамаринд с перистой листвой. Такое буйство красок под ярким солнцем резало глаза. В этих цветочных джунглях копошился полуголый малиец с лейкой, напоминая большую птицу, пьющую нектар.
На ступенях клуба стоял, засунув руки в карманы шортов и покачиваясь взад-вперед, русый англичанин с колючими усами, широко расставленными светло-серыми глазами и донельзя тощими икрами. Это был мистер Вестфилд, суперинтендант окружной полиции. Он маялся от скуки и топорщил верхнюю губу, щекоча себе усами нос. При виде Флори он чуть склонил голову набок. Выражался он по-армейски кратко, обрубая все лишнее. То и дело острил, хотя тон его был меланхоличным.
– Здоров, дружище Флори. Чертовски поганое утречко, а?
– Полагаю, другого ждать в эту пору не стоит, – сказал Флори, повернувшись чуть в профиль, чтобы скрыть свое пятно.
– Да уж, епта. Еще пара таких месяцев. Прошлый год до самого июня без дождя. Только глянь на это чертово небо – ни облачка. Это же, епта, синий таз эмалированный. Господи! Вот бы сейчас по Пикадилли, ага?
– Пришли английские газеты?
– Да. Старый добрый «Панч», «Мир спорта» и Vie Parisienne[9 - Парижская жизнь (фр.).]. Почитаешь, так и рвет на родину, а? Идем, выпьем, пока весь лед не растаял. Старина Лэкерстин, знай себе, заливает за воротник. Уже под мухой.
Они вошли, и Вестфилд мрачно произнес:
– Веди, Макдуф[10 - Реплика из «Макбета» У. Шекспира.].
В клубе, обшитом тиковыми досками, пахнувшими битумной пропиткой, было всего четыре комнаты, а именно: сиротливая «читальня» с пятью сотнями заплесневших романов; бильярдная, со старым, замызганным бильярдом, стоявшим большую часть года без дела из-за полчищ летучих жуков, круживших под лампами и сыпавшихся на сукно; карточная комната и, наконец, салон с широкой верандой, смотревшей на реку, но сейчас занавешенной зелеными бамбуковыми циновками. Салон с кокосовыми половиками, плетеными стульями и столами, усыпанными глянцевыми журналами, имел безотрадный вид. Из декора на стенах висели несколько «восточных» картинок и пыльных оленьих рогов. Свисавшее с потолка опахало еле колыхалось над столом, гоняя пыль в душном воздухе.