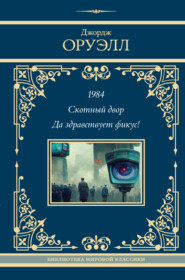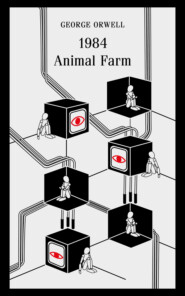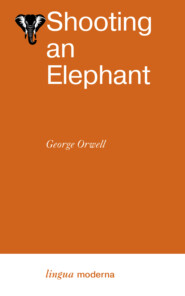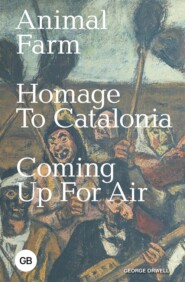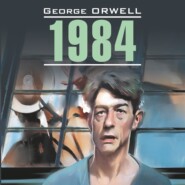По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дочь священника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сев на велосипед и пригнувшись к рулю, Дороти заторопилась вверх по холму. Узкую переносицу щипало холодным ветром. Над головой невидимо мчались навстречу слоистые низкие тучи. Ранней зарей вознесу я хвалу Тебе! Дороти намеревалась мигом проехать в задние ворота через кладбище, но, заметив черные разводы на руках, слезла, чтобы оттереть сажу растущей меж могил мокрой травой. Тем временем колокол смолк, она вскочила, кинулась со всех ног и успела войти в церковь вместе с Прогеттом, звонарем, топавшим теперь в своей потрепанной рясе и грубых огромных башмаках на пост алтарного причетника.
В храме стоял ледяной холод, пахло свечным воском и вековечной пылью. Это был старый большой храм, слишком просторный для его нынешней общины, обветшавший, почти пустынный. Три островка скамей и вполовину не заполняли главный неф, а вокруг просто каменный пол с надписями, отмечавшими плиты старинных склепов. Потолочный свод над престолом заметно прогибался; пара ярких лучей, насквозь пронзивших источенные створки ящика для церковных сборов, безмолвно обличали жучков, врагов и сокрушителей христианского мира. В тусклые окошки сочился бледный худосочный свет. Через открытые южные двери у крыльца топорщился кипарис, тихо покачивались побеленные известкой, сероватые в сумерках ветки.
Как обычно, паства на утреннем причастии была представлена одной мисс Мэйфилл, хозяйкой усадьбы Грейндж. Так мало прихожан заглядывало в церковь по будним дням, что Ректор находил юных служек лишь для воскресного обряда, когда мальчишкам нравилось щегольнуть на публике церковным облачением. Вслед за мисс Мэйфилл Дороти вошла внутрь огороженной площадки для молений и в наказание за некий вчерашний грех отодвинула подушечку, встав коленями на голый камень. Служба началась. Ректор в сутане и полотняном стихаре быстро, привычно возглашал молитвы (сейчас уже вполне отчетливо, поскольку зубной протез прочно сидел на своем месте), но вот само благословение смущало странным тоном. Ректор был крайне холоден, на строгом немолодом лице, бледном, как серебро стертой монеты, застыла отчужденность, точнее даже откровенная неприязнь. «Да, это подлинное таинство, – явственно сообщалось вам выражением лица, – и долг мой совершить публично святой обряд, однако же не забывайтесь, помните, что для вас я только духовное лицо, не друг и не приятель. Сам я симпатий к вам не питаю, смотрю на вас с пренебрежением и презрением».
Прогетт – по должности церковный сторож, звонарь, причетник и могильщик, на вид мужчина лет сорока, с курчавой сединой и смуглой морщинистой физиономией – внимал святым текстам в привычном благоговейном столбняке, не понимая ровно ничего, старательно вертя в красных ручищах миниатюрный причетный колокольчик.
Дороти прижимала веки пальцами, пытаясь сосредоточиться. Тревога о счете мясника не шла из головы, в то время как молитвы, известные до каждой запятой, впустую текли мимо. Стоило ей чуть приоткрыть глаза, они сразу пустились блуждать без всякой цели. Сначала вверх, к стоявшим на карнизе веселым безголовым ангелочкам, чьи шеи хранили зазубрины от пил, которыми казнили идолов солдаты-пуритане, потом обратно, к черневшей на голове мисс Мэйфилл шляпке «свиной пирожок» и трепыхавшимся под ней серьгам. Фигуру мисс Мэйфилл драпировало непременное ее длинное черное пальто с воротничком из сального каракуля. Дороти еще в очень раннем детстве дивилась на это сооружение. Ткань пальто отчасти напоминала шелковый муар, а еще более – древесную кору и вся, по прихоти, рассудку не доступной, змеилась ручейками шнурованного канта; возможно, эта материя и являлась остатком легендарного правещества, «черного бомбазина». Мисс Мэйфилл была стара, стара настолько, что не осталось никого, кто бы помнил время, когда она старухой не была. От нее постоянно источался слабый эфирный аромат, распознававшийся как запах нафталиновых шариков, одеколона и легкой струйки джина.
Дороти незаметно вытащила из лацкана большую портновскую булавку и под прикрытием спины мисс Мэйфилл вонзила острие себе в предплечье. Плоть дрогнула от боли. Но так и следовало – личный дисциплинарный метод, прием борьбы с кощунственной рассеянностью. Дороти давно придумала за каждую провинность наказывать себя уколом в руку, причем колоть достаточно жестоко, до крови.
С грозной булавкой наготове ей удалось молиться более благочестиво. Ректор тем временем скосил недобрый темный глаз на скрючившуюся мисс Мэйфилл, частенько осенявшую себя крестом (обычай, которого он не терпел). За стенами звонко трещали скворцы. Вдруг Дороти поймала себя на том, что взгляд тщеславно скользит по складкам ректорского стихаря, собственноручно ею сшитого два года тому назад, и, стиснув зубы, воткнула булавку на целую восьмушку дюйма.
И вновь они стояли на коленях. Читалась общая исповедь. Еще раз Дороти перевела глаза – увы, такие грешные! – и посмотрела направо, на витраж, созданный в 1851 году по эскизу члена-корреспондента Королевской академии сэра Уорда Тука и отобразивший момент торжественной официальной встречи Святого Афельстайна с ангельским корпусом Гавриила, а также замечательный тем, что все персоны на приеме в обители блаженных имели поразительное сходство как друг с другом, так и с принцем-консортом Альбертом, супругом королевы Виктории… Пришлось снова до крови вогнать в руку булавку. Усиленное внимание к смыслу звучащих слов молитвы направило мысли в нужное русло. Хотя булавка опять едва не пошла в ход на середине «Со ангелами, со архангелами», когда Прогетт бодро тряхнул свой колокольчик. На этом месте Дороти всегда настигал чудовищный соблазн захохотать. Ей сразу вспоминался случай, рассказанный отцом: маленьким мальчиком отец прислуживал у алтаря, однажды язычок в его причетном колокольчике отвинтился, звон заглох и священник под благостные распевы «Со ангелами, со архангелами, со всеми силами небесными славу Тебе поем! Тебя, Господи, славим!» шипел: «Да навинти же его, дурень, дубина бестолковая! Навинти, навинти его!»
По окончании процедуры освящения коленопреклоненная мисс Мэйфилл начала с необыкновенной медленностью, по частям, подниматься – похоже было, что туго распрямляется фанерный клоун на шарнирах. Подъем очередного сочленения сопровождался очередным дуновением нафталина и сильным скрипом, который производили отнюдь не косточки корсета, а собственные кости мисс Мэйфилл (услужливое воображение тут же подсовывало картину ожившего скелета под скорбной мантией).
Дороти все еще молилась, когда мисс Мэйфилл, покачиваясь и подергиваясь, заковыляла к престолу. Она едва могла ходить, но страшно обижалась, если ей предлагали помощь. В набор эффектных странностей мисс Мэйфилл входило и совершенно высохшее лицо, украшенное, однако, алчной пещерой огромного влажного рта. Нижняя губа, не держащая по старости слюну, отвисла, обнажив десну и ряд напоминавших клавиатуру старой пианолы желтых искусственных зубов, а над верхней губой щетинились густые росистые усы – короче, рот не из самых аппетитных, не те уста, с которыми вас манит выпить из одного бокала. И неожиданно, как будто сам нечистый ей суфлировал, Дороти зашептала: «Господи! Сделай так, чтобы мне не пришлось пригубить чашу святую после мисс Мэйфилл…» В ту же секунду она похолодела – лучше уж было откусить себе язык, чем высказать столь богохульное желание, да еще прямо перед Святым Причастием! Она так крепко всадила в руку булавку, что еле подавила крик. Затем смиренно приблизилась к алтарным ступеням и опустилась на колени слева от мисс Мэйфилл – теперь уж обязательно придется пить из потира после нее.
Низко опустив голову, сомкнув ладони, Дороти про себя читала покаянную молитву, спеша закончить до того, как отец подойдет с причастием. Но воодушевление погасло. Она слышала шарканье башмаков Прогетта и ровный отцовский голос, тихо приказывающий «возьми и съешь», видела серые проплешины красной ковровой дорожки под коленями, прекрасно ощущала рядом ароматическую смесь пыли, одеколона и нафталина, но абсолютно не имела сил думать о Теле и Крови Спасителя, даже о том, зачем она вообще сюда пришла. Ничего в мыслях, ничего в чувствах. Она пыталась перебороть себя, твердила начальные молитвенные фразы – напрасно, лишь пустые скорлупки слов. Отец остановился перед ней с облаткой в усталой, изящно вылепленной руке. Облатку Ректор держал кончиками пальцев, осторожно и аккуратно, вроде ложки с микстурой, однако глаза его неотрывно следили за мисс Мэйфилл, которая, согнувшись горбатой гусеницей, скрипела костями на все лады и так быстро, размашисто крестилась, будто стряхивала с ворота пальто лягушат. Дороти не решалась причаститься. Не смела. Честнее, гораздо честнее совсем уйти, чем взять причастие с этой душевной смутой.
Случайно она взглянула в раскрытую южную дверь. Солнце копьем пробило облака, пронзило липовые кроны, и ветка, нависавшая над входом, вдруг вспыхнула бесподобной зеленью, зеленее всех нефритов и волн Атлантики. Какой-то волшебной силы самоцвет сверкнул, наполнил проем ярчайшим зеленым блеском и в тот же миг исчез. Радость хлынула в сердце. Чем-то, что больше и глубже всего, вспышка живого цвета возвратила покой, веру, любовь. Чудесным образом зеленая листва вернула дар благодарно и счастливо молиться. О, вся прекрасная земная зелень, будь ты вовек благословенна! Облатка растаяла на языке. Дороти приняла из рук отца серебряный потир и без малейшей брезгливости, даже с особым удовольствием от этой крохотной победы над гордыней, заметила у края чаши темный слюнявый отпечаток губ мисс Мэйфилл.
2
Церковь Святого Афельстайна являлась в топографии Найп-Хилла вершинным пунктом, и, если бы вас посетило желание взобраться на колокольню, вам бы открылся вид на десять миль кругом. Хотя не так уж много было того, что стоило обозревать, – обычный плоский, слегка бугристый ландшафт Восточной Англии, несносно скучный летом, зато в зимние дни вознаграждающий отрадно постоянной привычкой вязов распускать веера голых корявых сучьев на фоне свинцовых туч.
Вплотную к церковному холму лепился городок, длинная Главная улица делила его на совершенно разные районы. Южная сторона была старинной, благородно сельской, респектабельной. На севере дыбились корпуса сахароварного завода Блифил-Гордона, вокруг густо желтели дешевым кирпичом скопления дрянных коттеджей, заселенных по преимуществу рабочими. Эти рабочие, которых в двухтысячном составе жителей Найп-Хилла насчитывалось больше половины, были из пришлых, бойкие горожане, чуть не поголовно безбожники.
Светская городская жизнь вращалась вокруг двух центров. Клуб консерваторов Найп-Хилла (торговая лицензия на все виды спиртных напитков), сквозь эркерное окно которого во всякий час после открытия буфета лучшие местные джентльмены, как толстенькие золотые рыбки в банке, дарили счастье любоваться завидной пухлостью их щек с румянцем того же яркого оттенка, что розовеет на свежайших жабрах. Чуть далее по Главной улице стильное заведение «Старинный чай» – уголок ежедневных рандеву дамской части Найп-Хилла. Не побывать утром от десяти до одиннадцати в «Старинном чае», не окунуться на полчасика в стихию очаровательного воркования: «Ах, дорогая, ты представь: с десяткой пик он выложил некозырную!.. О, дорогая, снова платишь за мой кофе? Ах, дорогая, это слишком, завтра я просто потребую платить за твой!.. Но, дорогая, погляди же на Тото – чудненький мальчик с таким чудненьким черненьким носиком! А вот мамулечка даст крошке кусочек тортика! На, мой Тотошечка!» – пренебречь непременной утренней «чашечкой кофе» в «Старинном чае» значило оказаться вне круга избранных. Ректор в своей едкой манере именовал великосветских дам «кофейной гвардией».
Неподалеку от стайки изящных («живописных») вилл, где обитали кофейные гвардейцы, но на пространстве несравненно более обширном, располагалась усадьба Грейндж, родовая крепость мисс Мэйфилл. Диковинное жилище с башенками, бойницами и прочей псевдоготической дребеденью – причуда некого безумца, исполненная в 1870 году из красных кирпичей и, к счастью, почти скрытая от глаз прохожих чащей высокого кустарника.
Дом Ректора торчал на середине холма, фасадом к церкви, тылом к Главной улице. Неясный стиль постройки включал такие архитектурные черты, как безобразность, несуразность и громоздкость, а также вечную облезлость трухлявой охристой штукатурки. Один из бывших приходских священников пристроил сбоку огромную теплицу, которую Дороти определила под мастерскую, хотя что-либо мастерить там было затруднительно ввиду стабильной, нескончаемой фазы ремонта. Сад перед домом давно был побежден нашествием косматых елей и ростом могучего густого ясеня, не пропускавшего в комнаты свет и неизменно губившего цветы на подоконниках. Сзади располагался обширный огород. Гряды весной и осенью вскапывал Прогетт, а семенами, рассадой и прополкой ведала Дороти, посвящая этим трудам буквально все время, что удавалось выкроить; в результате там обычно произрастали буйные джунгли сорняков.
Дороти спрыгнула с велосипеда. На калитку какой-то ретивый агитатор успел приляпать плакат: «Голосуйте за Блифил-Гордона и настоящую зарплату!» (близились дополнительные выборы, и мистер Блифил-Гордон шел кандидатом от консерваторов). Возле парадной двери, на изодранном кокосовом половичке, лежали два письма. Одно от надзирателя епархии, другое, отвратительно тощее (счет, разумеется), от отцовских портных из мастерской «Каткин и Палм». Отец уже наверняка забрал все интересные ему послания, бросив другие. Дороти нагнулась поднять письма и тут, с мгновенным приливом ужаса, заметила застрявший в почтовой прорези конверт без марки.
Счет, несомненно, местный счет! Но мало этого: едва взглянув, Дороти знала – кошмарный счет от Каргила! Внутри что-то оборвалось, минуту она даже безумно молилась, чтобы это был счет на три фунта и семь шиллингов из лавки мануфактурщика Солпайпа, или из магазина «Весь мир для вас», или из булочной, молочной – откуда и от кого угодно, но только не от Каргила! Кое-как подавив панику, она вытащила конверт, нервно надорвала: «Счет по задолженности. Итог = 21 фунт, 7 ш., 9 п.». Стандартный текст, деловой почерк равнодушного клерка. Но ниже крупными обвинительными буквами приписано и жирно подчеркнуто: «Попрошу уважаемое внимание, что счет находится в ожидании ОЧЕНЬ ДОЛГО. Незамедлительная уплата желательна КАТЕГОРИЧЕСКИ. С. Каргил».
Дороти побледнела и почувствовала, что завтракать ей совершенно расхотелось. Сунув конверт в карман, она направилась в столовую. Столовой служила сырая тесноватая комната, настоятельно требовавшая оклейки новыми обоями и обставленная, в ансамбле с остальными помещениями, различным древним хламом. Мебель была «солидной», но безнадежно развалившейся, продавленные шаткие кресла могли использоваться без ущерба для здоровья лишь при наличии глубоких специальных знаний об их бесчисленных пороках. По стенам потемневшие неразборчивые гравюры; одна из них, с вандейковского портрета Карла I, возможно, обладала бы даже некоторой ценностью, если б не пятна обильной плесени.
Ректор стоял перед пустым камином, отогреваясь у воображаемого огня, читая письмо, присланное в голубом элегантном конверте; черный шелк еще не снятой сутаны красиво оттенял снежную белизну волос и бледность тонкого, отнюдь не добродушного лица. При появлении Дороти Ректор отложил письмо и, вынув золотой брегет, многозначительно взглянул на стрелки.
– Боюсь, папа, что я немножко опоздала.
– Да, Дороти, ты немножко опоздала, – молвил отец, повторив слова дочери с легким, но выразительным нажимом. – Если быть точным, опоздала ровно на двенадцать минут. Не думаешь ли ты, Дороти, что, когда мне приходится вставать перед причастием в четверть седьмого и возвращаться совершенно изнуренным, было бы лучше, если бы ты прибывала к завтраку, не будучи немножко опоздавшей?
Стало ясно, что Ректор сегодня в настроении, которое Дороти про себя образно называла «трудным». Голос звучал той глубочайшей утомленностью, когда интонации не несут ни явственно сердитой, ни сколько-нибудь положительной окраски, лишь постоянное «ну до чего несносна эта ваша мышиная возня!». Вид Ректора столь же красноречиво демонстрировал вечную муку от назойливой глупости окружающих.
– Папа, прости, пожалуйста! Мне обязательно нужно было зайти справиться о здоровье миссис Тони (той самой «мс. Т.», которая значилась в памятке сразу после «СП»). Младенец у миссис Тони родился вчера ночью, и ты ведь знаешь, она обещала мне прийти, чтобы ты смог благословить ее дитя, но ведь она и не подумает прийти, если подумает, что мы не проявляем к ней участия. Ты ведь знаешь, какие они странные, эти женщины, – иногда кажется, что они просто ненавидят благословения, и не приходят никогда, если я их не уговариваю.
Ректор не проворчал, только досадливо хмыкнул на пути к столу, выразив таким образом, что, во-первых, долг этой миссис Тони явиться за благословением без всяких уговоров, а во-вторых, что Дороти не следует напрасно тратить время на разный сброд, в особенности перед завтраком. (Миссис Тони была женой фабричного рабочего и проживала in partibus infideliuro[2 - На землях неверных нечестивцев (лат.).], к северу от Главной улицы.) Ректор взялся за спинку кресла и бросил на Дороти взгляд, устало говоривший: «Можно ли, наконец, начать? Или имеются еще какие-то препоны?»
– Думаю, все уже на столе, папа, – сказала Дороти. – И если ты готов возблагодарить…
– Benedictas benedicat, – произнес Ректор, снимая с блюда ветхую парчовую салфетку.
Парчовая салфетка и десертная серебряная с остатками позолоты ложечка были фамильным достоянием; остальные столовые приборы, как и предметы фаянсовой посуды, достались с массовых сезонных распродаж.
– Опять передо мной все тот же бекон, – констатировал Ректор, разглядывая три лепестка, свернутые на квадратиках поджаренного хлеба.
– Боюсь, что это все наши припасы, – вздохнула Дороти.
Взяв вилку двумя пальцами, Ректор с легкой опасливостью перевернул один из лепестков.
– Разумеется, мне известно, – начал он, – что бекон к завтраку является столь же древним и прочным английским учреждением, как парламент. И все же ты не находишь, Дороти, что время от времени мы могли бы решиться на небольшое отступление от традиций?
– Бекон сейчас такой дешевый, – оправдываясь, пояснила Дороти, – даже грешно не покупать его. Этот, например, продавался по пять пенсов за фунт, а я недавно видела вполне приличный бекон всего по три.
– Датский, я полагаю? Какое множество разбойных датских нападений пережила наша несчастная страна! Сначала эти датчане вторгались с луками и стрелами, теперь со своим мерзким дешевым беконом. И кстати, любопытно, что же оказалось для британцев более гибельным?
Слегка повеселев от собственной остроты, Ректор сел поплотнее и довольно прилично закусил презренным беконом. Дороти бекон не ела (епитимья, наложенная на себя за сказанное накануне «черт возьми» и полчаса вчерашнего послеобеденного безделья), она придумывала удачные вступительные фразы к важному разговору.
Предстояло исполнить неприятнейшее задание – попросить у отца деньги. Достичь здесь положительного результата почти не удавалось и в относительно благоприятные моменты, сегодня же успех потребует усилий исключительных, ибо по всем признакам этим утром отец не только «трудный», но и «сложный» (еще один из эвфемизмов Дороти для внутреннего пользования). «Ему, наверно, сообщили какие-то плохие новости», – уныло размышляла Дороти, глядя на голубой конверт.
Никто, побеседовав с Ректором больше десяти минут, не стал бы отрицать, что он принадлежал к «трудному» человеческому типу. Но разве по собственной вине? Причина хронически дурного расположения духа крылась в том безусловном природном факте, что он являл собой анахронизм. Ему никак нельзя было родиться в двадцатом веке, сам воздух которого душил и возмущал его. Пару столетий назад он был бы скептиком широких взглядов, тешил бы себя стихотворчеством или коллекцией окаменелостей и наслаждался прелестью свободы, пока младший викарий за сорок фунтов в год тащил бы на себе все приходские хлопоты. Даже теперь он мог бы, при относительном благополучии, разочарованно покинуть современный варварский мир. Однако скромное уединение под сенью канувших веков по нашим временам стоит недешево. Не менее двух тысяч фунтов в год. Естественно, прикованный своим мизерным доходом к эпохе Ленина и «Дейли Мэйл»[3 - Популярная, отвечающая обывательским вкусам газета.], он никогда не выходил из состояния раздражительности, которая, конечно, изливалась на наиболее доступные объекты – прежде всего на Дороти.
Младший сын младшего сына баронета, Ректор родился в 1871 году и принял духовный сан вследствие благородного обычая награждать младших, отлученных от наследства, сыновей профессией священника. В виде первой церковной бенефиции ему достался обширный лондонский приход среди трущоб Ист-Сайда – богомерзкое скопище грязных бандитских притонов, которое он вспоминал с глубоким отвращением. Уже тогда «низшие классы» (он предпочитал именно этот термин) начали вольничать, непозволительно дерзить. Несколько лучше стало, когда его перевели викарием в какое-то местечко графства Кент (где, кстати, родилась Дороти); в том захолустье благопристойно приниженные поселяне еще снимали шляпы перед «его преподобием». Почти идиллия, однако Ректор успел чертовски неудачно жениться, а поскольку священникам не подобает давать пример семейных распрей, злосчастье его брака копилось в тайне, то есть было стократ ужасней. В Найп-Хилл он прибыл в 1908 году, имея при себе свои тридцать семь лет и безнадежно испорченный характер, довольно скоро распугавший причисленных к его округу мужей, жен и детей малых.
Паства рассеялась не оттого, что Ректор был дурным священником, а оттого, каким священником он был. Все служебные обязанности он выполнял с неукоснительной корректностью – быть может, несколько излишней для равнодушной к церемониям общины, взращенной в лоне Низкой церкви Восточной Англии. Он совершал обряды с безупречным вкусом, сочинял образцовые проповеди, вставал до света по средам и пятницам, чтобы отслужить причастие самым тщательным образом. Однако то, что Ректор, духовный попечитель прихода, имеет некие обязанности и за стенами храма, – такое даже не мелькало в его мыслях. Лишенный финансовой возможности взять в помощь младшего священника, он поручал всю досаждавшую возню с приходом сначала супруге, а после ее кончины, случившейся в 1921 году, – дочери. Люди ехидно говорили, что, будь тут его воля, он дал бы Дороти и проповеди за себя читать. Злословили несправедливо; «низшие классы» обижало высокомерие нищего священника. Явись он перед ними богачом, они привычно кинулись бы ползать и угождать, ну а в реальных обстоятельствах дружно его возненавидели. В свою очередь, Ректора мало трогало, любят или не любят его эти людишки, само существование которых он едва ли замечал. Однако и с «высшими классами» отношения у него сложились ничуть не лучше. Надменностью он постепенно оттолкнул все сельское дворянство, тем же явным пренебрежением внук баронета уязвил и городскую нетитулованную знать. За двадцать три года служения в Найп-Хилле ему удалось сократить паству Святого Афельстайна с шестисот прихожан до неполных двух сотен.
Не только личный характер Ректора способствовал этому впечатляющему результату. Настроенная на старинный дух «высокая» ветвь англиканства, к которой упрямо льнул высокородный священник, имела свойство примерно в равной степени быть неприятной для всех приходских партий. Вообще в наши дни у служителя церкви лишь два пути к публичному успеху. Либо просто (вернее, именно непросто: затейливо и театрально) творить обряды на католический манер, либо удариться в самую дерзкую широту модных воззрений и утешительно доказывать с амвона, что никакого ада за гробом нет и все хорошие религии одно и то же. Ректор отвергал оба курса. Кипучие возвышенные страсти англокатоликов он, кривя губы, называл «римской лихорадкой», зато простецких прихожан то и дело насмерть сражал роковым словом «католический», употребляя его не только в текстах из Писания, но и в собственной речи. Таким образом, паства все таяла и таяла, причем первыми удалились Лучшие Люди. Ушел владевший пятой частью графства лорд Покторн, хозяин Покторн-корта, за ним крупный помещик, в прошлом негоциант-кожеторговец мистер Ливис, затем сэр Эдвард Хьюзон из Крэбтри-холла, затем и остальные благородные джентльмены – владельцы автомобилей.
Большая часть изменников теперь по воскресеньям отправлялась за пять миль в Миллборо. Там было вдвое больше жителей и два храма на выбор. Для модернистов – церковь Святого Эдмунда: над алтарем цитата из поэмы Блейка[4 - Поэт, художник и философ Уильям Блейк (1757–1827); мистическая символика его произведений стала особенно модной в эпоху европейского «нового стиля».] «Иерусалим», к причастию вино в ликерных рюмочках. Для поклонников Рима, непримиримых партизан вечной войны против британского Епископа, – церковь Святого Уэдекинда. И некоторые шли в этой битве до конца: так, мистер Камерон, секретарь Клуба консерваторов Найп-Хилла, всецело обратился в католичество, и дети его ринулись на передний край римско-католического литературного фронта (ходили слухи, что даже попугая в этом семействе научили твердить «Extra ecclesiam nulla salus»[5 - «Вне Церкви нет спасения» (лат.) – формула католического догмата и главный пункт расхождения с протестантизмом, отвергающим посредничество Церкви.]). В итоге из персон со сколько-нибудь видным положением верность Святому Афельстайну сохранила одна мисс Мэйфилл из усадьбы Грейндж. Любимой церкви была завещана большая часть ее немалых капиталов. По крайней мере так утверждала сама мисс Мэйфилл, хотя при этом ни разу не было замечено, чтоб ее лепта в церковных сборах превысила шесть пенсов; к тому же щедрая завещательница, очевидно, владела секретом вечной жизни.
Первые десять минут завтрака прошли в полнейшей тишине. Дороти собиралась с духом, храбрилась – требовалось завести ну хоть какой-то разговор, чтобы приблизиться к вопросу о деньгах. Отец не был любезным светским собеседником. То он парил в неведомых высотах и вряд ли даже слышал вас, а то, напротив, слушал с чрезвычайным, чересчур пристальным вниманием и затем утомленно резюмировал, что говорить такую чушь вообще не стоило. От вежливых банальностей (погода и тому подобное) мгновенно разгорался его сарказм. Тем не менее в целях дипломатичного вступления Дороти выбрала именно погоду.
– Странный сегодня день, не правда ли? – произнесла она и, еще не договорив, сама поразилась бессмысленности замечания.
– Чем же странный? – осведомился Ректор.
– Ну, я хочу сказать, что утром было холодно и сыро, а теперь солнце вышло и погода стала лучше.
– Есть ли здесь нечто странное?
«Ох, нет, – думала Дороти, – это совсем не подходит. Ему, должно быть, сообщили очень плохие новости». Она сделала новую попытку:
– Мне бы ужасно хотелось, папа, чтобы ты как-нибудь пришел взглянуть на огород. У красной фасоли в этом году рост просто удивительный, стручки, наверно, будут длиннее фута. Надо самые крупные плети оставить на Праздник урожая. Будет ведь просто замечательно, если украсить амвон гирляндами фасоли и несколькими яркими томатами…