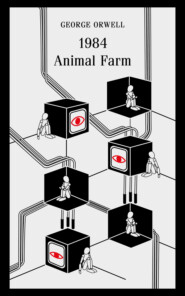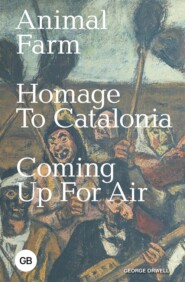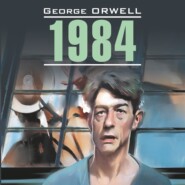По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
1984
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ни одного! – ответил Уинстон с какой-то виноватой поспешностью. – Сам везде искал. Их больше нет.
Все спрашивали про лезвия. Вообще-то у него лежали еще два нетронутых про запас. Последние месяцы с лезвиями была беда. В партийных магазинах постоянно пропадал то один, то другой товар первой необходимости: то пуговицы, то нитки, то шнурки; теперь вот – лезвия. Их можно было раздобыть только украдкой на «свободном» рынке, если повезет.
– Бреюсь одним уже полтора месяца, – соврал Уинстон.
Очередь продвинулась еще на шаг. Он остановился, вновь обернулся и взглянул на Сайма. Оба взяли засаленные металлические подносы из стопки с краю стойки.
– Ходил вчера смотреть, как вешают пленных? – спросил Сайм.
– Я работал, – равнодушно ответил Уинстон. – Увижу, наверное, в кино.
– Весьма неравноценная замена, – заявил Сайм.
Его насмешливый взгляд шарил по лицу Уинстона.
«Знаю я тебя, – словно говорил этот взгляд, – насквозь вижу. Я прекрасно знаю, почему ты не ходил смотреть, как вешают пленных».
Сайм, как интеллектуал, был язвительно правоверен. Он со злорадством говорил о вертолетных атаках на вражеские деревни, о процессах и признаниях мыслефелонов, о казнях в подвалах Министерства любви. В беседах приходилось все время уводить его от этих тем и по возможности переводить разговор на технические тонкости новояза, о которых он рассказывал интересно и со знанием дела. Уинстон слегка повернулся, уклоняясь от испытующего взгляда больших темных глаз.
– Хорошая была казнь, – мечтательно протянул Сайм. – Я считаю, зря им ноги связывают. Люблю смотреть, как они дрыгаются. А больше всего – в конце, как язык высовывается, голубой такой, почти ярко-синий. Вот что меня трогает.
– Дальше, пжалста! – прокричала пролка с половником, одетая в белый фартук.
Уинстон и Сайм задвинули подносы под решетку. Каждому шмякнули стандартные порции: жестяную миску с розовато-серым рагу, ломоть хлеба, кубик сыра, кружку черного кофе «Победа» и одну таблетку сахарина.
– Вон за тот столик, под телеэкраном, – сказал Сайм. – Пошли, возьмем джин по дороге.
Джин налили в фаянсовые кружки без ручек. Сайм и Уинстон пробрались через запруженный зал и разгрузили подносы на металлический столик, на углу которого кто-то пролил отвратную подливу от рагу. Жижа напоминала рвоту. Уинстон взял кружку джина, замер на миг, собираясь с духом, и залпом выпил маслянистую жидкость. Сморгнув выступившие слезы, он неожиданно ощутил голод. Уинстон принялся наворачивать рагу, в котором при всей его клеклости попадались розоватые пористые кубики, считавшиеся мясом. Оба приятеля ели молча, пока не подчистили миски. Слева за спиной Уинстона кто-то без умолку трещал, перекрывая общий гомон грубым и отрывистым гусиным гоготанием.
– Как продвигается словарь? – спросил Уинстон, перекрикивая шум.
– Медленно, – отозвался Сайм. – Сижу над прилагательными. Завораживает.
Заговорив о новоязе, Сайм сразу просиял. Он отодвинул миску, схватил в одну хрупкую руку ломоть хлеба, а в другую – сыр и перегнулся через стол, чтобы не приходилось кричать.
– Одиннадцатое издание станет академическим, – заговорил он. – Мы придаем языку завершенный вид – таким он и останется, когда все будут говорить только на новоязе. Когда закончим, то людям вроде тебя придется переучивать все заново. Ты думаешь, смею сказать, что мы в основном новые слова изобретаем. Ничего подобного! Мы уничтожаем слова – уйму слов, сотни слов – каждый день. Мы срезаем с языка все лишнее, до костей. В одиннадцатом издании ни единое слово не устареет до 2050 года.
Он с жадностью откусил хлеб, прожевал и дважды сглотнул, затем продолжил говорить со страстностью педанта. Его худое смуглое лицо оживилось, глаза лишились насмешливого выражения и выглядели почти мечтательно.
– Как прекрасно – уничтожать слова. Конечно, больше всего хлама скопилось в глаголах и прилагательных, но и среди существительных сотни лишних. И это не только синонимы; еще и антонимы. Сам подумай, какой смысл в слове, которое означает всего-навсего противоположность чего-то другого? Всякое слово само по себе может выражать свою противоположность. Возьмем, к примеру, «хорошо» – «хор» на новоязе. Если у тебя есть слово «хорошо», какой смысл в слове «плохо»? «Нехор» ничем не хуже, а даже лучше, поскольку являет собой полную противоположность, какой нет у слова «плохо». Опять же, если тебе нужно усилить значение «хор», какой смысл пользоваться целым рядом расплывчатых никчемных слов вроде «превосходно», «великолепно» и прочих им подобных? «Плюсхор» дает нужный смысл, а если нужно еще сильнее подчеркнуть, то «дубльплюсхор». Конечно, мы и так уже их используем, но в окончательной версии новояза других вариантов и не останется. В итоге весь спектр хорошего и плохого будут охватывать шесть слов, точнее, шесть форм одного слова. Разве ты не видишь, как это прекрасно, Уинстон? – сказал он и добавил после паузы: – Идея принадлежит, разумеется, Б-Б.
При упоминании о Большом Брате на лице Уинстона обозначилось вялое рвение. Однако Сайм тут же почувствовал недостаток энтузиазма.
– Нет у тебя настоящего понимания новояза, Уинстон, – почти грустно объявил он. – Даже когда ты пишешь, то все еще думаешь на староязе. Я почитываю кое-что из твоих сочинений для «Таймс». Они довольно хороши, но это переводы. Сердцем ты цепляешься за старояз со всей его расплывчатостью и никчемными смысловыми оттенками. Ты не можешь постичь красоты разрушения слов. Известно ли тебе, что новояз – единственный язык в мире, чей словарь сокращается с каждым годом?
Уинстону, разумеется, это было известно. Он улыбнулся, пытаясь показать сочувствие, но не решился раскрыть рот. Сайм откусил еще бурого хлеба, быстро прожевал и продолжил:
– Разве ты не видишь, что вся цель новояза – сузить горизонт мышления? В конце концов, мы сделаем мыслефелонию попросту невозможной, потому что для нее не будет слов. Для каждого важного понятия останется одно-единственное слово со строго определенным значением, а все добавочные оттенки выскоблят и забудут. В одиннадцатом издании мы уже недалеки от нашей цели. Но работа продолжится даже после нашей смерти. С каждым годом слов будет все меньше, горизонт сознания – чуть уже. И сейчас, разумеется, для мыслефелонии нет ни надобности, ни оправдания. Это лишь вопрос самодисциплины, управления реальностью. Но в конце и она не понадобится. Когда Революция достигнет завершения, язык станет идеален. Новояз есть Ангсоц, Ангсоц есть новояз, – добавил он с каким-то мистическим пылом. – Тебе не приходило на ум, Уинстон, что самое позднее к 2050-му не останется ни единого человека, который сможет понять наш сегодняшний разговор?
– Кроме… – начал Уинстон нерешительно и осекся.
Он чуть было не ляпнул «кроме пролов», но сдержался при мысли, что в таком замечании можно уловить некоторое вольнодумство. Однако Сайм угадал его мысль.
– Пролы не люди, – отмахнулся он. – К 2050-му, если не раньше, никто по-настоящему не будет владеть староязом. Вся литература прошлого будет уничтожена. Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон останутся только на новоязе, но не просто измененными, а значащими прямо противоположное. Изменится даже литература Партии. Даже лозунги. Откуда появится лозунг вроде «свобода – это рабство», когда упразднят само понятие свободы? Вся атмосфера мышления станет другой. Фактически, мышления в нашем сегодняшнем понимании уже не будет. Правоверность означает отсутствие мысли и самой необходимости в ней. Правоверность бессознательна.
Тут Уинстон проникся глубоким убеждением, что в скором времени Сайма испарят. Он слишком умный. Видит слишком ясно и говорит слишком прямо. Партия таких не любит. Однажды он исчезнет. У него на лице это написано.
Уинстон доел хлеб с сыром. Принявшись за кофе, он повернулся на стуле боком. За столиком слева продолжал разоряться хрипатый говорун. Он обращался к молодой женщине, сидевшей спиной к Уинстону, – скорее всего, своей секретарше, которая, похоже, безоговорочно с ним соглашалась. Время от времени Уинстон слышал ее моложавый и глуповатый голосок со словами вроде: «По-моему, вы совершенно правы, я так с вами согласна». Но говорун не умолкал ни на секунду, даже когда девушка пыталась ответить. Уинстон несколько раз видел его в министерстве и знал, что тот занимает какую-то важную должность в Художественном отделе. Это был мужчина лет тридцати, с мускулистой шеей и большим подвижным ртом. Он чуть откинул голову, и свет так падал на его очки, что Уинстону виделись два белых круга вместо глаз. Ощущения жути добавлял извергавшийся из него словесный поток, который было почти невозможно разделить на отдельные слова. Только раз Уинстон разобрал целую фразу – «полное, бесповоротное уничтожение голдштейнизма», – произнесенную такой скороговоркой, что она казалась слитной массой, как строка, набранная без пробелов. В остальном это звучало просто какофонией, га-га-гаканьем. Но даже без понимания отдельных слов не возникало ни малейшего сомнения в общей направленности его речи. Скорее всего, он поносил Голдштейна и требовал ужесточить меры против мыслефелонов и вредителей, негодовал по поводу зверств евразийской армии, восхвалял Большого Брата или героев Малабарского фронта – без разницы. Так или иначе ты мог быть уверен, что каждое его слово – образец правоверности, чистый Ангсоц. Глядя на это лицо без глаз, с быстро двигавшимся ртом, Уинстон испытал странноватое впечатление, что перед ним не живой человек, а какой-то механический болванчик. Произносимая тирада происходила не от мозга, но от глотки. Исторгавшаяся звуковая масса состояла из слов, но не была речью в подлинном ее смысле – лишь продуктом бессознательного, вроде гусиного гогота.
Сайм ненадолго замолчал, выводя что-то черенком ложки в луже подливы. Гоготание не ослабевало, уверенно перекрывая окружающий гомон.
– В новоязе есть слово, – сказал Сайм. – Не уверен, знаешь ли ты его: гусояз? Когда кто-то бубнит, как гусь. Одно из таких интересных слов, у которых два противоположных значения. В отношении оппонента это оскорбление, но если ты согласен со смыслом, то комплимент.
Уинстон снова подумал, что Сайма испарят, без вариантов. Печальная мысль, хотя он хорошо понимал, что Сайм его презирает и недолюбливает, а при малейшем поводе может запросто объявить мыслефелоном. С Саймом что-то было не в порядке. Ему чего-то не хватало: осмотрительности, скрытности или спасительной тупости. Нельзя было утверждать, что он неправоверен. Он верил в принципы Ангсоца, почитал Большого Брата, восторгался победами, ненавидел отступников не просто искренне, но с какой-то одержимостью, он располагал последними сведениями, недоступными рядовым партийцам. И все же от него всегда веяло духом неблагонадежности. Сайм говорил вещи, которые не стоило озвучивать, читал слишком много книг, то и дело посещал кафе «Под каштаном», приют художников и музыкантов. Не было запрета, хотя бы даже неписаного, на посещение «Под каштаном», и все же это место имело дурную славу. Одно время там собирались старые, лишившиеся доверия партийные вожди, пока их не зачистили окончательно. По слухам, сам Голдштейн заглядывал туда годы, десятилетия тому назад. Судьбу Сайма предугадать было несложно. Однако не приходилось сомневаться, что если бы ему хоть на пару секунд открылись тайные взгляды Уинстона, то он тут же бы сдал приятеля в Мыслеполицию. Как и любой на его месте, если уж на то пошло, но Сайм наверняка. Одного пыла и рвения было мало. Правоверность бессознательна.
Саймон поднял взгляд и произнес:
– Вон Парсонс идет.
Его интонация словно бы уточняла: «дурень чертов». К ним действительно пробирался Парсонс, сосед Уинстона по жилкомплексу «Победа» – невысокий русоволосый крепыш с лягушачьим лицом. В тридцать пять он уже отрастил брюшко и валик жира на загривке, но двигался по-мальчишески проворно. Всем своим видом он напоминал пацана-переростка, так что, даже будучи одетым в форменный комбинезон, он невольно представлялся в синих шортах, серой рубашке и красном галстуке Разведчиков. Воображение при этом всегда дорисовывало ямочки на коленях и закатанные рукава с пухлыми предплечьями. Парсонс и вправду при любой возможности надевал шорты – в турпоходах и на всех мероприятиях, где это было допустимо. Он поприветствовал их обоих веселым «Здрасьте, здрасьте!» и присел за столик, обдав Сайма и Уинстона ядреным потным духом. Все его розовое лицо покрывали бисеринки пота. Такая способность к потоотделению поражала. В Центре досуга всегда можно было понять по влажной ручке ракетки, когда он играл в настольный теннис. Сайм достал полоску бумаги с длинным столбиком слов и принялся изучать их, держа чернильный карандаш наготове.
– Вы только посмотрите, и в обед работает, – сказал Парсонс, тронув локтем Уинстона. – Азарт, а? Что там у тебя, старина? Небось не по моим мозгам? Смит, старик, я к тебе вот с каким делом. Ты забыл мне денежку сдать.
– На что собираем? – уточнил Уинстон, машинально потянувшись к карману.
Порядка четверти зарплаты приходилось отдавать на добровольные взносы, настолько многочисленные, что трудно было уследить за всеми.
– На Неделю Ненависти. Ну, знаешь… жилищный фонд. Я казначей по нашему корпусу. Не жалеем сил – забабахаем такое шоу, закачаешься. Чтоб мне провалиться, если старушка «Победа» не выставит больше всех флагов на улице. Ты мне обещал два доллара.
Уинстон нашел и протянул две мятые засаленные банкноты, которые Парсонс аккуратным почерком малограмотных отметил в блокнотике.
– Кстати, старина, – сказал он. – Я слышал, мой пострел засветил в тебя вчера из рогатки. Я ему устроил хорошую головомойку. Сказал, что вообще отберу рогатку, если еще такое случится.
– Думаю, что он слегка расстроился, когда его не взяли на казнь, – сказал Уинстон.
– А, ну это… что я хочу сказать – подает надежды, верно? Сорванцы оба несносные, к слову об азарте! У них на уме одни Разведчики; ну и война, само собой. Знаешь, что моя дочурка вытворила в прошлое воскресенье, когда ее отряд был в походе на Беркхамстед? Сманила еще двух девчонок, они выскользнули из отряда и до вечера следили за одним типом. Два часа пасли его по лесу, а как дошли до Амершема, сдали его патрульным.
– Зачем же это? – опешил Уинстон.
Но Парсонс продолжал с гордым видом:
– Дочурка смекнула, что он какой-то вражеский агент – может, сбросили на парашюте или еще как. Но вот в чем суть, старик. С чего, думаешь, она его заподозрила? Заметила на нем туфли чудные – сказала, никогда ни на ком таких не видела. Так что он наверняка был иностранец. Скажи, умно для семилетней пигалицы, а?
– И что с ним сделали? – спросил Уинстон.
– А, чего не знаю, того не знаю. Но я бы не особо удивился, если…
И Парсонс изобразил руками выстрел из ружья, прищелкнув языком.
Все спрашивали про лезвия. Вообще-то у него лежали еще два нетронутых про запас. Последние месяцы с лезвиями была беда. В партийных магазинах постоянно пропадал то один, то другой товар первой необходимости: то пуговицы, то нитки, то шнурки; теперь вот – лезвия. Их можно было раздобыть только украдкой на «свободном» рынке, если повезет.
– Бреюсь одним уже полтора месяца, – соврал Уинстон.
Очередь продвинулась еще на шаг. Он остановился, вновь обернулся и взглянул на Сайма. Оба взяли засаленные металлические подносы из стопки с краю стойки.
– Ходил вчера смотреть, как вешают пленных? – спросил Сайм.
– Я работал, – равнодушно ответил Уинстон. – Увижу, наверное, в кино.
– Весьма неравноценная замена, – заявил Сайм.
Его насмешливый взгляд шарил по лицу Уинстона.
«Знаю я тебя, – словно говорил этот взгляд, – насквозь вижу. Я прекрасно знаю, почему ты не ходил смотреть, как вешают пленных».
Сайм, как интеллектуал, был язвительно правоверен. Он со злорадством говорил о вертолетных атаках на вражеские деревни, о процессах и признаниях мыслефелонов, о казнях в подвалах Министерства любви. В беседах приходилось все время уводить его от этих тем и по возможности переводить разговор на технические тонкости новояза, о которых он рассказывал интересно и со знанием дела. Уинстон слегка повернулся, уклоняясь от испытующего взгляда больших темных глаз.
– Хорошая была казнь, – мечтательно протянул Сайм. – Я считаю, зря им ноги связывают. Люблю смотреть, как они дрыгаются. А больше всего – в конце, как язык высовывается, голубой такой, почти ярко-синий. Вот что меня трогает.
– Дальше, пжалста! – прокричала пролка с половником, одетая в белый фартук.
Уинстон и Сайм задвинули подносы под решетку. Каждому шмякнули стандартные порции: жестяную миску с розовато-серым рагу, ломоть хлеба, кубик сыра, кружку черного кофе «Победа» и одну таблетку сахарина.
– Вон за тот столик, под телеэкраном, – сказал Сайм. – Пошли, возьмем джин по дороге.
Джин налили в фаянсовые кружки без ручек. Сайм и Уинстон пробрались через запруженный зал и разгрузили подносы на металлический столик, на углу которого кто-то пролил отвратную подливу от рагу. Жижа напоминала рвоту. Уинстон взял кружку джина, замер на миг, собираясь с духом, и залпом выпил маслянистую жидкость. Сморгнув выступившие слезы, он неожиданно ощутил голод. Уинстон принялся наворачивать рагу, в котором при всей его клеклости попадались розоватые пористые кубики, считавшиеся мясом. Оба приятеля ели молча, пока не подчистили миски. Слева за спиной Уинстона кто-то без умолку трещал, перекрывая общий гомон грубым и отрывистым гусиным гоготанием.
– Как продвигается словарь? – спросил Уинстон, перекрикивая шум.
– Медленно, – отозвался Сайм. – Сижу над прилагательными. Завораживает.
Заговорив о новоязе, Сайм сразу просиял. Он отодвинул миску, схватил в одну хрупкую руку ломоть хлеба, а в другую – сыр и перегнулся через стол, чтобы не приходилось кричать.
– Одиннадцатое издание станет академическим, – заговорил он. – Мы придаем языку завершенный вид – таким он и останется, когда все будут говорить только на новоязе. Когда закончим, то людям вроде тебя придется переучивать все заново. Ты думаешь, смею сказать, что мы в основном новые слова изобретаем. Ничего подобного! Мы уничтожаем слова – уйму слов, сотни слов – каждый день. Мы срезаем с языка все лишнее, до костей. В одиннадцатом издании ни единое слово не устареет до 2050 года.
Он с жадностью откусил хлеб, прожевал и дважды сглотнул, затем продолжил говорить со страстностью педанта. Его худое смуглое лицо оживилось, глаза лишились насмешливого выражения и выглядели почти мечтательно.
– Как прекрасно – уничтожать слова. Конечно, больше всего хлама скопилось в глаголах и прилагательных, но и среди существительных сотни лишних. И это не только синонимы; еще и антонимы. Сам подумай, какой смысл в слове, которое означает всего-навсего противоположность чего-то другого? Всякое слово само по себе может выражать свою противоположность. Возьмем, к примеру, «хорошо» – «хор» на новоязе. Если у тебя есть слово «хорошо», какой смысл в слове «плохо»? «Нехор» ничем не хуже, а даже лучше, поскольку являет собой полную противоположность, какой нет у слова «плохо». Опять же, если тебе нужно усилить значение «хор», какой смысл пользоваться целым рядом расплывчатых никчемных слов вроде «превосходно», «великолепно» и прочих им подобных? «Плюсхор» дает нужный смысл, а если нужно еще сильнее подчеркнуть, то «дубльплюсхор». Конечно, мы и так уже их используем, но в окончательной версии новояза других вариантов и не останется. В итоге весь спектр хорошего и плохого будут охватывать шесть слов, точнее, шесть форм одного слова. Разве ты не видишь, как это прекрасно, Уинстон? – сказал он и добавил после паузы: – Идея принадлежит, разумеется, Б-Б.
При упоминании о Большом Брате на лице Уинстона обозначилось вялое рвение. Однако Сайм тут же почувствовал недостаток энтузиазма.
– Нет у тебя настоящего понимания новояза, Уинстон, – почти грустно объявил он. – Даже когда ты пишешь, то все еще думаешь на староязе. Я почитываю кое-что из твоих сочинений для «Таймс». Они довольно хороши, но это переводы. Сердцем ты цепляешься за старояз со всей его расплывчатостью и никчемными смысловыми оттенками. Ты не можешь постичь красоты разрушения слов. Известно ли тебе, что новояз – единственный язык в мире, чей словарь сокращается с каждым годом?
Уинстону, разумеется, это было известно. Он улыбнулся, пытаясь показать сочувствие, но не решился раскрыть рот. Сайм откусил еще бурого хлеба, быстро прожевал и продолжил:
– Разве ты не видишь, что вся цель новояза – сузить горизонт мышления? В конце концов, мы сделаем мыслефелонию попросту невозможной, потому что для нее не будет слов. Для каждого важного понятия останется одно-единственное слово со строго определенным значением, а все добавочные оттенки выскоблят и забудут. В одиннадцатом издании мы уже недалеки от нашей цели. Но работа продолжится даже после нашей смерти. С каждым годом слов будет все меньше, горизонт сознания – чуть уже. И сейчас, разумеется, для мыслефелонии нет ни надобности, ни оправдания. Это лишь вопрос самодисциплины, управления реальностью. Но в конце и она не понадобится. Когда Революция достигнет завершения, язык станет идеален. Новояз есть Ангсоц, Ангсоц есть новояз, – добавил он с каким-то мистическим пылом. – Тебе не приходило на ум, Уинстон, что самое позднее к 2050-му не останется ни единого человека, который сможет понять наш сегодняшний разговор?
– Кроме… – начал Уинстон нерешительно и осекся.
Он чуть было не ляпнул «кроме пролов», но сдержался при мысли, что в таком замечании можно уловить некоторое вольнодумство. Однако Сайм угадал его мысль.
– Пролы не люди, – отмахнулся он. – К 2050-му, если не раньше, никто по-настоящему не будет владеть староязом. Вся литература прошлого будет уничтожена. Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон останутся только на новоязе, но не просто измененными, а значащими прямо противоположное. Изменится даже литература Партии. Даже лозунги. Откуда появится лозунг вроде «свобода – это рабство», когда упразднят само понятие свободы? Вся атмосфера мышления станет другой. Фактически, мышления в нашем сегодняшнем понимании уже не будет. Правоверность означает отсутствие мысли и самой необходимости в ней. Правоверность бессознательна.
Тут Уинстон проникся глубоким убеждением, что в скором времени Сайма испарят. Он слишком умный. Видит слишком ясно и говорит слишком прямо. Партия таких не любит. Однажды он исчезнет. У него на лице это написано.
Уинстон доел хлеб с сыром. Принявшись за кофе, он повернулся на стуле боком. За столиком слева продолжал разоряться хрипатый говорун. Он обращался к молодой женщине, сидевшей спиной к Уинстону, – скорее всего, своей секретарше, которая, похоже, безоговорочно с ним соглашалась. Время от времени Уинстон слышал ее моложавый и глуповатый голосок со словами вроде: «По-моему, вы совершенно правы, я так с вами согласна». Но говорун не умолкал ни на секунду, даже когда девушка пыталась ответить. Уинстон несколько раз видел его в министерстве и знал, что тот занимает какую-то важную должность в Художественном отделе. Это был мужчина лет тридцати, с мускулистой шеей и большим подвижным ртом. Он чуть откинул голову, и свет так падал на его очки, что Уинстону виделись два белых круга вместо глаз. Ощущения жути добавлял извергавшийся из него словесный поток, который было почти невозможно разделить на отдельные слова. Только раз Уинстон разобрал целую фразу – «полное, бесповоротное уничтожение голдштейнизма», – произнесенную такой скороговоркой, что она казалась слитной массой, как строка, набранная без пробелов. В остальном это звучало просто какофонией, га-га-гаканьем. Но даже без понимания отдельных слов не возникало ни малейшего сомнения в общей направленности его речи. Скорее всего, он поносил Голдштейна и требовал ужесточить меры против мыслефелонов и вредителей, негодовал по поводу зверств евразийской армии, восхвалял Большого Брата или героев Малабарского фронта – без разницы. Так или иначе ты мог быть уверен, что каждое его слово – образец правоверности, чистый Ангсоц. Глядя на это лицо без глаз, с быстро двигавшимся ртом, Уинстон испытал странноватое впечатление, что перед ним не живой человек, а какой-то механический болванчик. Произносимая тирада происходила не от мозга, но от глотки. Исторгавшаяся звуковая масса состояла из слов, но не была речью в подлинном ее смысле – лишь продуктом бессознательного, вроде гусиного гогота.
Сайм ненадолго замолчал, выводя что-то черенком ложки в луже подливы. Гоготание не ослабевало, уверенно перекрывая окружающий гомон.
– В новоязе есть слово, – сказал Сайм. – Не уверен, знаешь ли ты его: гусояз? Когда кто-то бубнит, как гусь. Одно из таких интересных слов, у которых два противоположных значения. В отношении оппонента это оскорбление, но если ты согласен со смыслом, то комплимент.
Уинстон снова подумал, что Сайма испарят, без вариантов. Печальная мысль, хотя он хорошо понимал, что Сайм его презирает и недолюбливает, а при малейшем поводе может запросто объявить мыслефелоном. С Саймом что-то было не в порядке. Ему чего-то не хватало: осмотрительности, скрытности или спасительной тупости. Нельзя было утверждать, что он неправоверен. Он верил в принципы Ангсоца, почитал Большого Брата, восторгался победами, ненавидел отступников не просто искренне, но с какой-то одержимостью, он располагал последними сведениями, недоступными рядовым партийцам. И все же от него всегда веяло духом неблагонадежности. Сайм говорил вещи, которые не стоило озвучивать, читал слишком много книг, то и дело посещал кафе «Под каштаном», приют художников и музыкантов. Не было запрета, хотя бы даже неписаного, на посещение «Под каштаном», и все же это место имело дурную славу. Одно время там собирались старые, лишившиеся доверия партийные вожди, пока их не зачистили окончательно. По слухам, сам Голдштейн заглядывал туда годы, десятилетия тому назад. Судьбу Сайма предугадать было несложно. Однако не приходилось сомневаться, что если бы ему хоть на пару секунд открылись тайные взгляды Уинстона, то он тут же бы сдал приятеля в Мыслеполицию. Как и любой на его месте, если уж на то пошло, но Сайм наверняка. Одного пыла и рвения было мало. Правоверность бессознательна.
Саймон поднял взгляд и произнес:
– Вон Парсонс идет.
Его интонация словно бы уточняла: «дурень чертов». К ним действительно пробирался Парсонс, сосед Уинстона по жилкомплексу «Победа» – невысокий русоволосый крепыш с лягушачьим лицом. В тридцать пять он уже отрастил брюшко и валик жира на загривке, но двигался по-мальчишески проворно. Всем своим видом он напоминал пацана-переростка, так что, даже будучи одетым в форменный комбинезон, он невольно представлялся в синих шортах, серой рубашке и красном галстуке Разведчиков. Воображение при этом всегда дорисовывало ямочки на коленях и закатанные рукава с пухлыми предплечьями. Парсонс и вправду при любой возможности надевал шорты – в турпоходах и на всех мероприятиях, где это было допустимо. Он поприветствовал их обоих веселым «Здрасьте, здрасьте!» и присел за столик, обдав Сайма и Уинстона ядреным потным духом. Все его розовое лицо покрывали бисеринки пота. Такая способность к потоотделению поражала. В Центре досуга всегда можно было понять по влажной ручке ракетки, когда он играл в настольный теннис. Сайм достал полоску бумаги с длинным столбиком слов и принялся изучать их, держа чернильный карандаш наготове.
– Вы только посмотрите, и в обед работает, – сказал Парсонс, тронув локтем Уинстона. – Азарт, а? Что там у тебя, старина? Небось не по моим мозгам? Смит, старик, я к тебе вот с каким делом. Ты забыл мне денежку сдать.
– На что собираем? – уточнил Уинстон, машинально потянувшись к карману.
Порядка четверти зарплаты приходилось отдавать на добровольные взносы, настолько многочисленные, что трудно было уследить за всеми.
– На Неделю Ненависти. Ну, знаешь… жилищный фонд. Я казначей по нашему корпусу. Не жалеем сил – забабахаем такое шоу, закачаешься. Чтоб мне провалиться, если старушка «Победа» не выставит больше всех флагов на улице. Ты мне обещал два доллара.
Уинстон нашел и протянул две мятые засаленные банкноты, которые Парсонс аккуратным почерком малограмотных отметил в блокнотике.
– Кстати, старина, – сказал он. – Я слышал, мой пострел засветил в тебя вчера из рогатки. Я ему устроил хорошую головомойку. Сказал, что вообще отберу рогатку, если еще такое случится.
– Думаю, что он слегка расстроился, когда его не взяли на казнь, – сказал Уинстон.
– А, ну это… что я хочу сказать – подает надежды, верно? Сорванцы оба несносные, к слову об азарте! У них на уме одни Разведчики; ну и война, само собой. Знаешь, что моя дочурка вытворила в прошлое воскресенье, когда ее отряд был в походе на Беркхамстед? Сманила еще двух девчонок, они выскользнули из отряда и до вечера следили за одним типом. Два часа пасли его по лесу, а как дошли до Амершема, сдали его патрульным.
– Зачем же это? – опешил Уинстон.
Но Парсонс продолжал с гордым видом:
– Дочурка смекнула, что он какой-то вражеский агент – может, сбросили на парашюте или еще как. Но вот в чем суть, старик. С чего, думаешь, она его заподозрила? Заметила на нем туфли чудные – сказала, никогда ни на ком таких не видела. Так что он наверняка был иностранец. Скажи, умно для семилетней пигалицы, а?
– И что с ним сделали? – спросил Уинстон.
– А, чего не знаю, того не знаю. Но я бы не особо удивился, если…
И Парсонс изобразил руками выстрел из ружья, прищелкнув языком.