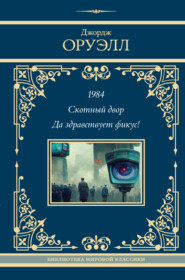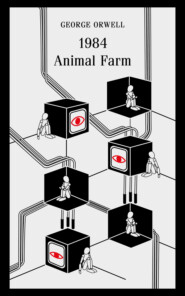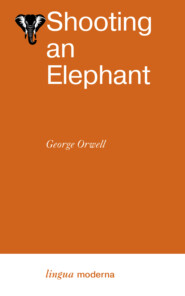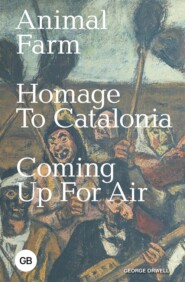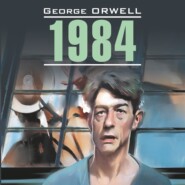По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Да здравствует фикус! Дочь священника (сборник)
Автор
Жанр
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
НАВЕКИ ОСТАВШИЙСЯ В СЕРДЦАХ СЭМЮЭЛЬ ИЕЗЕКИИЛЬ КОМСТОК, ПРЕДАННЫЙ СУПРУГ, НЕЖНЫЙ ОТЕЦ, ОБРАЗЕЦ ЧЕСТИ И ДОБРОДЕТЕЛИ, РОЖДЕННЫЙ 9.07.1828, ПОЧИВШИЙ 5.09.1901.
СКОРБЬ ДЕТЕЙ БЕЗУТЕШНА.
СПИ СПОКОЙНО В ОБЪЯТИЯХ ИИСУСА.
Нет нужды повторять богохульные комментарии каждого, знавшего дедулю Комстока. Однако стоит отметить, что плита с вышеприведенной эпитафией весила около пяти тонн, чем, несомненно, отвечала пусть бессознательным, но очевидным желаниям потомства надежно застраховать себя от явления дедушки из могилы. Сокровенные чувства родни к покойному наиболее точно и конкретно измеряются весом надгробия.
Тех Комстоков, среди которых вырос Гордон, отличали вялость, обшарпанность, фамильная невзрачность. Им на удивление не хватало живучести. Дедуля тут постарался. К моменту его кончины дети стали взрослыми, а некоторые уже достигли средних лет, и все годы малейшие ростки их духа подавлялись. Он проехал по ним чугунным катком, и ни одна расплющенная личность никогда не смогла воспрянуть. Все как один – шеренга бесцветных безвольных неудачников. Никто из сыновей не преуспел в профессии, поскольку папенька с отменным упорством рассовал их по наименее подходящим поприщам. И лишь Джон (отец Гордона) расхрабрился – женился еще при жизни своего родителя. Нельзя было представить кого-то из отпрысков дедули Комстока сколько-нибудь значительным, созидающим либо разрушающим, очень счастливым или глубоко несчастным, полнокровно живущим или хотя бы солидно обеспеченным. Им выпало только покорно прозябать, цепляясь за скудеющую респектабельность. Весьма типичное в срединно-средних слоях пришибленное семейство, где никогда ничего новенького не случается.
С ранних лет Гордона жутко тяготил тоскливый хоровод родни. Поначалу вокруг кружило довольно много дядюшек и тетушек, схожих линялой тусклостью, довольно хилых, вечно обеспокоенных деньгами, постоянно по этому поводу стенавших, однако, упаси Господи, без скандальных драм. Примечательно, что в них угас даже инстинкт продолжения рода. Люди по-настоящему жизнеспособные, есть деньги или нет, напористо и органично размножаются. Тот же дедуля Комсток, в своей семье двенадцатый ребенок, сам наплодил одиннадцать детей. Но все потомство этих одиннадцати свелось к двоим – Гордону и его сестре Джулии. Гордон, последний отпрыск Комстоков, незапланированно появился на свет в 1905-м, а потом за долгие тридцать лет в семействе ни единого рождения, лишь похороны. И не только свадеб или крестин, вообще ничего новенького не случалось. Все Комстоки, казалось, были обречены запуганно таиться по своим норкам. Абсолютное неумение как-либо действовать, ни грана храбрости куда-либо пробиться, хотя бы в автобус. Все, разумеется, безнадежные дурни насчет денег. По завещанию дедули нажитый им капитал был разделен более-менее равномерно, так что после продажи краснокирпичной крепости на каждого пришлось около пяти тысяч фунтов. И едва дорогой дедуля опочил, наследники принялись тратить. Смельчаков с шиком просадить свою долю на нечто вроде скачек или прекрасных дам, естественно, не нашлось; они просто по чуточке, по капельке выкидывали денежки на ветер. Дочери на безмозглые вложения, сыновья на какое-нибудь небольшое «свое дело», неизменно хиревшее и приносившее лишь потери. Более половины наследников дедули скончались, не изведав брачной жизни. После смерти отца для пары давно отцветших дочек нашлись мужья, сыновьям же ввиду неспособности заработать осталось пополнить ряды джентльменов, которые «не могут позволить себе жениться». Никто, кроме тети Энджелы, не обзавелся собственным жильем; жались по нанятым, богом забытым квартиркам или мрачным пансионам. И год за годом умирали от невнятных, зато съедавших последние пенни болезней. А тетю Шарлотту в 1916-м пришлось отправить в Клэйпхемский сумасшедший дом. Как переполнены в Англии эти дома скорби! И в основном за счет одиноких старых дев среднего сословия. К 1934 году из старших в живых оставались лишь трое: умалишенная тетя Шарлотта, тетя Энджела, которую в 1912 году нечаянно осенило купить домик и крошечную ренту, и дядя Уолтер, неуверенно существовавший на куцый остаток наследной доли, управлявший каким-то ничтожным «агентством».
Гордон рос в атмосфере подштопанной одежды и бараньих хрящей на ужин. Отец его, очередной забитый Комсток, ребенком проявлял, однако, некую сообразительность гуманитарного оттенка, а потому дедуля, заприметив тягу к чтению и ужас перед арифметикой, само собой, ткнул его изучать бухгалтерию. Так что он дипломированно (и весьма бездарно) занимался финансовым учетом и покупал акции распадавшихся через год компаний, наскребая шаткий годовой доход – то пять, то всего две сотни, с постоянной тенденцией к снижению. Умер он в 1922-м, совсем еще не старым, измученным многолетней болезнью почек.
Поскольку Комстоки являлись семейством хоть бедным, но благородным, нельзя было не выкинуть дикую сумму на «образование» Гордона. Страшная штука «образовательный» психоз! Это означает послать сына в приличную (то есть какую-никакую, но закрытую частную) школу, ради чего немало лет влачить существование, которым побрезговала бы и семья слесаря. Гордона отправили в никудышное претенциозное заведение, где год стоил около ста двадцати фунтов, хотя даже такая плата требовала от домашних бесконечных лишений. Джулию, старшую сестру, фактически оставили без образования (пару раз отдавали в захудалые школьные пансиончики; к шестнадцати годам сочли, что ей вполне достаточно). Гордон ведь «мальчик», и было так естественно пожертвовать «девочкой». Тем более что сына, как сразу решила родня, отличали «способности». Умный Гордон при его замечательных «способностях» достигнет вершин учености, блистательно себя проявит и вернет Комстокам удачу – тверже, восторженнее всех в это верила Джулия. Высокая, намного выше Гордона, нескладная, с худеньким личиком и явно длинноватой шеей гусенка, непременно появлявшегося в мыслях при взгляде на нее. Преданная наивная душа, предназначенная хлопотать по хозяйству, штопать, гладить, услуживать.
С юности отмеченная клеймом старой девы, Гордона она боготворила. Холила, баловала, носила старые тряпки, чтоб у него был приличный школьный костюмчик, копила весь год карманные полпенни, чтобы дарить ему подарки на Рождество и в день рождения. И разумеется, став взрослым, он отблагодарил сестру, эту дурнушку без «способностей», глубоким презрением.
Даже в его третьеразрядной школе почти все мальчики были богаче. Быстро проведав о бедности Гордона, соученики, как полагается, устроили ему хорошенькую жизнь. Нет, вероятно, большей жестокости к ребенку, чем отправить его в среду деток из значительно более богатых семейств. Никакому взрослому снобу не приснятся муки такого малыша. В школе, особенно начальной, существование Гордона было сплошным напряженным притворством, постоянным усилием представить себя, свою родню не столь нищими. Ох, унижения тех лет! Например, тот кошмар, когда в начале каждого семестра требовалось публично «предъявлять» директору сумму карманных денег, и он показывал свою горстку монеток под хор издевательских смешков. А когда выяснилось, что костюмчик у него из магазина и всего за тридцать бобов! Но хуже всего было в родительские дни. Гордон, тогда еще набожный, горячо молился, чтобы к нему никто не приезжал. Особенно отец; как было не стыдиться такого – поникшего, бледного, как труп, очень сутулого, плохо, совсем не модно одетого? От него так и веяло тоской, беспокойством, неудачей. А он еще имел эту ужасную привычку, прощаясь, на глазах у школяров давать сыну полкроны – лишь полкроны вместо более-менее пристойного десятка бобов! И через двадцать лет Гордона при воспоминании о школе пронизывала дрожь.
Первым итогом всего этого стало, конечно, преклонение мальчика перед деньгами. Он просто возненавидел свою пристукнутую нищетой родню – отца, и мать, и Джулию, и остальных. Возненавидел за их мрачное жилье, дурное платье, вечные охи и вздохи над пенсами, за то, что в доме постоянно звучало «мы не можем себе этого позволить». О деньгах он мечтал с чисто детской неотвязностью. Почему невозможно хорошо одеваться, покупать конфеты и часто ходить в кино? Почему родители у него не такие, как у других ребят? Почему они бедняки? Потому что, делал вывод детский ум, они сами так захотели, им так нравится.
Однако он рос и становился – нет, не менее глупым, но глупым по-другому. В школе он постепенно освоился, угнетали его уже менее свирепо. Успехами не блистал (не занимался и от вершин учености был далек), тем не менее развивал мозги по некоторым полезным для статуса среди однокашников направлениям. Читая книги, которые с кафедры запрещал директор, высказывал неортодоксальные взгляды на англиканскую церковь, патриотизм и нерушимое школьное братство. Тогда же он начал сочинять стишки, чуть позже даже посылать их (неизменно отклоняемые) в «Атенэум», «Новый век» и «Вестминстерскую газету». Подобралась, конечно, компания подобных – каждая частная школа имеет кружок критически мыслящей интеллигенции. А в ту пору, сразу после войны, бунтарский дух так обуял Англию, что проник даже за ограды закрытых школ. Молодые, включая самых зеленых юнцов, до крайности взъярились на старших; любой хоть как-то шевеливший мозгами вмиг сделался мятежником. Стариканы ошеломленно забили крыльями, закудахтали о «подрывных идеях». Гордон с дружками пришли от «подрывных идей» в восторг. Целый год выпускали, размножая на копировальном аппарате, подпольную ежемесячную газету «Большевик», где восхваляли социализм и свободную любовь, призывали к распаду Британской империи, упразднению армии и т. п. Повеселились от души. Каждый начитанный подросток в шестнадцать лет социалист. В этом возрасте крючок в приманке не заметить.
Лихо пустившись рассуждать насчет бизнеса, юный Гордон рано ухватил, что суть всей современной коммерции – надувательство. Забавно, что навели его на эту мысль расклеенные в подземке рекламы. Думал ли он, как выражаются биографы, что придет время и он сам станет служащим рекламной фирмы? Бизнес, однако, оказался не просто жульничеством, поставленным на деловую основу. Ясно увиделось безумное поклонение деньгам, настоящий культ. Ставший, возможно, ныне единственной – согретой живым чувством – религией. Занявший престол господний новейший Бизнес-бог, а также финансовый успех или провал вместо библейских добра и зла и, соответственно, иной наказ о долге человеческом. Никаких десяти заповедей, лишь два приказа: жрецам и пастырям – «Твори деньги!», а пастве прислужников и рабов – «Страшись потерять свою работу!». Примерно в это время Гордон наткнулся на книжку «Добродетельные голодранцы»[8 - Роман Роберта Тресселла (1870–1911).], историю про плотника, заложившего все, кроме фикуса, и фикус стал для него символом. Вовсе не белая роза, фикус – цветок Англии! Фикус надо поместить на герб Британии вместо льва и единорога. Никакой революции не будет, пока торчат в окошках эти фикусы.
Ненависть и презрение к родне стихли; во всяком случае, уменьшились. Они все еще очень его тяготили – ветшавшие, вымиравшие дядюшки и тетушки, вконец изболевшийся отец, «слабенькая» (с легкими у нее был непорядок) мать, уже совершеннолетняя, по-прежнему хлопотавшая от зари до зари, по-прежнему не имевшая ни одного красивого платья Джулия. Но теперь он все про них понимал. Не в том дело, что денег мало; главное – даже обеднев, они цепляются за мир, где деньги – добродетель, а бедность порочна. Их, неудачников, уверовавших в кодекс денег, губит сознание непристойности нищеты. Им даже не приходит в голову мысль плюнуть да просто жить, как – и насколько правильно! – живут низшие классы. Шапки долой перед фабричным парнем, что с пятаком в кармане женится на своей милашке! У него-то хоть в жилах кровь, а не цифры доходов и расходов.
Так размышлял юный наивный эгоист. В жизни, решил он, только два пути: либо к богатству, либо прочь от него. Иметь деньги или отвергнуть их, только не эта гиблая трясина, когда на деньги молишься, но не умеешь их добыть. Лично для себя Гордон выбрал принципиальный отказ. Может, вышло бы по-другому, имей он больше склонности к счетным наукам: преподаватели вдолбили, что разгильдяю вряд ли удастся «преуспеть». Ну и ладно! Отлично! Он, напротив, целью поставит именно «не преуспеть». Лучше король в аду, чем раб на небесах, и лучше уж прислуживать чертям, чем херувимам. Итак, Гордон в шестнадцать лет понял, за что бороться – против Бизнес-бога и всего скотского служения деньгам. Он объявил войну; пока, конечно, тайную.
Через год умер отец, оставив лишь двести фунтов. Джулия к этому времени уже несколько лет служила: сначала в муниципальной конторе, затем, окончив кулинарные курсы, в гнуснейшем («дамском») чайном кафе у метро «Графский двор». Семьдесят два часа в неделю за двадцать пять шиллингов, из которых более половины она тратила на семейное хозяйство. Теперь, после смерти отца, разумнее всего было бы забрать Гордона из школы и отправить трудиться, а Джулии на двести фунтов обзавестись своим собственным кафе. Но обычная дурь Комстоков – ни Джулия, ни мать даже подумать не могли о прекращении учебы Гордона, со своим странным идеалистическим снобизмом готовые скорей отправиться в работный дом. Две сотни должны пойти на завершение «образования» сына. Гордон не возразил. Да, он объявил войну деньгам, но жуткого эгоизма от этого в нем не убавилось. Он, конечно, боялся пойти работать. Какой мальчик не оробел бы? Господи, строчить бумажки в какой-нибудь дыре! Дядюшки, тетушки уже вздыхали, обсуждая, как его устроить, и беспрестанно поминая «хорошие места». Ах, молодой Смит получил такое хорошее место в банке! Ах, молодой Джонс получил такое хорошее место в страховой компании!.. Похоже, они мечтали всех молодых англичан заколотить в гробы «хороших мест».
Между тем нужно было как-то добывать деньги. Мать, которая до замужества обучала музыке, а иной раз и потом, в моменты безденежья, брала учеников, решила возобновить это занятие. Найти учеников в Эктоне, их предместье, было нетрудно; платы за уроки и заработков Джулии хватило бы, вероятно, чтобы «справляться» пару лет. Только вот слабенькое здоровье миссис Комсток стало как-то совсем уж слабым. Ездивший к умиравшему мужу доктор, прослушав ее легкие, хмуро покачал головой и рекомендовал беречь себя, теплее одеваться, есть питательную пищу, а главное – не переутомляться. Нервозная возня с учениками тут подходила менее всего. Сын, правда, ничего об этом не знал. Но Джулия знала, и они с матерью таили от дорогого мальчика грустный диагноз.
Прошел год. Гордон провел его довольно безрадостно, все больше мрачнея из-за обтрепанных обшлагов и жалкой мелочи в кармане, что совершенно уничтожало его перед девушками. Однако в «Новом веке» тиснули его стишок. Мать пока за два шиллинга в час мучилась в промозглых гостиных на фортепианных табуретках. Но наконец Гордон кончил школу, и докучливо суетливый дядя Уолтер вызвался через одного делового приятеля своего делового приятеля попробовать устроить его на «хорошее место» – счетоводом в фирме кровельных красок. Роскошное место, блестящее начало! Юноше открывается возможность при надлежащем упорстве и прилежании подняться там со временем до самых солидных постов! Душа Гордона заныла. Как свойственно порой слабым натурам, он вдруг взбрыкнул и, к ужасу родни, наотрез отказался даже сходить представиться.
Поднялось суматошное смятение, Гордона не могли понять, отказ от шанса попасть на «хорошее место» ошеломил богохульством. Он повторял, что такую работу ему не нужно. Но какую же, какую? Ему хотелось бы писать, сердито буркнул Гордон. «Писать»? Но как же жить, чем зарабатывать? Ответа у него, конечно, не было. Имелась смутная, слишком абсурдная для оглашения идея как-нибудь существовать стихами. Во всяком случае, не приближаться к пляскам вокруг денег; работать, только уж не на «хорошеньких местечках». Никто, естественно, этих мечтаний не уразумел. Мать плакала, даже Джулия возражала, огорченно и укоризненно тормошились дядюшки, тетушки (их тогда еще оставалось с полдюжины). А через три дня случилось страшное несчастье. Посреди ужина мать сильно закашлялась, упала, прижав руки к груди, ничком, изо рта у нее хлынула кровь.
Гордон перепугался. Бессильную, на вид почти покойницу, мать отнесли наверх, и сын понесся за доктором. Неделю мать лежала при смерти; хождения к ученикам в любую непогоду и сквозняки сырых гостиных не прошли даром. Сидя дома, Гордон терзался кошмарным чувством вины (он все-таки подозревал, что матери пришлось буквально жизнью оплачивать последний год его учебы). Противиться стало невозможно, упрямец согласился просить место у производителей кровельной краски. Тогда дядя Уолтер поговорил с приятелем, а тот со своим, и Гордона отправили на собеседование к старому джентльмену со щелкавшей вставной челюстью, и тот взял его на испытательный срок. Гордон приступил, за двадцать пять шиллингов в неделю. И проработал там шесть лет.
Из зеленого Эктона семья переехала в угрюмый многоквартирный дом среди таких же кирпичных казарм за Пэддингтонским вокзалом. Перевезя свое фортепиано, миссис Комсток, едва чуть-чуть окрепла, снова стала давать уроки. Жалованье сына слегка подросло, так что втроем они потихоньку «справлялись», хотя, главным образом, благодаря заработкам матери и сестры. Гордона занимали лишь его личные проблемы. В конторе он был не из худших, зарплату отрабатывал, однако общей жаждой успеха не пылал. Надо сказать, презрение к работе неким образом облегчало ему жизнь. Он бы не вынес жуткого конторского болота, если б не верил, что вырвется оттуда. Рано или поздно, так или этак сбежит на волю. В конце концов, у него есть «писательство». Когда-нибудь, наверно, получится жить собственным «пером». Ведь творчество свободно, ведь поэта не душит власть вонючих денег? От всех этих типчиков вокруг, особенно от стариканов, его корежило. Вот оно, поклонение Бизнес-богу! Корпеть, «гореть на работе», грезить о повышении, продать душу за домик с фикусом! Стать «достойным маленьким человеком», мелким подлипалой при галстуке и шляпе – в шесть пятнадцать домой, к ужину пирог с повидлом, полчасика симфонической музыки у радиоприемника и перед сном капельку законных плотских утех, если женушка «в настроении»! Нет, эта участь не для него. Прочь отсюда! прочь от денежной помойки! – воодушевлял он себя перед боем, лелея в душе тайный единоличный заговор. Народ в конторе не догадывался о соседстве такого радикала. Никто даже не подозревал, что он поэт (собственно, это было неудивительно, поскольку за шесть лет в печати появилось менее двадцати его стишков). С виду обычный клерк – солдатик безликой массы, которую качает у поручней метро, утром в Сити и вечером обратно.
Ему исполнилось двадцать четыре, когда умерла мать. Семейство рушилось. Из старших оставались тетя Энджела, тетя Шарлотта, дядя Уолтер и еще один дядюшка, вскоре скончавшийся. Гордон и Джулия разъехались по разным адресам: он в меблированные комнаты на Даунти-стрит (улицы Блумсбери как бы уже давали ощущение причастности к литературе), она в район «Графского двора», поближе к службе. Джулии теперь было тридцать, а выглядела она много старше. Здоровье ее пока не подводило, но она исхудала, в волосах появилась седина. Трудилась она все так же по двенадцать часов в сутки, недельное жалованье за шесть лет повысилось на десять шиллингов; управительница чайного кафе, чрезвычайно благовоспитанная дама, вела себя скорее как друг, то есть выжимала все соки из «душеньки» и «дорогуши». Через три месяца после похорон матери Гордон внезапно уволился со службы. Так как причин ухода он, по счастью, не назвал, в фирме решили, что нашлось нечто получше, и выдали вполне приличные рекомендации. Но он насчет другого места не помышлял, ему хотелось сжечь мосты, а вот тогда, о! На свободу, глотнуть воздуха – воздуха, чистого от копоти вонючих денег. Не то чтобы он сидел, дожидался смерти матери, однако смог расхрабриться лишь сейчас.
Конечно, остатки родни взволновались пуще прежнего. Составилось даже мнение о не совсем здравом рассудке Гордона. Множество раз он пытался объяснить, почему больше не отдаст себя в рабство «хорошему месту», и слышал только причитания «как же ты будешь жить? на что ты будешь жить?». На что? Он не желал всерьез об этом думать. Но, хотя сохранялись смутные мечты существовать на гонорары, хотя он уже был дружен с редактором «Антихриста» и Равелстон помимо публикации его стихов устраивал ему иногда газетные статьи, несмотря на чуть забрезживший в глухом тумане шанс литераторства, все-таки побудило бросить работу не желание «писать». Главным было отринуть мир денег. Впереди рисовалось нечто вроде бытия отшельника, живущего подобно птицам небесным. Забыв, что птичкам не надо оплачивать квартиру, виделась каморка голодного поэта, но как-то так, не слишком голодающего.
Следующие полгода стали крахом. Провалом, ужаснувшим Гордона, почти сломившим его дух. Довелось узнать, каково месяцами жить на хлебе с маргарином, пытаться «писать» с мыслями только о жратве, заложить гардероб, дрожа проползать мимо двери суровой хозяйки, которой уже четыре срока не платил. К тому же за эти полгода не удалось сочинить практически ничего. Первый результат, понял он, – нищета тебя растаптывает. Явилось чрезвычайно новое открытие того, что безденежье не спасает от денег, а как раз полностью им подчиняет, что без презренного, обожаемого средним классом «достатка» ты просто раб. Настал день, когда его после банального скандала турнули с квартиры. Трое суток он жил на улице. Было хреново. Затем, по совету парня, тоже ночевавшего на набережной, Гордон потопал в порт, чтобы возить оттуда к рынку тачки наваленной вихляющими грудами живой рыбы. С каждой тачки два пенса в руку и адская боль в дрожащих мускулах. При этом толпа безработных, так что сначала еще надо дождаться очереди; десяток пробегов от четырех до девяти утра считался большой удачей. Через пару дней силы иссякли. Что теперь? Он сдался. Оставалось лишь вернуться, занять у родни денег и снова искать место.
Места, разумеется, не обнаружилось. Пришлось сесть на шею родственникам. Джулия содержала его до последнего пенни своих мизерных сбережений. Кишки сводило от стыда.
Красиво обернулся вызов надменных поз! Отверг деньги, вышел на смертный бой с миром наживы, и вот – приживальщик у сестры! И Джулия, печально тратя последние гроши, переживает больше всего его неудачу. Она так верила в него, единственного Комстока, который добьется успеха. Даже сейчас верит, что он – с его «способностями»! – сможет, если захочет, разбогатеть и всех их осчастливить. Целых два месяца Гордон прожил в Хайгете, в крохотном домишке тети Энджелы (старенькой, иссохшей тети Энджелы, которой самой едва хватало прокормиться). На сей раз он отчаянно искал работу, но дядя Уолтер уже не способен был помочь: его деловые связи, и прежде невеликие, свелись к нулю. Однако вдруг нежданно повезло – через кого-то, дружившего с кем-то, кто дружил с братом дамы, «поработившей» Джулию, удалось получить место в отделе учета «Нового Альбиона».
«Новый Альбион» был одной из рекламных контор, которых после войны развелось как грибов или, вернее, плесени. Цепкая, пока еще небольшая фирма, хватавшая любой заказ. В частности, тут разработали популярные плакаты суперкалорийной овсянки и мгновенных кексов, хотя основным направлением являлась реклама шляпок и косметики в дамских журналах, а также всяческие мелкие анонсы воскресных газетенок, типа «Полосатые Пастилки снимут все женские недомогания», «Удача по Гороскопу профессора Раратонго», «Семь Секретов Венеры», «Невидимая Чудо-штопка», «Как на досуге заработать Пять Фунтов в неделю», «Кипарисовый Лосьон – красота волос без перхоти» и т. п. Имелся, разумеется, изрядный штат продвигавших коммерцию авторов и художников. Гордон здесь познакомился с Розмари. Заговорил он с ней не сразу. Работавшая в «студии», где изобретали журнальную рекламу, она для него долго оставалась лишь проворно мелькавшей фигуркой, очень привлекательной, но пугающей. Когда они встречались в коридорах, она посматривала с ироничным прищуром и будто слегка насмехаясь, однако же, казалось, чуть-чуть задерживала взгляд. Он, простой клерк из бухгалтерии, не имел отношения к ее творческим сферам.
Стиль работы «Альбиона» отличал дух острейшей современности. Любой тут знал, что суть рекламы – наглый торгашеский обман. В фирме кровельной краски еще держались неких понятий коммерческой чести, в «Альбионе» только похохотали бы над этой чушью. Здесь царил чисто американский подход – ничего святого, кроме денег; трудились, исповедуя принцип: публика – свинья, реклама – грохот мешалки в свином корыте. Такой вот искушенный цинизм, в сочетании с самым наивным, суеверным трепетом перед Бизнес-богом. Гордон скромно приглядывался. Как и раньше, работал без особого пыла, позволяя коллегам взирать на него сверху вниз. В мечтах ничего не изменилось (когда-нибудь он все равно дернет отсюда!), даже после кошмарного фиаско идея бегства не погасла, он лишь присутствовал. Повадки сослуживцев – прилежно ползавших традиционных вечных гусениц или же по-американски бойко, перспективно копошившихся личинок – его скорее забавляли. Интересно было наблюдать холуйские рефлексы, функционирование пугливых рабских мозгов.
Однажды случилось маленькое происшествие. Наткнувшись в журнале на стихотворение Гордона, некто из счетного отдела весело объявил, что «среди нас завелся поэт». Гордону удалось почти натурально посмеяться вместе со всеми. Его после того прозвали «бардом», причем звучало это снисходительно: подтвердилось коллективное мнение насчет Гордона – парню, маравшему стишки, уж точно «не прорваться». Эпизод, однако, имел последствия. Коллегам уже надоело подтрунивать над Гордоном, когда его вдруг вызвал доселе едва знавший о нем главный менеджер, мистер Эрскин.
Грузная неуклюжая стать, широкий румянец и медлительная речь мистера Эрскина позволяли предположить некую его связь с полеводством или животноводством. В мыслях столь же неспешный, сколь в движениях, он был отнюдь не из тех, кто хватает на лету, и лишь демонам бизнеса ведомо, как его занесло в кресло руководителя рекламного агентства. Тем не менее личностью он являлся довольно симпатичной, без характерной для дельцов чванливой спеси и с тугодумием весьма приятного сорта. В общие суждения и предубеждения не вникал, человека оценивал непосредственно, а следовательно, умел подбирать кадры. Новость о клерке, писавшем стихи, его в отличие от прочих не шокировала, даже заинтересовала – «Альбион» нуждался в литературных дарованиях. Глядя куда-то вбок из-под тяжелых век, мистер Эрскин задал Гордону множество вопросов, хотя беседовал лишь с собственным задумчиво гудевшим хмыканьем: «Стихи, стало быть, пишете? Так, хм-м. И как, печатают, а? Хм-м. И что, платят за это самое? Не густо, а? Не густо, хм-м. А тоже свои закавыки, а? Строчки в одну длину равняй и все такое. Хм-м. Еще что-нибудь сочиняете, истории разные, а? Хм, интересно. Хм-м!»
На этом интервью закончилось. Гордону был определен специальный пост секретаря (фактически – подмастерья) мистера Клу, главного штатного литератора. Во всякой рекламной конторе постоянный дефицит текстовиков с толикой воображения. Как ни странно, гораздо проще найти хватких рисовальщиков, чем авторов, способных придумать слоган типа «Экспресс-соус на радость муженьку» или «Детишки утром требуют хрустяшек». Зарплату пока не прибавили, но фирма присматривалась. Открывалась возможность, проявив себя, за год перейти в творческий штат. Вернейший шанс «выбиться в люди».
Полгода Гордон трудился в душном кабинетике, увешанном плакатными триумфами мистера Клу, сорокалетнего сочинителя со стоящей дыбом шевелюрой, куда частенько запускались беспокойные нервные пальцы. Дружески опекавший патрон, объяснив ходы, предложил без стеснения высказывать свои идеи. В момент поступления новичка разрабатывалась серия журнальных анонсов дезодоранта «Апрельская роса» (сенсационной косметической новинки от той самой «Царицы гигиены и красоты», где подвизался Флаксман), и тайная ненависть Гордона к его службе подверглась неожиданному испытанию. Выяснилось, что у него замечательный, просто врожденный талант к рекламным текстам. Почти не задумываясь, он кидал эти броские, вцеплявшиеся и въедавшиеся фразы – нарядные пакетики для лжи. Дар слова у него всегда был, но впервые имел явный успех. Мистеру Клу виделось для помощника большое будущее. Сам Гордон смотрел на себя с удивлением, юмором, а затем с тревогой – вон куда занесло! Ловко врать, чтобы трясти монету из болванов! Какая скотская ирония – мечтая стать «поэтом», вытянуть-таки счастливый билетик в сочинении гимнов дезодоранту! Впрочем, ситуация была весьма рядовой. Большинство штатных текстовиков, по слухам, из неудавшихся писателей, да и откуда же им браться?
«Царицу гигиены» весьма порадовал дезодорантовый анонс. Мистера Эрскина тоже. Недельное жалованье автору текста повысили на десять шиллингов. Гордона прошиб настоящий ужас. Деньги в конце концов захапали его. Его несет в самую пакость, еще чуть-чуть – и он по уши влипнет в ароматный поросячий навоз. Странно все это происходит: восстаешь против успеха, клянешься никогда «не пробиваться», честно полагая, что и захочешь, так не сможешь, а затем случай, просто некий случайный поворот, и почти автоматом ты «пробиваешься». Он понял – сейчас или никогда. Бежать немедленно! Уносить ноги, пока не засосало.
Только теперь Гордон не собирался смиренно дохнуть с голода. Пошел к Равелстону и попросил помочь. Сказал, что нужна работа, не «хорошее место», а такое, где тело нанимают без претензий заодно целиком прикупить душу. Друг все понял, отлично уловив разницу между «местом» и «хорошим местом»; к тому же не корил за безумие. У Равелстона было великое свойство – умение взглянуть на ситуацию с точки зрения другого человека. Деньги, конечно, способствовали: богач мог себе позволить свободу разума и духа. Более того, богач со связями имел возможность находить другим заработок. Уже через пару недель Равелстон сообщил Гордону, что, пожалуй, кое-что есть. Знакомому книготорговцу, одряхлевшему Маккечни, требуется помощник. Не опытный специалист на полный оклад, а просто человек с приличными манерами, способный толково представлять клиентам книжный товар. Рабочий день длинный, оплата мизерная (два фунта в неделю), повышение не светит, перспектив никаких. Бесперспективно – это было самое то. Поспешив к мистеру Маккечни, сонному старому шотландцу с красным носом и белой бородой в табачных пятнах, Гордон без колебаний согласился. И как раз в это время был напечатан сборник его стихотворений «Мыши». Седьмой издатель из тех, кому он предлагал рукопись, решился опубликовать ее. И это тоже было делом рук хорошо знакомого с издателем Равелстона, который втихомолку постоянно устраивал дебюты неизвестным поэтам. Гордон не знал, думал, что распахнулись двери в будущее, что сам он наконец состоялся, победно не состоявшись типовым человечком с фикусом.
Он подал заявление об уходе из «Альбиона». Не обошлось без неприятных переживаний. Джулию, разумеется, его вторичный отказ от хорошего места привел просто в отчаяние. Розмари (с которой они уже были знакомы) хоть и не отговаривала, уважая принцип «свою жизнь живи по-своему», однако недоумевала. Но больше всего, как ни странно, расстроила прощальная беседа с главным менеджером. Прямодушный Эрскин, сожалея о потере для фирмы, честно выказал огорчение, воздержался ругать глупца молокососа и попросил лишь объяснить причины. Совершенно невозможно было ни уклониться от ответа, ни соврать про единственно понятное в агентстве «место получше». Гордон начал стыдливо лепетать, что «бизнес как-то не по душе», что «вообще есть намерение писать». Начальник неопределенно загудел: «Писать? Хм-м. Здорово тут можно заработать, а? Не особо? Хм-м, нет, не особо». Сознавая, что выглядит смешно, Гордон пробормотал что-то насчет своей только что изданной книжки. «Сборник стихов», – с трудом проговорил он. Мистер Эрскин искоса глянул на него:
– Стихов? Хм, да, стихов. Прожить-то, как уйдете, на это самое получится, а?
– На это, конечно, не проживешь. Но, может, если иногда печататься…
– Хм! Ладно, вам виднее. Ну, захотите на работу, возвращайтесь. Местечко всегда подберем. Такому, значит, как вы. Не забывайте.
Гордон ушел с тяжелым ощущением своей нелепости, неблагодарности. Но все-таки он сделал это, выдрался из возни вокруг денег. Черт знает что! Тысячи тысяч английских парней изводит безработица, а вот ему, которому от слова «место» тошно, работу предлагают. Еще один пример того, что непременно получишь то, чего искренне не желаешь. Кроме того, врезалось в память прощальное напутствие Эрскина. Вероятно, начальник не болтал. Вероятно, надумай Гордон вернуться, его действительно возьмут. Так что корабли сожжены только наполовину. Канувший «Альбион» мрачно маячит и впереди.
Однако сколько счастья он испытал вначале (лишь вначале) около стеллажей Маккечни! Краткий – ах, очень краткий! – период иллюзий побега из клоаки. Конечно, и книготорговля была сортом торгашеского шельмовства, но все-таки совсем иным! Никаких ловкачей, никаких предприимчивых личинок. Никто из них минуты бы не выдержал в густом застое книжной лавки. Что до обязанностей, основную трудность составляло ежедневно маяться в магазине по десять часов. Старик Маккечни, более всего, пожалуй, отличаясь ленью, не допекал; конечно, шотландский джентльмен, ну так что ж. Во всяком случае, ума хватило не одуреть от жадности. Хозяин также являлся трезвенником, членом какой-то протестантской секты, но это Гордона не волновало. За месяц со дня издания «Мышей» автор нашел тринадцать критических упоминаний о сборнике! В том числе и литприложение «Таймс», где поэт-дебютант был назван «столь много нам обе-щающим»! Понадобилось еще почти полгода, чтоб осознать полный провал «Мышей».
Катились дни. Когда он прочно, безнадежно засел на два фунта в неделю, пришла реальная оценка своей баталии. Издевка в том, что пламя битвы остывает. В будничных мелочных заботах яркий подвиг становится тусклой привычкой. Нет большего обмана, чем успех. Бросил работу, навек отказался от всех «хороших мест» – отлично, так и нужно было, и обратно ни за что. Только напрасно убеждать себя, что бедность, которую сам выбрал, избавляет от непременных бедняцких напастей. Дело не в бытовых трудностях. Их, положим, перенесешь. Нехватка денег повреждает мозг и душу. Едва доход падает ниже определенной точки, ум скудеет и чувства гаснут. Вера, надежда, деньги – лишь святому под силу сохранить первые две без третьего.
Гордон взрослел, мужал. Двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. Будущее, утратив розовые тона, проступило конкретно и зловеще. С годами все сильнее ощущалось свое родовое клеймо. Вид родственников угнетал как никогда – его дорожка! Еще пяток лет, и станет похож на них, а потом и совсем таким же! Он чувствовал это даже рядом с Джулией, которую видел чаще других (и у которой, несмотря на многократные клятвенные зароки, регулярно брал взаймы). Волосы Джулии быстро седели, вдоль худых красноватых щек прочертились резкие борозды. Несбывшееся счастье она заменила отрадой рутинного распорядка. Ее работа в кафе, ее «рукоделие» ночами в единственной комнатке неподалеку от «Графского двора» (третий этаж, с черного хода, девять шиллингов в неделю), иногда посиделки с подругами, такими же старыми девами. Типичное прозябание женщин необеспеченных и незамужних. И она принимала судьбу, едва сознавая, что могло выйти как-нибудь иначе. По-прежнему больше страдала за Гордона, чем за себя. Тихое таяние семейства, где умирали, растеряв капиталы, виделось ей какой-то роковой трагедией. Деньги, деньги! «Никому из нас никогда наверно не разбогатеть!» – вот был мотив ее горестных причитаний. Одному Гордону светила счастливая звезда, и даже он, не проявив воли, бессильно влился в общую унылую колею. После первого шока она, с ее воспитанием, уже не «нападала» на Гордона за то, что тот бросил работу в «Альбионе», но и найти смысл в его поступках не могла. Не умея выразить, женской своей интуицией знала, что оскорбить деньги – смертный грех.
А тетя Энджела и дядя Уолтер – боже, боже! Ох, дорогие! Каждый раз, встречаясь с ними, Гордон сам словно становился лет на десять старше.
Дядя Уолтер. Тяжкое зрелище. Ему исполнилось шестьдесят семь, и все проценты его «посреднических операций» вместе с процентами в банке не составляли трех фунтов в неделю. Делами он занимался в крошечном офисном отсеке на Косто-стрит, а жил в сквернейшем дешевом пансионе возле Голландского парка. Это, можно сказать, стало традицией: все джентльмены Комстоки оседали в скверных пансионах. Глядя на бедолагу дядюшку – с его дряблым брюшком, одышкой, совершенно лысым черепом, мешками у водянистых глаз, вечно свисавшими усами, которые он при встрече тщетно стремился закрутить вверх, с его большим бледным, робко напыщенным лицом, слегка напоминавшим сарджентовский портрет Генри Джеймса, – глядя на него, абсолютно невозможно было представить его молодым. Неужели и в нем когда-то бурлила кровь? Неужели и он лазил на дерево, прыгал вниз головой с купальной вышки, влюблялся? Работали ли у него мозги хоть когда-нибудь? В тех своих, хотя бы формально молодых, годах пытался ли он что-то выкинуть? Возможно, несколько робких шалостей – выпивки в унылых барах, парочка визитов к шлюхам, смутный и скучный блуд наскоро (нечто вроде того, что можно вообразить о чувственности мумий в запертом на ночь музее). А потом долгие-долгие годы пустоты, безуспешного бизнеса, одиночества и тихого гниения в пансионе.
При всем том дядюшку на старости лет, видимо, не слишком терзала тоска. Образовалось одно, но постоянно развлекавшее увлечение – болезни. Находя в собственном организме все недуги из медицинского справочника, он никогда не утомлялся их перечислением. Вообще, как заметил изредка заходивший к дяде Гордон, население пансиона поголовно было сосредоточено на этой единственной и неисчерпаемой теме. Полутемную гостиную сплошь заполняли пары облезлых престарелых джентльменов, обсуждавших симптомы своих болезней. Неторопливые беседы пещерных сталактитов со сталагмитами.
Кап, кап: «Как с утра ваш артроз?» Кап, кап: «Мне кажется, слабительные соли дают значительный эффект…»
И тетя Энджела, ей уже было шестьдесят девять. Гордон даже старался не думать о ней: душу выворачивало – чем поможешь?
Милая, славная, кроткая, горемычная тетя Энджела!
Иссохшая, еле живая, кожа как пергамент. Одиноко ютится в своем пригородном коттеджике (вернее, лишь на собственной половине этой лачуги под названием «Кущи шиповника»). Томящаяся в ледяном горном дворце Вечная дева Энджела, которую ни одному мужчине не удалось поцеловать в уста и согреть нежной лаской. Целыми днями в полном одиночестве бродит туда-сюда, держа в руке связку перьев из хвоста непокорного индюка: полирует зеленый глянец фикусов, смахивает ненавистную пыль с великолепного, изготовленного фабрикой «Корона-Дерби», никогда не бывавшего в употреблении фарфорового сервиза. И время от времени услаждает себя чашечками доставленного на ковре-самолете из-за моря-океана то черного, то цветочного чая «Оранж Пико». Милая, славная, так и не познавшая любви тетя Энджела! Имея ренту девяносто восемь фунтов (по тридцать восемь шиллингов в неделю), она, с привычкой средних классов воспринимать лишь годовой доход, в расходах постоянно превышала недельную норму. Так что порой ей просто пришлось бы голодать, если бы Джулия не носила из кафе пакеты припрятанных кексов и бутербродов, вручая их щепетильной тетушке под веским предлогом: «Осталась кое-какая мелочь, не выбрасывать же?»
Тем не менее даже бедняжка тетя имела свои радости: на склоне лет она пристрастилась к чтению и посещала библиотеку по соседству с «Кущами шиповника». При жизни дедули Комстока дочерям было строго-настрого запрещено читать романы, а потому, начав знакомство с ними только в 1902-м, тетя Энджела хоть и двигалась потихоньку, но запаздывала в литературных вкусах лет на двадцать. В девятисотых она все еще читала Розу Браутон и госпожу Генри Вуд, в годы войны обнаружила Хола Кэйна и госпожу Хэмфри Уорд, в двадцатые дошла до Сайласа Хокинга и Генри Сетон-Меримена, к тридцатым почти, хотя не совсем, освоила У.Б. Максвелла и Вильяма Дж. Локка. Идти дальше было невозможно. Туманные слухи относительно послевоенных романистов, чересчур «умничавших» аморальных безбожников, никогда не позволили бы ей заглянуть в их книги. Есть наш Уолпол, есть наш Хичинс, зачем еще какой-то Хемингуэй?
СКОРБЬ ДЕТЕЙ БЕЗУТЕШНА.
СПИ СПОКОЙНО В ОБЪЯТИЯХ ИИСУСА.
Нет нужды повторять богохульные комментарии каждого, знавшего дедулю Комстока. Однако стоит отметить, что плита с вышеприведенной эпитафией весила около пяти тонн, чем, несомненно, отвечала пусть бессознательным, но очевидным желаниям потомства надежно застраховать себя от явления дедушки из могилы. Сокровенные чувства родни к покойному наиболее точно и конкретно измеряются весом надгробия.
Тех Комстоков, среди которых вырос Гордон, отличали вялость, обшарпанность, фамильная невзрачность. Им на удивление не хватало живучести. Дедуля тут постарался. К моменту его кончины дети стали взрослыми, а некоторые уже достигли средних лет, и все годы малейшие ростки их духа подавлялись. Он проехал по ним чугунным катком, и ни одна расплющенная личность никогда не смогла воспрянуть. Все как один – шеренга бесцветных безвольных неудачников. Никто из сыновей не преуспел в профессии, поскольку папенька с отменным упорством рассовал их по наименее подходящим поприщам. И лишь Джон (отец Гордона) расхрабрился – женился еще при жизни своего родителя. Нельзя было представить кого-то из отпрысков дедули Комстока сколько-нибудь значительным, созидающим либо разрушающим, очень счастливым или глубоко несчастным, полнокровно живущим или хотя бы солидно обеспеченным. Им выпало только покорно прозябать, цепляясь за скудеющую респектабельность. Весьма типичное в срединно-средних слоях пришибленное семейство, где никогда ничего новенького не случается.
С ранних лет Гордона жутко тяготил тоскливый хоровод родни. Поначалу вокруг кружило довольно много дядюшек и тетушек, схожих линялой тусклостью, довольно хилых, вечно обеспокоенных деньгами, постоянно по этому поводу стенавших, однако, упаси Господи, без скандальных драм. Примечательно, что в них угас даже инстинкт продолжения рода. Люди по-настоящему жизнеспособные, есть деньги или нет, напористо и органично размножаются. Тот же дедуля Комсток, в своей семье двенадцатый ребенок, сам наплодил одиннадцать детей. Но все потомство этих одиннадцати свелось к двоим – Гордону и его сестре Джулии. Гордон, последний отпрыск Комстоков, незапланированно появился на свет в 1905-м, а потом за долгие тридцать лет в семействе ни единого рождения, лишь похороны. И не только свадеб или крестин, вообще ничего новенького не случалось. Все Комстоки, казалось, были обречены запуганно таиться по своим норкам. Абсолютное неумение как-либо действовать, ни грана храбрости куда-либо пробиться, хотя бы в автобус. Все, разумеется, безнадежные дурни насчет денег. По завещанию дедули нажитый им капитал был разделен более-менее равномерно, так что после продажи краснокирпичной крепости на каждого пришлось около пяти тысяч фунтов. И едва дорогой дедуля опочил, наследники принялись тратить. Смельчаков с шиком просадить свою долю на нечто вроде скачек или прекрасных дам, естественно, не нашлось; они просто по чуточке, по капельке выкидывали денежки на ветер. Дочери на безмозглые вложения, сыновья на какое-нибудь небольшое «свое дело», неизменно хиревшее и приносившее лишь потери. Более половины наследников дедули скончались, не изведав брачной жизни. После смерти отца для пары давно отцветших дочек нашлись мужья, сыновьям же ввиду неспособности заработать осталось пополнить ряды джентльменов, которые «не могут позволить себе жениться». Никто, кроме тети Энджелы, не обзавелся собственным жильем; жались по нанятым, богом забытым квартиркам или мрачным пансионам. И год за годом умирали от невнятных, зато съедавших последние пенни болезней. А тетю Шарлотту в 1916-м пришлось отправить в Клэйпхемский сумасшедший дом. Как переполнены в Англии эти дома скорби! И в основном за счет одиноких старых дев среднего сословия. К 1934 году из старших в живых оставались лишь трое: умалишенная тетя Шарлотта, тетя Энджела, которую в 1912 году нечаянно осенило купить домик и крошечную ренту, и дядя Уолтер, неуверенно существовавший на куцый остаток наследной доли, управлявший каким-то ничтожным «агентством».
Гордон рос в атмосфере подштопанной одежды и бараньих хрящей на ужин. Отец его, очередной забитый Комсток, ребенком проявлял, однако, некую сообразительность гуманитарного оттенка, а потому дедуля, заприметив тягу к чтению и ужас перед арифметикой, само собой, ткнул его изучать бухгалтерию. Так что он дипломированно (и весьма бездарно) занимался финансовым учетом и покупал акции распадавшихся через год компаний, наскребая шаткий годовой доход – то пять, то всего две сотни, с постоянной тенденцией к снижению. Умер он в 1922-м, совсем еще не старым, измученным многолетней болезнью почек.
Поскольку Комстоки являлись семейством хоть бедным, но благородным, нельзя было не выкинуть дикую сумму на «образование» Гордона. Страшная штука «образовательный» психоз! Это означает послать сына в приличную (то есть какую-никакую, но закрытую частную) школу, ради чего немало лет влачить существование, которым побрезговала бы и семья слесаря. Гордона отправили в никудышное претенциозное заведение, где год стоил около ста двадцати фунтов, хотя даже такая плата требовала от домашних бесконечных лишений. Джулию, старшую сестру, фактически оставили без образования (пару раз отдавали в захудалые школьные пансиончики; к шестнадцати годам сочли, что ей вполне достаточно). Гордон ведь «мальчик», и было так естественно пожертвовать «девочкой». Тем более что сына, как сразу решила родня, отличали «способности». Умный Гордон при его замечательных «способностях» достигнет вершин учености, блистательно себя проявит и вернет Комстокам удачу – тверже, восторженнее всех в это верила Джулия. Высокая, намного выше Гордона, нескладная, с худеньким личиком и явно длинноватой шеей гусенка, непременно появлявшегося в мыслях при взгляде на нее. Преданная наивная душа, предназначенная хлопотать по хозяйству, штопать, гладить, услуживать.
С юности отмеченная клеймом старой девы, Гордона она боготворила. Холила, баловала, носила старые тряпки, чтоб у него был приличный школьный костюмчик, копила весь год карманные полпенни, чтобы дарить ему подарки на Рождество и в день рождения. И разумеется, став взрослым, он отблагодарил сестру, эту дурнушку без «способностей», глубоким презрением.
Даже в его третьеразрядной школе почти все мальчики были богаче. Быстро проведав о бедности Гордона, соученики, как полагается, устроили ему хорошенькую жизнь. Нет, вероятно, большей жестокости к ребенку, чем отправить его в среду деток из значительно более богатых семейств. Никакому взрослому снобу не приснятся муки такого малыша. В школе, особенно начальной, существование Гордона было сплошным напряженным притворством, постоянным усилием представить себя, свою родню не столь нищими. Ох, унижения тех лет! Например, тот кошмар, когда в начале каждого семестра требовалось публично «предъявлять» директору сумму карманных денег, и он показывал свою горстку монеток под хор издевательских смешков. А когда выяснилось, что костюмчик у него из магазина и всего за тридцать бобов! Но хуже всего было в родительские дни. Гордон, тогда еще набожный, горячо молился, чтобы к нему никто не приезжал. Особенно отец; как было не стыдиться такого – поникшего, бледного, как труп, очень сутулого, плохо, совсем не модно одетого? От него так и веяло тоской, беспокойством, неудачей. А он еще имел эту ужасную привычку, прощаясь, на глазах у школяров давать сыну полкроны – лишь полкроны вместо более-менее пристойного десятка бобов! И через двадцать лет Гордона при воспоминании о школе пронизывала дрожь.
Первым итогом всего этого стало, конечно, преклонение мальчика перед деньгами. Он просто возненавидел свою пристукнутую нищетой родню – отца, и мать, и Джулию, и остальных. Возненавидел за их мрачное жилье, дурное платье, вечные охи и вздохи над пенсами, за то, что в доме постоянно звучало «мы не можем себе этого позволить». О деньгах он мечтал с чисто детской неотвязностью. Почему невозможно хорошо одеваться, покупать конфеты и часто ходить в кино? Почему родители у него не такие, как у других ребят? Почему они бедняки? Потому что, делал вывод детский ум, они сами так захотели, им так нравится.
Однако он рос и становился – нет, не менее глупым, но глупым по-другому. В школе он постепенно освоился, угнетали его уже менее свирепо. Успехами не блистал (не занимался и от вершин учености был далек), тем не менее развивал мозги по некоторым полезным для статуса среди однокашников направлениям. Читая книги, которые с кафедры запрещал директор, высказывал неортодоксальные взгляды на англиканскую церковь, патриотизм и нерушимое школьное братство. Тогда же он начал сочинять стишки, чуть позже даже посылать их (неизменно отклоняемые) в «Атенэум», «Новый век» и «Вестминстерскую газету». Подобралась, конечно, компания подобных – каждая частная школа имеет кружок критически мыслящей интеллигенции. А в ту пору, сразу после войны, бунтарский дух так обуял Англию, что проник даже за ограды закрытых школ. Молодые, включая самых зеленых юнцов, до крайности взъярились на старших; любой хоть как-то шевеливший мозгами вмиг сделался мятежником. Стариканы ошеломленно забили крыльями, закудахтали о «подрывных идеях». Гордон с дружками пришли от «подрывных идей» в восторг. Целый год выпускали, размножая на копировальном аппарате, подпольную ежемесячную газету «Большевик», где восхваляли социализм и свободную любовь, призывали к распаду Британской империи, упразднению армии и т. п. Повеселились от души. Каждый начитанный подросток в шестнадцать лет социалист. В этом возрасте крючок в приманке не заметить.
Лихо пустившись рассуждать насчет бизнеса, юный Гордон рано ухватил, что суть всей современной коммерции – надувательство. Забавно, что навели его на эту мысль расклеенные в подземке рекламы. Думал ли он, как выражаются биографы, что придет время и он сам станет служащим рекламной фирмы? Бизнес, однако, оказался не просто жульничеством, поставленным на деловую основу. Ясно увиделось безумное поклонение деньгам, настоящий культ. Ставший, возможно, ныне единственной – согретой живым чувством – религией. Занявший престол господний новейший Бизнес-бог, а также финансовый успех или провал вместо библейских добра и зла и, соответственно, иной наказ о долге человеческом. Никаких десяти заповедей, лишь два приказа: жрецам и пастырям – «Твори деньги!», а пастве прислужников и рабов – «Страшись потерять свою работу!». Примерно в это время Гордон наткнулся на книжку «Добродетельные голодранцы»[8 - Роман Роберта Тресселла (1870–1911).], историю про плотника, заложившего все, кроме фикуса, и фикус стал для него символом. Вовсе не белая роза, фикус – цветок Англии! Фикус надо поместить на герб Британии вместо льва и единорога. Никакой революции не будет, пока торчат в окошках эти фикусы.
Ненависть и презрение к родне стихли; во всяком случае, уменьшились. Они все еще очень его тяготили – ветшавшие, вымиравшие дядюшки и тетушки, вконец изболевшийся отец, «слабенькая» (с легкими у нее был непорядок) мать, уже совершеннолетняя, по-прежнему хлопотавшая от зари до зари, по-прежнему не имевшая ни одного красивого платья Джулия. Но теперь он все про них понимал. Не в том дело, что денег мало; главное – даже обеднев, они цепляются за мир, где деньги – добродетель, а бедность порочна. Их, неудачников, уверовавших в кодекс денег, губит сознание непристойности нищеты. Им даже не приходит в голову мысль плюнуть да просто жить, как – и насколько правильно! – живут низшие классы. Шапки долой перед фабричным парнем, что с пятаком в кармане женится на своей милашке! У него-то хоть в жилах кровь, а не цифры доходов и расходов.
Так размышлял юный наивный эгоист. В жизни, решил он, только два пути: либо к богатству, либо прочь от него. Иметь деньги или отвергнуть их, только не эта гиблая трясина, когда на деньги молишься, но не умеешь их добыть. Лично для себя Гордон выбрал принципиальный отказ. Может, вышло бы по-другому, имей он больше склонности к счетным наукам: преподаватели вдолбили, что разгильдяю вряд ли удастся «преуспеть». Ну и ладно! Отлично! Он, напротив, целью поставит именно «не преуспеть». Лучше король в аду, чем раб на небесах, и лучше уж прислуживать чертям, чем херувимам. Итак, Гордон в шестнадцать лет понял, за что бороться – против Бизнес-бога и всего скотского служения деньгам. Он объявил войну; пока, конечно, тайную.
Через год умер отец, оставив лишь двести фунтов. Джулия к этому времени уже несколько лет служила: сначала в муниципальной конторе, затем, окончив кулинарные курсы, в гнуснейшем («дамском») чайном кафе у метро «Графский двор». Семьдесят два часа в неделю за двадцать пять шиллингов, из которых более половины она тратила на семейное хозяйство. Теперь, после смерти отца, разумнее всего было бы забрать Гордона из школы и отправить трудиться, а Джулии на двести фунтов обзавестись своим собственным кафе. Но обычная дурь Комстоков – ни Джулия, ни мать даже подумать не могли о прекращении учебы Гордона, со своим странным идеалистическим снобизмом готовые скорей отправиться в работный дом. Две сотни должны пойти на завершение «образования» сына. Гордон не возразил. Да, он объявил войну деньгам, но жуткого эгоизма от этого в нем не убавилось. Он, конечно, боялся пойти работать. Какой мальчик не оробел бы? Господи, строчить бумажки в какой-нибудь дыре! Дядюшки, тетушки уже вздыхали, обсуждая, как его устроить, и беспрестанно поминая «хорошие места». Ах, молодой Смит получил такое хорошее место в банке! Ах, молодой Джонс получил такое хорошее место в страховой компании!.. Похоже, они мечтали всех молодых англичан заколотить в гробы «хороших мест».
Между тем нужно было как-то добывать деньги. Мать, которая до замужества обучала музыке, а иной раз и потом, в моменты безденежья, брала учеников, решила возобновить это занятие. Найти учеников в Эктоне, их предместье, было нетрудно; платы за уроки и заработков Джулии хватило бы, вероятно, чтобы «справляться» пару лет. Только вот слабенькое здоровье миссис Комсток стало как-то совсем уж слабым. Ездивший к умиравшему мужу доктор, прослушав ее легкие, хмуро покачал головой и рекомендовал беречь себя, теплее одеваться, есть питательную пищу, а главное – не переутомляться. Нервозная возня с учениками тут подходила менее всего. Сын, правда, ничего об этом не знал. Но Джулия знала, и они с матерью таили от дорогого мальчика грустный диагноз.
Прошел год. Гордон провел его довольно безрадостно, все больше мрачнея из-за обтрепанных обшлагов и жалкой мелочи в кармане, что совершенно уничтожало его перед девушками. Однако в «Новом веке» тиснули его стишок. Мать пока за два шиллинга в час мучилась в промозглых гостиных на фортепианных табуретках. Но наконец Гордон кончил школу, и докучливо суетливый дядя Уолтер вызвался через одного делового приятеля своего делового приятеля попробовать устроить его на «хорошее место» – счетоводом в фирме кровельных красок. Роскошное место, блестящее начало! Юноше открывается возможность при надлежащем упорстве и прилежании подняться там со временем до самых солидных постов! Душа Гордона заныла. Как свойственно порой слабым натурам, он вдруг взбрыкнул и, к ужасу родни, наотрез отказался даже сходить представиться.
Поднялось суматошное смятение, Гордона не могли понять, отказ от шанса попасть на «хорошее место» ошеломил богохульством. Он повторял, что такую работу ему не нужно. Но какую же, какую? Ему хотелось бы писать, сердито буркнул Гордон. «Писать»? Но как же жить, чем зарабатывать? Ответа у него, конечно, не было. Имелась смутная, слишком абсурдная для оглашения идея как-нибудь существовать стихами. Во всяком случае, не приближаться к пляскам вокруг денег; работать, только уж не на «хорошеньких местечках». Никто, естественно, этих мечтаний не уразумел. Мать плакала, даже Джулия возражала, огорченно и укоризненно тормошились дядюшки, тетушки (их тогда еще оставалось с полдюжины). А через три дня случилось страшное несчастье. Посреди ужина мать сильно закашлялась, упала, прижав руки к груди, ничком, изо рта у нее хлынула кровь.
Гордон перепугался. Бессильную, на вид почти покойницу, мать отнесли наверх, и сын понесся за доктором. Неделю мать лежала при смерти; хождения к ученикам в любую непогоду и сквозняки сырых гостиных не прошли даром. Сидя дома, Гордон терзался кошмарным чувством вины (он все-таки подозревал, что матери пришлось буквально жизнью оплачивать последний год его учебы). Противиться стало невозможно, упрямец согласился просить место у производителей кровельной краски. Тогда дядя Уолтер поговорил с приятелем, а тот со своим, и Гордона отправили на собеседование к старому джентльмену со щелкавшей вставной челюстью, и тот взял его на испытательный срок. Гордон приступил, за двадцать пять шиллингов в неделю. И проработал там шесть лет.
Из зеленого Эктона семья переехала в угрюмый многоквартирный дом среди таких же кирпичных казарм за Пэддингтонским вокзалом. Перевезя свое фортепиано, миссис Комсток, едва чуть-чуть окрепла, снова стала давать уроки. Жалованье сына слегка подросло, так что втроем они потихоньку «справлялись», хотя, главным образом, благодаря заработкам матери и сестры. Гордона занимали лишь его личные проблемы. В конторе он был не из худших, зарплату отрабатывал, однако общей жаждой успеха не пылал. Надо сказать, презрение к работе неким образом облегчало ему жизнь. Он бы не вынес жуткого конторского болота, если б не верил, что вырвется оттуда. Рано или поздно, так или этак сбежит на волю. В конце концов, у него есть «писательство». Когда-нибудь, наверно, получится жить собственным «пером». Ведь творчество свободно, ведь поэта не душит власть вонючих денег? От всех этих типчиков вокруг, особенно от стариканов, его корежило. Вот оно, поклонение Бизнес-богу! Корпеть, «гореть на работе», грезить о повышении, продать душу за домик с фикусом! Стать «достойным маленьким человеком», мелким подлипалой при галстуке и шляпе – в шесть пятнадцать домой, к ужину пирог с повидлом, полчасика симфонической музыки у радиоприемника и перед сном капельку законных плотских утех, если женушка «в настроении»! Нет, эта участь не для него. Прочь отсюда! прочь от денежной помойки! – воодушевлял он себя перед боем, лелея в душе тайный единоличный заговор. Народ в конторе не догадывался о соседстве такого радикала. Никто даже не подозревал, что он поэт (собственно, это было неудивительно, поскольку за шесть лет в печати появилось менее двадцати его стишков). С виду обычный клерк – солдатик безликой массы, которую качает у поручней метро, утром в Сити и вечером обратно.
Ему исполнилось двадцать четыре, когда умерла мать. Семейство рушилось. Из старших оставались тетя Энджела, тетя Шарлотта, дядя Уолтер и еще один дядюшка, вскоре скончавшийся. Гордон и Джулия разъехались по разным адресам: он в меблированные комнаты на Даунти-стрит (улицы Блумсбери как бы уже давали ощущение причастности к литературе), она в район «Графского двора», поближе к службе. Джулии теперь было тридцать, а выглядела она много старше. Здоровье ее пока не подводило, но она исхудала, в волосах появилась седина. Трудилась она все так же по двенадцать часов в сутки, недельное жалованье за шесть лет повысилось на десять шиллингов; управительница чайного кафе, чрезвычайно благовоспитанная дама, вела себя скорее как друг, то есть выжимала все соки из «душеньки» и «дорогуши». Через три месяца после похорон матери Гордон внезапно уволился со службы. Так как причин ухода он, по счастью, не назвал, в фирме решили, что нашлось нечто получше, и выдали вполне приличные рекомендации. Но он насчет другого места не помышлял, ему хотелось сжечь мосты, а вот тогда, о! На свободу, глотнуть воздуха – воздуха, чистого от копоти вонючих денег. Не то чтобы он сидел, дожидался смерти матери, однако смог расхрабриться лишь сейчас.
Конечно, остатки родни взволновались пуще прежнего. Составилось даже мнение о не совсем здравом рассудке Гордона. Множество раз он пытался объяснить, почему больше не отдаст себя в рабство «хорошему месту», и слышал только причитания «как же ты будешь жить? на что ты будешь жить?». На что? Он не желал всерьез об этом думать. Но, хотя сохранялись смутные мечты существовать на гонорары, хотя он уже был дружен с редактором «Антихриста» и Равелстон помимо публикации его стихов устраивал ему иногда газетные статьи, несмотря на чуть забрезживший в глухом тумане шанс литераторства, все-таки побудило бросить работу не желание «писать». Главным было отринуть мир денег. Впереди рисовалось нечто вроде бытия отшельника, живущего подобно птицам небесным. Забыв, что птичкам не надо оплачивать квартиру, виделась каморка голодного поэта, но как-то так, не слишком голодающего.
Следующие полгода стали крахом. Провалом, ужаснувшим Гордона, почти сломившим его дух. Довелось узнать, каково месяцами жить на хлебе с маргарином, пытаться «писать» с мыслями только о жратве, заложить гардероб, дрожа проползать мимо двери суровой хозяйки, которой уже четыре срока не платил. К тому же за эти полгода не удалось сочинить практически ничего. Первый результат, понял он, – нищета тебя растаптывает. Явилось чрезвычайно новое открытие того, что безденежье не спасает от денег, а как раз полностью им подчиняет, что без презренного, обожаемого средним классом «достатка» ты просто раб. Настал день, когда его после банального скандала турнули с квартиры. Трое суток он жил на улице. Было хреново. Затем, по совету парня, тоже ночевавшего на набережной, Гордон потопал в порт, чтобы возить оттуда к рынку тачки наваленной вихляющими грудами живой рыбы. С каждой тачки два пенса в руку и адская боль в дрожащих мускулах. При этом толпа безработных, так что сначала еще надо дождаться очереди; десяток пробегов от четырех до девяти утра считался большой удачей. Через пару дней силы иссякли. Что теперь? Он сдался. Оставалось лишь вернуться, занять у родни денег и снова искать место.
Места, разумеется, не обнаружилось. Пришлось сесть на шею родственникам. Джулия содержала его до последнего пенни своих мизерных сбережений. Кишки сводило от стыда.
Красиво обернулся вызов надменных поз! Отверг деньги, вышел на смертный бой с миром наживы, и вот – приживальщик у сестры! И Джулия, печально тратя последние гроши, переживает больше всего его неудачу. Она так верила в него, единственного Комстока, который добьется успеха. Даже сейчас верит, что он – с его «способностями»! – сможет, если захочет, разбогатеть и всех их осчастливить. Целых два месяца Гордон прожил в Хайгете, в крохотном домишке тети Энджелы (старенькой, иссохшей тети Энджелы, которой самой едва хватало прокормиться). На сей раз он отчаянно искал работу, но дядя Уолтер уже не способен был помочь: его деловые связи, и прежде невеликие, свелись к нулю. Однако вдруг нежданно повезло – через кого-то, дружившего с кем-то, кто дружил с братом дамы, «поработившей» Джулию, удалось получить место в отделе учета «Нового Альбиона».
«Новый Альбион» был одной из рекламных контор, которых после войны развелось как грибов или, вернее, плесени. Цепкая, пока еще небольшая фирма, хватавшая любой заказ. В частности, тут разработали популярные плакаты суперкалорийной овсянки и мгновенных кексов, хотя основным направлением являлась реклама шляпок и косметики в дамских журналах, а также всяческие мелкие анонсы воскресных газетенок, типа «Полосатые Пастилки снимут все женские недомогания», «Удача по Гороскопу профессора Раратонго», «Семь Секретов Венеры», «Невидимая Чудо-штопка», «Как на досуге заработать Пять Фунтов в неделю», «Кипарисовый Лосьон – красота волос без перхоти» и т. п. Имелся, разумеется, изрядный штат продвигавших коммерцию авторов и художников. Гордон здесь познакомился с Розмари. Заговорил он с ней не сразу. Работавшая в «студии», где изобретали журнальную рекламу, она для него долго оставалась лишь проворно мелькавшей фигуркой, очень привлекательной, но пугающей. Когда они встречались в коридорах, она посматривала с ироничным прищуром и будто слегка насмехаясь, однако же, казалось, чуть-чуть задерживала взгляд. Он, простой клерк из бухгалтерии, не имел отношения к ее творческим сферам.
Стиль работы «Альбиона» отличал дух острейшей современности. Любой тут знал, что суть рекламы – наглый торгашеский обман. В фирме кровельной краски еще держались неких понятий коммерческой чести, в «Альбионе» только похохотали бы над этой чушью. Здесь царил чисто американский подход – ничего святого, кроме денег; трудились, исповедуя принцип: публика – свинья, реклама – грохот мешалки в свином корыте. Такой вот искушенный цинизм, в сочетании с самым наивным, суеверным трепетом перед Бизнес-богом. Гордон скромно приглядывался. Как и раньше, работал без особого пыла, позволяя коллегам взирать на него сверху вниз. В мечтах ничего не изменилось (когда-нибудь он все равно дернет отсюда!), даже после кошмарного фиаско идея бегства не погасла, он лишь присутствовал. Повадки сослуживцев – прилежно ползавших традиционных вечных гусениц или же по-американски бойко, перспективно копошившихся личинок – его скорее забавляли. Интересно было наблюдать холуйские рефлексы, функционирование пугливых рабских мозгов.
Однажды случилось маленькое происшествие. Наткнувшись в журнале на стихотворение Гордона, некто из счетного отдела весело объявил, что «среди нас завелся поэт». Гордону удалось почти натурально посмеяться вместе со всеми. Его после того прозвали «бардом», причем звучало это снисходительно: подтвердилось коллективное мнение насчет Гордона – парню, маравшему стишки, уж точно «не прорваться». Эпизод, однако, имел последствия. Коллегам уже надоело подтрунивать над Гордоном, когда его вдруг вызвал доселе едва знавший о нем главный менеджер, мистер Эрскин.
Грузная неуклюжая стать, широкий румянец и медлительная речь мистера Эрскина позволяли предположить некую его связь с полеводством или животноводством. В мыслях столь же неспешный, сколь в движениях, он был отнюдь не из тех, кто хватает на лету, и лишь демонам бизнеса ведомо, как его занесло в кресло руководителя рекламного агентства. Тем не менее личностью он являлся довольно симпатичной, без характерной для дельцов чванливой спеси и с тугодумием весьма приятного сорта. В общие суждения и предубеждения не вникал, человека оценивал непосредственно, а следовательно, умел подбирать кадры. Новость о клерке, писавшем стихи, его в отличие от прочих не шокировала, даже заинтересовала – «Альбион» нуждался в литературных дарованиях. Глядя куда-то вбок из-под тяжелых век, мистер Эрскин задал Гордону множество вопросов, хотя беседовал лишь с собственным задумчиво гудевшим хмыканьем: «Стихи, стало быть, пишете? Так, хм-м. И как, печатают, а? Хм-м. И что, платят за это самое? Не густо, а? Не густо, хм-м. А тоже свои закавыки, а? Строчки в одну длину равняй и все такое. Хм-м. Еще что-нибудь сочиняете, истории разные, а? Хм, интересно. Хм-м!»
На этом интервью закончилось. Гордону был определен специальный пост секретаря (фактически – подмастерья) мистера Клу, главного штатного литератора. Во всякой рекламной конторе постоянный дефицит текстовиков с толикой воображения. Как ни странно, гораздо проще найти хватких рисовальщиков, чем авторов, способных придумать слоган типа «Экспресс-соус на радость муженьку» или «Детишки утром требуют хрустяшек». Зарплату пока не прибавили, но фирма присматривалась. Открывалась возможность, проявив себя, за год перейти в творческий штат. Вернейший шанс «выбиться в люди».
Полгода Гордон трудился в душном кабинетике, увешанном плакатными триумфами мистера Клу, сорокалетнего сочинителя со стоящей дыбом шевелюрой, куда частенько запускались беспокойные нервные пальцы. Дружески опекавший патрон, объяснив ходы, предложил без стеснения высказывать свои идеи. В момент поступления новичка разрабатывалась серия журнальных анонсов дезодоранта «Апрельская роса» (сенсационной косметической новинки от той самой «Царицы гигиены и красоты», где подвизался Флаксман), и тайная ненависть Гордона к его службе подверглась неожиданному испытанию. Выяснилось, что у него замечательный, просто врожденный талант к рекламным текстам. Почти не задумываясь, он кидал эти броские, вцеплявшиеся и въедавшиеся фразы – нарядные пакетики для лжи. Дар слова у него всегда был, но впервые имел явный успех. Мистеру Клу виделось для помощника большое будущее. Сам Гордон смотрел на себя с удивлением, юмором, а затем с тревогой – вон куда занесло! Ловко врать, чтобы трясти монету из болванов! Какая скотская ирония – мечтая стать «поэтом», вытянуть-таки счастливый билетик в сочинении гимнов дезодоранту! Впрочем, ситуация была весьма рядовой. Большинство штатных текстовиков, по слухам, из неудавшихся писателей, да и откуда же им браться?
«Царицу гигиены» весьма порадовал дезодорантовый анонс. Мистера Эрскина тоже. Недельное жалованье автору текста повысили на десять шиллингов. Гордона прошиб настоящий ужас. Деньги в конце концов захапали его. Его несет в самую пакость, еще чуть-чуть – и он по уши влипнет в ароматный поросячий навоз. Странно все это происходит: восстаешь против успеха, клянешься никогда «не пробиваться», честно полагая, что и захочешь, так не сможешь, а затем случай, просто некий случайный поворот, и почти автоматом ты «пробиваешься». Он понял – сейчас или никогда. Бежать немедленно! Уносить ноги, пока не засосало.
Только теперь Гордон не собирался смиренно дохнуть с голода. Пошел к Равелстону и попросил помочь. Сказал, что нужна работа, не «хорошее место», а такое, где тело нанимают без претензий заодно целиком прикупить душу. Друг все понял, отлично уловив разницу между «местом» и «хорошим местом»; к тому же не корил за безумие. У Равелстона было великое свойство – умение взглянуть на ситуацию с точки зрения другого человека. Деньги, конечно, способствовали: богач мог себе позволить свободу разума и духа. Более того, богач со связями имел возможность находить другим заработок. Уже через пару недель Равелстон сообщил Гордону, что, пожалуй, кое-что есть. Знакомому книготорговцу, одряхлевшему Маккечни, требуется помощник. Не опытный специалист на полный оклад, а просто человек с приличными манерами, способный толково представлять клиентам книжный товар. Рабочий день длинный, оплата мизерная (два фунта в неделю), повышение не светит, перспектив никаких. Бесперспективно – это было самое то. Поспешив к мистеру Маккечни, сонному старому шотландцу с красным носом и белой бородой в табачных пятнах, Гордон без колебаний согласился. И как раз в это время был напечатан сборник его стихотворений «Мыши». Седьмой издатель из тех, кому он предлагал рукопись, решился опубликовать ее. И это тоже было делом рук хорошо знакомого с издателем Равелстона, который втихомолку постоянно устраивал дебюты неизвестным поэтам. Гордон не знал, думал, что распахнулись двери в будущее, что сам он наконец состоялся, победно не состоявшись типовым человечком с фикусом.
Он подал заявление об уходе из «Альбиона». Не обошлось без неприятных переживаний. Джулию, разумеется, его вторичный отказ от хорошего места привел просто в отчаяние. Розмари (с которой они уже были знакомы) хоть и не отговаривала, уважая принцип «свою жизнь живи по-своему», однако недоумевала. Но больше всего, как ни странно, расстроила прощальная беседа с главным менеджером. Прямодушный Эрскин, сожалея о потере для фирмы, честно выказал огорчение, воздержался ругать глупца молокососа и попросил лишь объяснить причины. Совершенно невозможно было ни уклониться от ответа, ни соврать про единственно понятное в агентстве «место получше». Гордон начал стыдливо лепетать, что «бизнес как-то не по душе», что «вообще есть намерение писать». Начальник неопределенно загудел: «Писать? Хм-м. Здорово тут можно заработать, а? Не особо? Хм-м, нет, не особо». Сознавая, что выглядит смешно, Гордон пробормотал что-то насчет своей только что изданной книжки. «Сборник стихов», – с трудом проговорил он. Мистер Эрскин искоса глянул на него:
– Стихов? Хм, да, стихов. Прожить-то, как уйдете, на это самое получится, а?
– На это, конечно, не проживешь. Но, может, если иногда печататься…
– Хм! Ладно, вам виднее. Ну, захотите на работу, возвращайтесь. Местечко всегда подберем. Такому, значит, как вы. Не забывайте.
Гордон ушел с тяжелым ощущением своей нелепости, неблагодарности. Но все-таки он сделал это, выдрался из возни вокруг денег. Черт знает что! Тысячи тысяч английских парней изводит безработица, а вот ему, которому от слова «место» тошно, работу предлагают. Еще один пример того, что непременно получишь то, чего искренне не желаешь. Кроме того, врезалось в память прощальное напутствие Эрскина. Вероятно, начальник не болтал. Вероятно, надумай Гордон вернуться, его действительно возьмут. Так что корабли сожжены только наполовину. Канувший «Альбион» мрачно маячит и впереди.
Однако сколько счастья он испытал вначале (лишь вначале) около стеллажей Маккечни! Краткий – ах, очень краткий! – период иллюзий побега из клоаки. Конечно, и книготорговля была сортом торгашеского шельмовства, но все-таки совсем иным! Никаких ловкачей, никаких предприимчивых личинок. Никто из них минуты бы не выдержал в густом застое книжной лавки. Что до обязанностей, основную трудность составляло ежедневно маяться в магазине по десять часов. Старик Маккечни, более всего, пожалуй, отличаясь ленью, не допекал; конечно, шотландский джентльмен, ну так что ж. Во всяком случае, ума хватило не одуреть от жадности. Хозяин также являлся трезвенником, членом какой-то протестантской секты, но это Гордона не волновало. За месяц со дня издания «Мышей» автор нашел тринадцать критических упоминаний о сборнике! В том числе и литприложение «Таймс», где поэт-дебютант был назван «столь много нам обе-щающим»! Понадобилось еще почти полгода, чтоб осознать полный провал «Мышей».
Катились дни. Когда он прочно, безнадежно засел на два фунта в неделю, пришла реальная оценка своей баталии. Издевка в том, что пламя битвы остывает. В будничных мелочных заботах яркий подвиг становится тусклой привычкой. Нет большего обмана, чем успех. Бросил работу, навек отказался от всех «хороших мест» – отлично, так и нужно было, и обратно ни за что. Только напрасно убеждать себя, что бедность, которую сам выбрал, избавляет от непременных бедняцких напастей. Дело не в бытовых трудностях. Их, положим, перенесешь. Нехватка денег повреждает мозг и душу. Едва доход падает ниже определенной точки, ум скудеет и чувства гаснут. Вера, надежда, деньги – лишь святому под силу сохранить первые две без третьего.
Гордон взрослел, мужал. Двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. Будущее, утратив розовые тона, проступило конкретно и зловеще. С годами все сильнее ощущалось свое родовое клеймо. Вид родственников угнетал как никогда – его дорожка! Еще пяток лет, и станет похож на них, а потом и совсем таким же! Он чувствовал это даже рядом с Джулией, которую видел чаще других (и у которой, несмотря на многократные клятвенные зароки, регулярно брал взаймы). Волосы Джулии быстро седели, вдоль худых красноватых щек прочертились резкие борозды. Несбывшееся счастье она заменила отрадой рутинного распорядка. Ее работа в кафе, ее «рукоделие» ночами в единственной комнатке неподалеку от «Графского двора» (третий этаж, с черного хода, девять шиллингов в неделю), иногда посиделки с подругами, такими же старыми девами. Типичное прозябание женщин необеспеченных и незамужних. И она принимала судьбу, едва сознавая, что могло выйти как-нибудь иначе. По-прежнему больше страдала за Гордона, чем за себя. Тихое таяние семейства, где умирали, растеряв капиталы, виделось ей какой-то роковой трагедией. Деньги, деньги! «Никому из нас никогда наверно не разбогатеть!» – вот был мотив ее горестных причитаний. Одному Гордону светила счастливая звезда, и даже он, не проявив воли, бессильно влился в общую унылую колею. После первого шока она, с ее воспитанием, уже не «нападала» на Гордона за то, что тот бросил работу в «Альбионе», но и найти смысл в его поступках не могла. Не умея выразить, женской своей интуицией знала, что оскорбить деньги – смертный грех.
А тетя Энджела и дядя Уолтер – боже, боже! Ох, дорогие! Каждый раз, встречаясь с ними, Гордон сам словно становился лет на десять старше.
Дядя Уолтер. Тяжкое зрелище. Ему исполнилось шестьдесят семь, и все проценты его «посреднических операций» вместе с процентами в банке не составляли трех фунтов в неделю. Делами он занимался в крошечном офисном отсеке на Косто-стрит, а жил в сквернейшем дешевом пансионе возле Голландского парка. Это, можно сказать, стало традицией: все джентльмены Комстоки оседали в скверных пансионах. Глядя на бедолагу дядюшку – с его дряблым брюшком, одышкой, совершенно лысым черепом, мешками у водянистых глаз, вечно свисавшими усами, которые он при встрече тщетно стремился закрутить вверх, с его большим бледным, робко напыщенным лицом, слегка напоминавшим сарджентовский портрет Генри Джеймса, – глядя на него, абсолютно невозможно было представить его молодым. Неужели и в нем когда-то бурлила кровь? Неужели и он лазил на дерево, прыгал вниз головой с купальной вышки, влюблялся? Работали ли у него мозги хоть когда-нибудь? В тех своих, хотя бы формально молодых, годах пытался ли он что-то выкинуть? Возможно, несколько робких шалостей – выпивки в унылых барах, парочка визитов к шлюхам, смутный и скучный блуд наскоро (нечто вроде того, что можно вообразить о чувственности мумий в запертом на ночь музее). А потом долгие-долгие годы пустоты, безуспешного бизнеса, одиночества и тихого гниения в пансионе.
При всем том дядюшку на старости лет, видимо, не слишком терзала тоска. Образовалось одно, но постоянно развлекавшее увлечение – болезни. Находя в собственном организме все недуги из медицинского справочника, он никогда не утомлялся их перечислением. Вообще, как заметил изредка заходивший к дяде Гордон, население пансиона поголовно было сосредоточено на этой единственной и неисчерпаемой теме. Полутемную гостиную сплошь заполняли пары облезлых престарелых джентльменов, обсуждавших симптомы своих болезней. Неторопливые беседы пещерных сталактитов со сталагмитами.
Кап, кап: «Как с утра ваш артроз?» Кап, кап: «Мне кажется, слабительные соли дают значительный эффект…»
И тетя Энджела, ей уже было шестьдесят девять. Гордон даже старался не думать о ней: душу выворачивало – чем поможешь?
Милая, славная, кроткая, горемычная тетя Энджела!
Иссохшая, еле живая, кожа как пергамент. Одиноко ютится в своем пригородном коттеджике (вернее, лишь на собственной половине этой лачуги под названием «Кущи шиповника»). Томящаяся в ледяном горном дворце Вечная дева Энджела, которую ни одному мужчине не удалось поцеловать в уста и согреть нежной лаской. Целыми днями в полном одиночестве бродит туда-сюда, держа в руке связку перьев из хвоста непокорного индюка: полирует зеленый глянец фикусов, смахивает ненавистную пыль с великолепного, изготовленного фабрикой «Корона-Дерби», никогда не бывавшего в употреблении фарфорового сервиза. И время от времени услаждает себя чашечками доставленного на ковре-самолете из-за моря-океана то черного, то цветочного чая «Оранж Пико». Милая, славная, так и не познавшая любви тетя Энджела! Имея ренту девяносто восемь фунтов (по тридцать восемь шиллингов в неделю), она, с привычкой средних классов воспринимать лишь годовой доход, в расходах постоянно превышала недельную норму. Так что порой ей просто пришлось бы голодать, если бы Джулия не носила из кафе пакеты припрятанных кексов и бутербродов, вручая их щепетильной тетушке под веским предлогом: «Осталась кое-какая мелочь, не выбрасывать же?»
Тем не менее даже бедняжка тетя имела свои радости: на склоне лет она пристрастилась к чтению и посещала библиотеку по соседству с «Кущами шиповника». При жизни дедули Комстока дочерям было строго-настрого запрещено читать романы, а потому, начав знакомство с ними только в 1902-м, тетя Энджела хоть и двигалась потихоньку, но запаздывала в литературных вкусах лет на двадцать. В девятисотых она все еще читала Розу Браутон и госпожу Генри Вуд, в годы войны обнаружила Хола Кэйна и госпожу Хэмфри Уорд, в двадцатые дошла до Сайласа Хокинга и Генри Сетон-Меримена, к тридцатым почти, хотя не совсем, освоила У.Б. Максвелла и Вильяма Дж. Локка. Идти дальше было невозможно. Туманные слухи относительно послевоенных романистов, чересчур «умничавших» аморальных безбожников, никогда не позволили бы ей заглянуть в их книги. Есть наш Уолпол, есть наш Хичинс, зачем еще какой-то Хемингуэй?