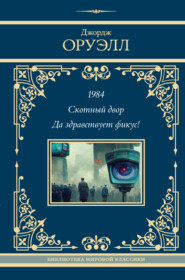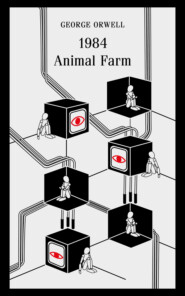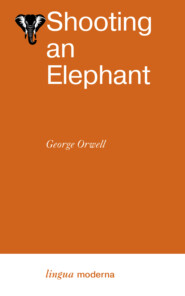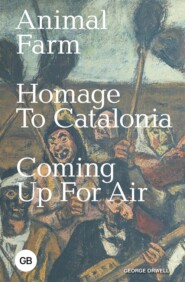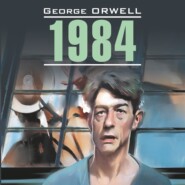По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
1984
Автор
Год написания книги
1949
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ни единого, – ответил Уинстон. – Бреюсь одним уже полтора месяца.
– Ну что ж. За спрос денег не берут, старик.
– Извини, – сказал Уинстон.
Гогочущий голос за соседним столиком, притихший было во время сообщения Министерства изо-билия, забубнил с прежней громкостью. Уинстон непонятно почему подумал о миссис Парсонс с ее всклокоченными волосами и пропыленными морщинами. Не пройдет и двух лет, как детки донесут на нее в Мыслеполицию. И миссис Парсонс испарят. Сайма испарят. Уинстона тоже испарят. И О’Брайена. А вот Парсонса никогда не испарят. Безглазое существо с гогочущим голосом никогда не испарят. И маленьких людишек-жуков, проворно снующих в лабиринтах министерских коридоров, никогда не испарят. И девушку с темными волосами из Художественного отдела – ее тоже никогда не испарят. Уинстону показалось, что он инстинктивно знает, кто погибнет, а кто останется в живых, но непонятно было, что нужно делать для выживания.
Из размышлений его выбил резкий толчок. Девушка за соседним столиком повернулась вполоборота и взглянула на него. Это была та самая, темноволосая. Она смотрела на него искоса, но удивительно пристально. Едва он перехватил ее взгляд, как она отвернулась.
Уинстон вспотел вдоль всей спины. Жуткий страх пронзил его. Страх почти сразу прошел, но осталась какая-то смутная тревога. Почему она следит за ним? Почему все время ходит по пятам? К сожалению, он не смог припомнить, сидела ли она уже за столиком, когда пришли они с Саймом, или появилась позднее. Но и вчера на Двухминутке Ненависти девушка села у него за спиной, хотя в этом не было необходимости. Вполне вероятно, она хотела проверить, кричит ли он достаточно громко.
Он снова задумался: вряд ли она состоит в Мыслеполиции, но в таком случае это шпионка-любительница, а это еще опаснее. Уинстон не знал, долго ли она на него смотрела. Наверное, минут пять, но он не был уверен, что все это время следил за выражением лица. Очень опасно забывать, что лицо может отражать твои мысли, когда ты среди людей или в зоне видимости телеэкрана. Даже мелочь может тебя выдать – нервный тик, тревожный взгляд, привычка бормотать про себя – что угодно, что укажет на возможность отклонения от нормы или какие-то тайные мысли. Во всяком случае, неправильное выражение лица (к примеру, скептический вид при объявлении победы) каралось как преступление. На новоязе было даже такое слово – лицефелония.
Девушка снова повернулась к нему спиной. Может, она все же не следит за ним; может, это просто совпадение, что она два дня подряд садится рядом? Сигарета погасла, он осторожно положил ее на край стола – докурит после работы, если удастся не просыпать табак. А может, очень может быть, что за соседним столиком сидит агент Мыслеполиции. Очень может быть, что через три дня Уинстон окажется в подвалах Министерства любви, но не пропадать же окурку. Сайм сложил свою бумажку и убрал в карман. Парсонс снова заговорил.
– Я рассказывал тебе, старина, – сказал он, не вынимая трубку изо рта, – как мои сорванцы подожгли юбку рыночной торговке, когда увидели, что она завернула сосиски в плакат с портретом Б-Б? Подкрались к ней сзади, запалили спичечный коробок и подожгли. Наверное, хорошенько поджарили. Вроде сопляки? Но какое рвение! Теперь их отлично натаскивают в отрядах Разведчиков, даже лучше, чем в мое время. Знаешь что им недавно выдали? Слуховые трубки, чтобы подслушивать сквозь замочную скважину! Дочурка на днях принесла домой свою трубку: опробовала в гостиной и утверждает, что слышно в два раза лучше, чем просто ухом. Конечно, это всего лишь игрушка, надо понимать. Но внушает правильный настрой.
В этот момент раздался пронзительный свист – пора возвращаться к работе. Все трое вскочили на ноги и вместе со всеми бросились к лифтам, а Уинстон просыпал табак из окурка.
VI
Уинстон записал в дневнике:
Это случилось три года назад. Темным вечером, в узком переулке вблизи одного вокзала. Она стояла у подъезда, под фонарем, почти не дававшим света. Лицо у нее было молодое, сильно накрашенное. Это меня и привлекло: ее белизна, словно у маски, и ярко-красные губы. Партийные женщины никогда не красятся. Больше на улице никого не было, и ни одного телеэкрана. Она сказала: два доллара. Я…
Ему вдруг стало трудно продолжать. Он закрыл глаза и нажал на веки пальцами, словно желая выдавить навязчивое видение. Нестерпимо захотелось громко выругаться грязными словами. Или ударить головой о стену, отшвырнуть стол, запустить чернильницей в окно, чтобы хоть как-то – буйством, шумом, болью – заглушить мучительное воспоминание…
Худший враг, подумал он, это собственная нервная система. Внутреннее напряжение всегда норовит себя проявить. Он вспомнил одного прохожего, которого увидел на улице несколько недель назад; вполне заурядный товарищ, член Партии, с портфелем, лет тридцати пяти – сорока, довольно высокий и худой. Когда между ними было несколько метров, у мужчины свело судорогой левую половину лица. А когда они поравнялись, дрожь повторилась: обычная судорога, нервный тик, быстрый, как щелчок фотоаппарата, и, по всей видимости, привычный. Уинстон вспомнил, как подумал тогда: этот бедолага не жилец. Особенно страшно было при мысли, что лицо у него дергалось бессознательно. Впрочем, самое опасное – разговаривать во сне. От этого никто не застрахован, насколько знал Уинстон.
Он перевел дух и стал писать дальше:
Я вошел за ней в подъезд, мы пересекли прихожую и спустились в подвальную кухню. У стены стояла кровать, на столе едва мерцала керосинка. Женщина…
У него свело челюсти. Хотелось плюнуть. Вместе с этой женщиной он вспомнил Кэтрин, свою жену. Уинстон состоял в браке; во всяком случае, когда-то – но возможно, что и сейчас, поскольку он не получал известий о ее смерти. Он будто снова вдохнул теплый душный смрад подвальной кухни: пахло клопами, нестираной одеждой, паршивыми дешевыми духами – хотя духи и завлекали, потому что партийные женщины ни под каким видом духами не пользовались. Только пролы могли надушиться, и в его сознании запах духов был неразрывно связан с похотью.
До того раза он не был с женщиной года два, если не больше. Разумеется, иметь дело с проститутками не разрешалось, но это было одно из тех правил, которые периодически осмеливались нарушать. Опасно, но не смертельно. Если поймают с проституткой, дадут пять лет лагерей, не больше, при отсутствии других провинностей. А так все было довольно просто – лишь бы не поймали без штанов. Кварталы бедняков кишели женщинами, готовыми продать себя. Можно было купить женщину за бутылку джина, поскольку пролам пить его не полагалось. Партия негласно поощряла проституцию, дававшую выход инстинктам, которые не удавалось полностью подавить. Разврат сам по себе мало кого заботил, пока ему предавались украдкой, с опаской и только с женщинами угнетенного и презираемого класса. Непростительным преступлением считалась внебрачная связь между членами Партии. Во время больших чисток чаще всего признавались как раз в таких преступлениях, но с трудом верилось, что подобное действительно имело место.
Партия не просто стремилась не допустить, чтобы между мужчинами и женщинами возникала близость, с трудом поддающаяся контролю. Тайной, но подлинной целью Партии было искоренить всякое наслаждение от секса. Главным врагом стала не столько любовь, сколько чувственность – хотя бы даже в законном браке. Брак между членами Партии заключался лишь с одобрения специально назначенного комитета, и (пусть об этом никогда не говорилось вслух) одобрения не давали, если было похоже, что жених с невестой испытывают друг к другу влечение. Считалось, что единственная цель брака – производство детей для Партии. На сексуальный акт смотрели как на некую довольно постыдную и мимолетную процедуру вроде клизмы. Об этом опять же никогда не говорилось прямо, но такое отношение воспитывалось в каждом члене Партии с самого детства. Были даже организации вроде молодежной лиги Антисекс, которые проповедовали полное воздержание для обоих полов. Детей следовало получать путем искусственного оплодотворения (ископлод на новоязе) и воспитывать в государственных интернатах. Уинстон понимал, что подобные меры предлагались не вполне всерьез, но сами теории хорошо вписывались в партийную идеологию. Партия старалась уничтожить сексуальное влечение, а если искоренить его полностью не удавалось, то хотя бы извратить и опоганить. Уинстон не понимал, почему так происходило, но это казалось само собой разумеющимся. Впрочем, в отношении женщин усилия Партии не пропали впустую.
Он снова подумал о Кэтрин. Они расстались лет девять или десять… нет, почти одиннадцать лет назад. Странно, как редко он вспоминал ее. Он мог подолгу вообще не помнить, что когда-то был женат. Они прожили вместе чуть больше года. Партия не разрешала разводиться, но если детей не появлялось, то считалось, что супругам надо разойтись.
Кэтрин была высокой блондинкой, очень стройной, с величавыми движениями. Ее лицо, выразительное, с орлиным профилем, можно было считать благородным, но лишь до тех пор, пока не увидишь, что под точеными чертами скрывается поразительная пустота. Уже вскоре после женитьбы Уинстон понял – вероятно, просто потому что узнал Кэтрин ближе большинства людей, – что в жизни не встречал настолько тупого, пошлого и пустого человека. В голове у нее не было ничего, кроме лозунгов, и не существовало настолько кретинской идеи, чтобы она не заглотила ее с подачи Партии. Уинстон придумал ей прозвище – Фонограмма. И все равно он бы смог с ней ужиться, если бы не одно обстоятельство – секс.
Едва он до нее дотрагивался, как Кэтрин вздрагивала и деревенела. Обниматься с ней было все равно что с куклой на шарнирах. У него возникало странное ощущение, что, даже сжимая его в объятиях, она одновременно всеми силами его отталкивала. Такое впечатление создавали ее окостенелые мышцы. Она лежала с закрытыми глазами, не сопротивляясь и не откликаясь – подчиняясь. Поначалу это его обескураживало, потом стало приводить в смятение. Но и тогда он был бы готов жить с ней дальше, если бы они по обоюдному согласию отказались от сексуальной близости. Как ни странно, именно Кэтрин воспротивилась такому повороту. Они должны сделать ребенка, говорила она, если у них только получится. Поэтому спектакль повторялся регулярно, раз в неделю, если им что-нибудь не мешало. В назначенный день она даже напоминала ему об этом с утра, как о некой важной обязанности. У нее было два выражения для обозначения этого действия: «делать ребенка» и «выполнять наш долг перед Партией» (да, она именно так и говорила). Очень скоро он стал испытывать ужас в преддверии назначенного дня. К счастью, ребенка они так и не зачали, и Кэтрин в итоге согласилась прекратить дальнейшие попытки, а вскоре они расстались.
Уинстон беззвучно вздохнул. Он снова взял ручку и написал:
Женщина разлеглась на кровати и тут же, без какой-либо прелюдии, в бесконечно грубой, похабной манере задрала юбку. Я…
Он увидел себя там, в тусклом свете керосинки, и снова ощутил резкий запах клопов и дешевых духов. Уинстон вспомнил, как в душе его нарастало чувство полного бессилия и обиды, невольно смешиваясь с мыслями о Кэтрин, о ее белом теле, навеки окостеневшем под воздействием гипноза Партии. Почему это всегда должно быть так? Почему у него не может быть своей женщины, и его удел – эти грязные поспешные случки раз в несколько лет? Но настоящую любовь трудно даже вообразить. Все партийные женщины одинаковы. Верность Партии укоренилась в их сознании в виде целомудрия. Природные чувства вытравливали из них с ранних лет тщательно продуманной системой воспитания, играми и обливаниями холодной водой, всяким вздором, которым их пичкали в школе и в организациях вроде Разведчиков и молодежной лиги Антисекс, лекциями, парадами, песнями, лозунгами и военной музыкой. Разум говорил ему, что должны быть исключения, но сердце уже не верило. Все они были непоколебимы, как того и требовала Партия. Ему хотелось – даже больше, чем любви – сокрушить эту стену целомудрия хотя бы раз в жизни. Полноценный сексуальный акт – это бунт. Вожделение – мыслефелония. Даже если бы ему удалось разбудить в Кэтрин женщину, это стало бы чем-то вроде совращения, хотя она была его женой.
Но надо было завершать историю, и он написал:
Я прибавил огня в лампе. Когда я увидел ее в ярком свете…
После темноты мерцающий огонек керосинки казался очень ярким. Наконец, он как следует рассмотрел женщину. Он шагнул к ней и остановился, переполняемый желанием и ужасом. Он очень болезненно осознал, чем рискует, придя сюда. Вполне возможно, что патрульные арестуют его на выходе – может, уже караулят за дверью. Арестуют, даже если он не сделает того, зачем пришел!..
Надо дописать до конца. Надо сознаться во всем. При свете лампы он вдруг увидел, что женщина старая. Макияж лежал на ее лице таким толстым слоем, что казалось, сейчас треснет, точно маска из папье-маше. Волосы местами поседели, но страшнее всего был рот: когда она его приоткрыла, там не оказалось ничего, кроме гнилой черноты. Эта женщина была совсем беззуба.
Он писал сбивчиво, каракулями:
Когда я увидел ее при свете, она оказалась старухой – ей было лет пятьдесят, не меньше. Но это не остановило меня, и я сделал, что собирался.
Он снова надавил пальцами веки. Он дописал все до конца, но это не помогло. Ему не стало легче. Ему опять безумно захотелось ругаться во всю глотку грязными словами.
VII
Если есть надежда, – написал Уинстон, – то она в пролах.
Если есть надежда, то она должна быть в пролах. Лишь в этих презренных массах, составляющих восемьдесят пять процентов населения Океании, может когда-нибудь возникнуть сила, способная уничтожить Партию. Партию нельзя разрушить изнутри. Ее враги – если такие имеются – не в состоянии объединиться, они не могут даже узнать друг о друге. Даже если легендарное Братство существует, что вполне возможно, то его члены никогда не смогут собраться больше чем по двое-трое. Ведь достаточно взгляда в глаза, непривычной интонации, а тем более шепота невзначай, чтобы вас обвинили в бунте. Одним лишь пролам, если бы только они осознали свою силу, не надо было таиться. Им нужно лишь подняться и стряхнуть с себя паразитов, как лошадь стряхивает мух. Стоит им захотеть – и они могли бы разбить Партию вдребезги хоть завтра утром. Должно же рано или поздно прийти им это в голову? Однако же!..
Он вспомнил, как шел по людной улице, и вдруг откуда-то из переулка донесся гул сотен голосов, женских голосов. Это был грозный крик гнева и отчаяния – низкое громкое «О-о-о-о-о-!» гудело и нарастало, словно колокольный звон. Сердце у него подпрыгнуло. Началось, подумал он. Бунт! Пролы, наконец, сорвались с цепи! Он поспешил вперед и увидел толпу из двух-трех сотен женщин у прилавков уличного рынка с такой трагедией на лицах, словно это были обреченные пассажиры тонущего корабля. И тут же общее отчаяние разбилось на сотни отдельных перепалок. Оказалось, что за одним из прилавков продавали жестяные кастрюли. Жалкого вида, никудышные, но ведь и таких нигде не достать. И вдруг кастрюли кончились. Счастливчики протискивались сквозь толпу, прижимая к себе добычу, пока другие их пихали и шпыняли, а неудачники у прилавка галдели, обвиняя торговца в корыстном умысле, в барышничестве. Где-то закричали с новой силой. Две обрюзгшие бабы – одна с растрепанными волосами – вцепились в кастрюлю и тянули каждая к себе. В результате у кастрюли отлетела ручка. Уинстон смотрел на них с отвращением. И все же, пусть недолго, но какая силища звучала в этом реве, исторгаемом лишь парой сотен глоток! Почему они никогда не кричат так о чем-то действительно важном?
Он написал:
Пока у них не пробудится самосознание, они не восстанут, но самосознание пробудится у них не раньше, чем они восстанут.
Такая формулировка, отметил он про себя, была весьма в духе партийных учебников. Разумеется, Партия утверждает, что освободила пролов от рабства. До Революции их страшно угнетали капиталисты: морили голодом и секли плетьми, женщин заставляли работать в угольных шахтах (между прочим, женщины и теперь там работали), шестилетних детей продавали на фабрики. В то же время в полном соответствии с принципами двоемыслия Партия учит, что пролы от природы неполноценны и их следует держать в подчинении, как животных, руководствуясь простыми правилами. На самом деле о пролах было известно немного. Но большего и не требовалось. Лишь бы работали и размножались, остальное не имело значения. Их предоставили самим себе, точно домашний скот, бродивший по равнинам Аргентины, и они стали жить в естественной манере по примеру предков. Они рождались и вырастали в трущобах, начинали работать лет в двенадцать, у них был короткий период расцвета и полового влечения – женились в двадцать, к тридцати начинали стареть, а умирали по большей части лет в шестьдесят. Тяжелая физическая работа, заботы о доме и детях, перебранки с соседями, кино и футбол, пиво и, конечно, азартные игры – этим ограничивался круг их интересов. Среди них всегда крутились агенты Мыслеполиции, которые распространяли ложные слухи, выискивали и убирали тех немногих, кто мог представлять какую-то опасность. Пролам никогда не пытались навязать идеологию Партии – считалось нежелательным развивать их политическое мышление. От пролов требовался лишь примитивный патриотизм, к которому призывали, когда нужно было увеличить продолжительность рабочего дня или снизить нормы выдачи продуктов. И даже когда пролы проявляли недовольство, а они иногда его выражали, это ни к чему не приводило, поскольку у них не было общих идей, и возмущение их не шло дальше личных конфликтов. Большое зло, можно сказать, обходило их стороной – почти ни у кого из пролов не было телеэкранов. Даже гражданская полиция редко вмешивалась в их дела. В Лондоне процветала уголовщина – существовал целый подпольный мир воров, бандитов, проституток, торговцев наркотиками и всевозможных вымогателей; но все это творилось среди самих пролов и потому не имело значения. В вопросах морали им позволяли полагаться на понятия предков. Пуританские доктрины Партии на них не распространялись. Беспорядочные половые связи не влекли за собой наказания, разводы разрешались. Наверное, пролам разрешили бы и религию, если бы они испытывали в ней хоть малейшую потребность или интерес. Пролы были ниже подозрений. Партийный лозунг формулировал это так: «Пролы и животные свободны».
Уинстон нагнулся и осторожно почесал варикозную язву. Она опять зудела. Постоянно он упирался в невозможность узнать, какой на самом деле была жизнь до Революции. Он достал из ящика школьный учебник истории, который одолжил у миссис Парсонс, и принялся переписывать в дневник один из абзацев:
В прежние дни, до нашей славной Революции, Лондон мало походил на прекрасный мегаполис, который мы видим сегодня. То был темный, грязный, жалкий город, где почти никто не ел досыта, где сотни, тысячи бедняков ходили босиком и не имели даже крыши над головой. Детям не старше вас приходилось работать по двенадцать часов в сутки на жестоких хозяев, которые били их ремнем, если они работали слишком медленно, и кормили черствыми корками хлеба с водой. Среди этой страшной нищеты высилось несколько огромных прекрасных домов, где жили богатые люди, за которых все делали по тридцать человек прислуги. Такие богачи назывались капиталистами. Это были жирные уроды со злыми лицами, как на иллюстрации на следующей странице. Вы видите, что капиталист одет в длиннополое черное пальто, которое называлось «фрак», и в нелепую блестящую шляпу, похожую на печную трубу, – она называлась «цилиндр». Такой была форма капиталистов, и никому больше не разрешалось носить ее. Капиталистам принадлежало все на земле, а все остальные люди были рабами. Капиталистам принадлежала вся земля, все дома, все заводы и все деньги. Если кто-нибудь им не подчинялся, они могли бросить его в тюрьму или лишить работы и обречь на голодную смерть. Если простой человек заговаривал с капиталистом, он должен был кланяться и кивать, снимать кепку и говорить «сэр». Самый главный капиталист назывался королем, и…
Все остальное он уже знал. Будут упомянуты епископы с батистовыми рукавами, судьи в горностаевых мантиях, позорный столб, ценные бумаги, отупляющий однообразный труд, плетка-девятихвостка, приемы у лорда-мэра Лондона, а также ритуал целования туфли Папы Римского. Существовал еще обычай jus primae noctis (право первой ночи), но, возможно, об этом не станут писать в учебнике для детей. Это право позволяло капиталисту спать с любой женщиной, работающей на его заводе.
Как же узнать, что из всего этого неправда? Может, средний человек теперь действительно живет лучше, чем до Революции? Единственный контраргумент – это немой протест твоих костей, инстинктивное чувство, что условия твоей жизни невыносимы и что когда-то, наверное, все было иначе. Он подумал, что главная особенность современной жизни – не жестокость и неуверенность в завтрашнем дне, а пустота, серость и апатия. Реальная жизнь не только не имеет ничего общего с потоками лжи, льющимися с телеэкранов, но и с теми идеалами, которые провозглашает Партия. Огромная часть жизни даже у партийцев однообразна и не связана с политикой: надо корпеть на скучной работе, толкаться за место в подземке, штопать рваные носки, выпрашивать таблетку сахарина, беречь каждый окурок. Идеал, провозглашаемый Партией, рисует нечто колоссальное, грозное и лучезарное – этакий мир из стали и бетона, мир чудовищных машин и ужасающего оружия, страну воинов и фанатиков, марширующих стройными рядами, одинаково мыслящих, одинаково кричащих лозунги, неустанно работающих, сражающихся, торжествующих и искореняющих врагов – триста миллионов людей, и все на одно лицо. А реальность – это вымирающие грязные города, в которых по улицам бродят полуголодные люди в дырявых ботинках. Они живут в ветхих домах, которые построили в девятнадцатом веке, и за годы они насквозь провоняли капустой и неисправными уборными. Ему представился Лондон – огромный разрушенный город, целое море мусорных ящиков, и почему-то вспомнилась миссис Парсонс – морщинистая, всклокоченная, беспомощно стоящая у засоренной раковины.
Уинстон снова нагнулся и почесал лодыжку. Днем и ночью телеэкран забивает уши цифрами, доказывая, что сегодня люди лучше обеспечены едой и одеждой, лучше отдыхают, живут в лучших домах и значительно дольше, работают меньше, что они выше ростом, здоровее, сильнее, счастливее, умнее, образованнее, чем пятьдесят лет назад. Ничего тут нельзя ни доказать, ни опровергнуть. К примеру, Партия утверждает, что сегодня сорок процентов взрослых пролов умеет читать и писать, тогда как до Революции грамотных среди них было всего лишь пятнадцать процентов. Партия утверждает, что детская смертность составляет теперь лишь сто шестьдесят на тысячу, а до Революции – триста, и так далее. Это напоминало уравнение с двумя неизвестными. Очень может быть, что буквально каждое слово в учебниках истории – даже все то, что никто не ставит под сомнение – это чистый вымысел. Как знать, может, и не было никакого jus primae noctis, или такого существа, как капиталист, или такого головного убора, как цилиндр.
Все расплывалось в тумане. Прошлое было подчищено, о подчистках забыли, и ложь стала правдой. Только раз в жизни Уинстон располагал конкретным, неоспоримым свидетельством фальсификации прошлого, причем задним числом – в этом вся суть. Он держал его в руках не меньше полминуты. Это было около 1973 года – примерно тогда же он расстался с Кэтрин. Впрочем, фальсификация произошла на семь-восемь лет раньше.
Вся эта история началась в середине шестидесятых годов во время больших чисток, в которых разом сгинули все настоящие вожди Революции. К 1970 году никого из них, кроме Большого Брата, уже не осталось. Всех остальных успели разоблачить как предателей и контрреволюционеров. Голдштейн бежал и скрывался неведомо где, что же до остальных, то кто-то просто исчез, а большинство казнили после эффектных публичных процессов, на которых они признались в совершенных преступлениях. Дольше других оставались в живых Джонс, Аронсон и Рузерфорд. Их арестовали году в 1965-м. Как это часто бывало, они исчезли на год-полтора, и никто не знал, живы они или нет. Затем они возникли из небытия и, как полагалось, облили себя грязью. Они признались, что шпионили в пользу противника (противником в то время, как и сейчас, была Евразия), признались, что виновны в растратах государственных средств и в убийствах видных членов Партии, признались, что плели заговоры против Большого Брата, причем еще задолго до Революции, признались в актах саботажа, повлекших за собой смерть сотен тысяч людей. После всех этих признаний их простили, восстановили в Партии и назначили на, казалось бы, важные посты, которые на деле были лишь синекурой. Все трое выступили с пространными покаянными статьями в «Таймс», анализируя причины своего падения и обещая искупить вину.
– Ну что ж. За спрос денег не берут, старик.
– Извини, – сказал Уинстон.
Гогочущий голос за соседним столиком, притихший было во время сообщения Министерства изо-билия, забубнил с прежней громкостью. Уинстон непонятно почему подумал о миссис Парсонс с ее всклокоченными волосами и пропыленными морщинами. Не пройдет и двух лет, как детки донесут на нее в Мыслеполицию. И миссис Парсонс испарят. Сайма испарят. Уинстона тоже испарят. И О’Брайена. А вот Парсонса никогда не испарят. Безглазое существо с гогочущим голосом никогда не испарят. И маленьких людишек-жуков, проворно снующих в лабиринтах министерских коридоров, никогда не испарят. И девушку с темными волосами из Художественного отдела – ее тоже никогда не испарят. Уинстону показалось, что он инстинктивно знает, кто погибнет, а кто останется в живых, но непонятно было, что нужно делать для выживания.
Из размышлений его выбил резкий толчок. Девушка за соседним столиком повернулась вполоборота и взглянула на него. Это была та самая, темноволосая. Она смотрела на него искоса, но удивительно пристально. Едва он перехватил ее взгляд, как она отвернулась.
Уинстон вспотел вдоль всей спины. Жуткий страх пронзил его. Страх почти сразу прошел, но осталась какая-то смутная тревога. Почему она следит за ним? Почему все время ходит по пятам? К сожалению, он не смог припомнить, сидела ли она уже за столиком, когда пришли они с Саймом, или появилась позднее. Но и вчера на Двухминутке Ненависти девушка села у него за спиной, хотя в этом не было необходимости. Вполне вероятно, она хотела проверить, кричит ли он достаточно громко.
Он снова задумался: вряд ли она состоит в Мыслеполиции, но в таком случае это шпионка-любительница, а это еще опаснее. Уинстон не знал, долго ли она на него смотрела. Наверное, минут пять, но он не был уверен, что все это время следил за выражением лица. Очень опасно забывать, что лицо может отражать твои мысли, когда ты среди людей или в зоне видимости телеэкрана. Даже мелочь может тебя выдать – нервный тик, тревожный взгляд, привычка бормотать про себя – что угодно, что укажет на возможность отклонения от нормы или какие-то тайные мысли. Во всяком случае, неправильное выражение лица (к примеру, скептический вид при объявлении победы) каралось как преступление. На новоязе было даже такое слово – лицефелония.
Девушка снова повернулась к нему спиной. Может, она все же не следит за ним; может, это просто совпадение, что она два дня подряд садится рядом? Сигарета погасла, он осторожно положил ее на край стола – докурит после работы, если удастся не просыпать табак. А может, очень может быть, что за соседним столиком сидит агент Мыслеполиции. Очень может быть, что через три дня Уинстон окажется в подвалах Министерства любви, но не пропадать же окурку. Сайм сложил свою бумажку и убрал в карман. Парсонс снова заговорил.
– Я рассказывал тебе, старина, – сказал он, не вынимая трубку изо рта, – как мои сорванцы подожгли юбку рыночной торговке, когда увидели, что она завернула сосиски в плакат с портретом Б-Б? Подкрались к ней сзади, запалили спичечный коробок и подожгли. Наверное, хорошенько поджарили. Вроде сопляки? Но какое рвение! Теперь их отлично натаскивают в отрядах Разведчиков, даже лучше, чем в мое время. Знаешь что им недавно выдали? Слуховые трубки, чтобы подслушивать сквозь замочную скважину! Дочурка на днях принесла домой свою трубку: опробовала в гостиной и утверждает, что слышно в два раза лучше, чем просто ухом. Конечно, это всего лишь игрушка, надо понимать. Но внушает правильный настрой.
В этот момент раздался пронзительный свист – пора возвращаться к работе. Все трое вскочили на ноги и вместе со всеми бросились к лифтам, а Уинстон просыпал табак из окурка.
VI
Уинстон записал в дневнике:
Это случилось три года назад. Темным вечером, в узком переулке вблизи одного вокзала. Она стояла у подъезда, под фонарем, почти не дававшим света. Лицо у нее было молодое, сильно накрашенное. Это меня и привлекло: ее белизна, словно у маски, и ярко-красные губы. Партийные женщины никогда не красятся. Больше на улице никого не было, и ни одного телеэкрана. Она сказала: два доллара. Я…
Ему вдруг стало трудно продолжать. Он закрыл глаза и нажал на веки пальцами, словно желая выдавить навязчивое видение. Нестерпимо захотелось громко выругаться грязными словами. Или ударить головой о стену, отшвырнуть стол, запустить чернильницей в окно, чтобы хоть как-то – буйством, шумом, болью – заглушить мучительное воспоминание…
Худший враг, подумал он, это собственная нервная система. Внутреннее напряжение всегда норовит себя проявить. Он вспомнил одного прохожего, которого увидел на улице несколько недель назад; вполне заурядный товарищ, член Партии, с портфелем, лет тридцати пяти – сорока, довольно высокий и худой. Когда между ними было несколько метров, у мужчины свело судорогой левую половину лица. А когда они поравнялись, дрожь повторилась: обычная судорога, нервный тик, быстрый, как щелчок фотоаппарата, и, по всей видимости, привычный. Уинстон вспомнил, как подумал тогда: этот бедолага не жилец. Особенно страшно было при мысли, что лицо у него дергалось бессознательно. Впрочем, самое опасное – разговаривать во сне. От этого никто не застрахован, насколько знал Уинстон.
Он перевел дух и стал писать дальше:
Я вошел за ней в подъезд, мы пересекли прихожую и спустились в подвальную кухню. У стены стояла кровать, на столе едва мерцала керосинка. Женщина…
У него свело челюсти. Хотелось плюнуть. Вместе с этой женщиной он вспомнил Кэтрин, свою жену. Уинстон состоял в браке; во всяком случае, когда-то – но возможно, что и сейчас, поскольку он не получал известий о ее смерти. Он будто снова вдохнул теплый душный смрад подвальной кухни: пахло клопами, нестираной одеждой, паршивыми дешевыми духами – хотя духи и завлекали, потому что партийные женщины ни под каким видом духами не пользовались. Только пролы могли надушиться, и в его сознании запах духов был неразрывно связан с похотью.
До того раза он не был с женщиной года два, если не больше. Разумеется, иметь дело с проститутками не разрешалось, но это было одно из тех правил, которые периодически осмеливались нарушать. Опасно, но не смертельно. Если поймают с проституткой, дадут пять лет лагерей, не больше, при отсутствии других провинностей. А так все было довольно просто – лишь бы не поймали без штанов. Кварталы бедняков кишели женщинами, готовыми продать себя. Можно было купить женщину за бутылку джина, поскольку пролам пить его не полагалось. Партия негласно поощряла проституцию, дававшую выход инстинктам, которые не удавалось полностью подавить. Разврат сам по себе мало кого заботил, пока ему предавались украдкой, с опаской и только с женщинами угнетенного и презираемого класса. Непростительным преступлением считалась внебрачная связь между членами Партии. Во время больших чисток чаще всего признавались как раз в таких преступлениях, но с трудом верилось, что подобное действительно имело место.
Партия не просто стремилась не допустить, чтобы между мужчинами и женщинами возникала близость, с трудом поддающаяся контролю. Тайной, но подлинной целью Партии было искоренить всякое наслаждение от секса. Главным врагом стала не столько любовь, сколько чувственность – хотя бы даже в законном браке. Брак между членами Партии заключался лишь с одобрения специально назначенного комитета, и (пусть об этом никогда не говорилось вслух) одобрения не давали, если было похоже, что жених с невестой испытывают друг к другу влечение. Считалось, что единственная цель брака – производство детей для Партии. На сексуальный акт смотрели как на некую довольно постыдную и мимолетную процедуру вроде клизмы. Об этом опять же никогда не говорилось прямо, но такое отношение воспитывалось в каждом члене Партии с самого детства. Были даже организации вроде молодежной лиги Антисекс, которые проповедовали полное воздержание для обоих полов. Детей следовало получать путем искусственного оплодотворения (ископлод на новоязе) и воспитывать в государственных интернатах. Уинстон понимал, что подобные меры предлагались не вполне всерьез, но сами теории хорошо вписывались в партийную идеологию. Партия старалась уничтожить сексуальное влечение, а если искоренить его полностью не удавалось, то хотя бы извратить и опоганить. Уинстон не понимал, почему так происходило, но это казалось само собой разумеющимся. Впрочем, в отношении женщин усилия Партии не пропали впустую.
Он снова подумал о Кэтрин. Они расстались лет девять или десять… нет, почти одиннадцать лет назад. Странно, как редко он вспоминал ее. Он мог подолгу вообще не помнить, что когда-то был женат. Они прожили вместе чуть больше года. Партия не разрешала разводиться, но если детей не появлялось, то считалось, что супругам надо разойтись.
Кэтрин была высокой блондинкой, очень стройной, с величавыми движениями. Ее лицо, выразительное, с орлиным профилем, можно было считать благородным, но лишь до тех пор, пока не увидишь, что под точеными чертами скрывается поразительная пустота. Уже вскоре после женитьбы Уинстон понял – вероятно, просто потому что узнал Кэтрин ближе большинства людей, – что в жизни не встречал настолько тупого, пошлого и пустого человека. В голове у нее не было ничего, кроме лозунгов, и не существовало настолько кретинской идеи, чтобы она не заглотила ее с подачи Партии. Уинстон придумал ей прозвище – Фонограмма. И все равно он бы смог с ней ужиться, если бы не одно обстоятельство – секс.
Едва он до нее дотрагивался, как Кэтрин вздрагивала и деревенела. Обниматься с ней было все равно что с куклой на шарнирах. У него возникало странное ощущение, что, даже сжимая его в объятиях, она одновременно всеми силами его отталкивала. Такое впечатление создавали ее окостенелые мышцы. Она лежала с закрытыми глазами, не сопротивляясь и не откликаясь – подчиняясь. Поначалу это его обескураживало, потом стало приводить в смятение. Но и тогда он был бы готов жить с ней дальше, если бы они по обоюдному согласию отказались от сексуальной близости. Как ни странно, именно Кэтрин воспротивилась такому повороту. Они должны сделать ребенка, говорила она, если у них только получится. Поэтому спектакль повторялся регулярно, раз в неделю, если им что-нибудь не мешало. В назначенный день она даже напоминала ему об этом с утра, как о некой важной обязанности. У нее было два выражения для обозначения этого действия: «делать ребенка» и «выполнять наш долг перед Партией» (да, она именно так и говорила). Очень скоро он стал испытывать ужас в преддверии назначенного дня. К счастью, ребенка они так и не зачали, и Кэтрин в итоге согласилась прекратить дальнейшие попытки, а вскоре они расстались.
Уинстон беззвучно вздохнул. Он снова взял ручку и написал:
Женщина разлеглась на кровати и тут же, без какой-либо прелюдии, в бесконечно грубой, похабной манере задрала юбку. Я…
Он увидел себя там, в тусклом свете керосинки, и снова ощутил резкий запах клопов и дешевых духов. Уинстон вспомнил, как в душе его нарастало чувство полного бессилия и обиды, невольно смешиваясь с мыслями о Кэтрин, о ее белом теле, навеки окостеневшем под воздействием гипноза Партии. Почему это всегда должно быть так? Почему у него не может быть своей женщины, и его удел – эти грязные поспешные случки раз в несколько лет? Но настоящую любовь трудно даже вообразить. Все партийные женщины одинаковы. Верность Партии укоренилась в их сознании в виде целомудрия. Природные чувства вытравливали из них с ранних лет тщательно продуманной системой воспитания, играми и обливаниями холодной водой, всяким вздором, которым их пичкали в школе и в организациях вроде Разведчиков и молодежной лиги Антисекс, лекциями, парадами, песнями, лозунгами и военной музыкой. Разум говорил ему, что должны быть исключения, но сердце уже не верило. Все они были непоколебимы, как того и требовала Партия. Ему хотелось – даже больше, чем любви – сокрушить эту стену целомудрия хотя бы раз в жизни. Полноценный сексуальный акт – это бунт. Вожделение – мыслефелония. Даже если бы ему удалось разбудить в Кэтрин женщину, это стало бы чем-то вроде совращения, хотя она была его женой.
Но надо было завершать историю, и он написал:
Я прибавил огня в лампе. Когда я увидел ее в ярком свете…
После темноты мерцающий огонек керосинки казался очень ярким. Наконец, он как следует рассмотрел женщину. Он шагнул к ней и остановился, переполняемый желанием и ужасом. Он очень болезненно осознал, чем рискует, придя сюда. Вполне возможно, что патрульные арестуют его на выходе – может, уже караулят за дверью. Арестуют, даже если он не сделает того, зачем пришел!..
Надо дописать до конца. Надо сознаться во всем. При свете лампы он вдруг увидел, что женщина старая. Макияж лежал на ее лице таким толстым слоем, что казалось, сейчас треснет, точно маска из папье-маше. Волосы местами поседели, но страшнее всего был рот: когда она его приоткрыла, там не оказалось ничего, кроме гнилой черноты. Эта женщина была совсем беззуба.
Он писал сбивчиво, каракулями:
Когда я увидел ее при свете, она оказалась старухой – ей было лет пятьдесят, не меньше. Но это не остановило меня, и я сделал, что собирался.
Он снова надавил пальцами веки. Он дописал все до конца, но это не помогло. Ему не стало легче. Ему опять безумно захотелось ругаться во всю глотку грязными словами.
VII
Если есть надежда, – написал Уинстон, – то она в пролах.
Если есть надежда, то она должна быть в пролах. Лишь в этих презренных массах, составляющих восемьдесят пять процентов населения Океании, может когда-нибудь возникнуть сила, способная уничтожить Партию. Партию нельзя разрушить изнутри. Ее враги – если такие имеются – не в состоянии объединиться, они не могут даже узнать друг о друге. Даже если легендарное Братство существует, что вполне возможно, то его члены никогда не смогут собраться больше чем по двое-трое. Ведь достаточно взгляда в глаза, непривычной интонации, а тем более шепота невзначай, чтобы вас обвинили в бунте. Одним лишь пролам, если бы только они осознали свою силу, не надо было таиться. Им нужно лишь подняться и стряхнуть с себя паразитов, как лошадь стряхивает мух. Стоит им захотеть – и они могли бы разбить Партию вдребезги хоть завтра утром. Должно же рано или поздно прийти им это в голову? Однако же!..
Он вспомнил, как шел по людной улице, и вдруг откуда-то из переулка донесся гул сотен голосов, женских голосов. Это был грозный крик гнева и отчаяния – низкое громкое «О-о-о-о-о-!» гудело и нарастало, словно колокольный звон. Сердце у него подпрыгнуло. Началось, подумал он. Бунт! Пролы, наконец, сорвались с цепи! Он поспешил вперед и увидел толпу из двух-трех сотен женщин у прилавков уличного рынка с такой трагедией на лицах, словно это были обреченные пассажиры тонущего корабля. И тут же общее отчаяние разбилось на сотни отдельных перепалок. Оказалось, что за одним из прилавков продавали жестяные кастрюли. Жалкого вида, никудышные, но ведь и таких нигде не достать. И вдруг кастрюли кончились. Счастливчики протискивались сквозь толпу, прижимая к себе добычу, пока другие их пихали и шпыняли, а неудачники у прилавка галдели, обвиняя торговца в корыстном умысле, в барышничестве. Где-то закричали с новой силой. Две обрюзгшие бабы – одна с растрепанными волосами – вцепились в кастрюлю и тянули каждая к себе. В результате у кастрюли отлетела ручка. Уинстон смотрел на них с отвращением. И все же, пусть недолго, но какая силища звучала в этом реве, исторгаемом лишь парой сотен глоток! Почему они никогда не кричат так о чем-то действительно важном?
Он написал:
Пока у них не пробудится самосознание, они не восстанут, но самосознание пробудится у них не раньше, чем они восстанут.
Такая формулировка, отметил он про себя, была весьма в духе партийных учебников. Разумеется, Партия утверждает, что освободила пролов от рабства. До Революции их страшно угнетали капиталисты: морили голодом и секли плетьми, женщин заставляли работать в угольных шахтах (между прочим, женщины и теперь там работали), шестилетних детей продавали на фабрики. В то же время в полном соответствии с принципами двоемыслия Партия учит, что пролы от природы неполноценны и их следует держать в подчинении, как животных, руководствуясь простыми правилами. На самом деле о пролах было известно немного. Но большего и не требовалось. Лишь бы работали и размножались, остальное не имело значения. Их предоставили самим себе, точно домашний скот, бродивший по равнинам Аргентины, и они стали жить в естественной манере по примеру предков. Они рождались и вырастали в трущобах, начинали работать лет в двенадцать, у них был короткий период расцвета и полового влечения – женились в двадцать, к тридцати начинали стареть, а умирали по большей части лет в шестьдесят. Тяжелая физическая работа, заботы о доме и детях, перебранки с соседями, кино и футбол, пиво и, конечно, азартные игры – этим ограничивался круг их интересов. Среди них всегда крутились агенты Мыслеполиции, которые распространяли ложные слухи, выискивали и убирали тех немногих, кто мог представлять какую-то опасность. Пролам никогда не пытались навязать идеологию Партии – считалось нежелательным развивать их политическое мышление. От пролов требовался лишь примитивный патриотизм, к которому призывали, когда нужно было увеличить продолжительность рабочего дня или снизить нормы выдачи продуктов. И даже когда пролы проявляли недовольство, а они иногда его выражали, это ни к чему не приводило, поскольку у них не было общих идей, и возмущение их не шло дальше личных конфликтов. Большое зло, можно сказать, обходило их стороной – почти ни у кого из пролов не было телеэкранов. Даже гражданская полиция редко вмешивалась в их дела. В Лондоне процветала уголовщина – существовал целый подпольный мир воров, бандитов, проституток, торговцев наркотиками и всевозможных вымогателей; но все это творилось среди самих пролов и потому не имело значения. В вопросах морали им позволяли полагаться на понятия предков. Пуританские доктрины Партии на них не распространялись. Беспорядочные половые связи не влекли за собой наказания, разводы разрешались. Наверное, пролам разрешили бы и религию, если бы они испытывали в ней хоть малейшую потребность или интерес. Пролы были ниже подозрений. Партийный лозунг формулировал это так: «Пролы и животные свободны».
Уинстон нагнулся и осторожно почесал варикозную язву. Она опять зудела. Постоянно он упирался в невозможность узнать, какой на самом деле была жизнь до Революции. Он достал из ящика школьный учебник истории, который одолжил у миссис Парсонс, и принялся переписывать в дневник один из абзацев:
В прежние дни, до нашей славной Революции, Лондон мало походил на прекрасный мегаполис, который мы видим сегодня. То был темный, грязный, жалкий город, где почти никто не ел досыта, где сотни, тысячи бедняков ходили босиком и не имели даже крыши над головой. Детям не старше вас приходилось работать по двенадцать часов в сутки на жестоких хозяев, которые били их ремнем, если они работали слишком медленно, и кормили черствыми корками хлеба с водой. Среди этой страшной нищеты высилось несколько огромных прекрасных домов, где жили богатые люди, за которых все делали по тридцать человек прислуги. Такие богачи назывались капиталистами. Это были жирные уроды со злыми лицами, как на иллюстрации на следующей странице. Вы видите, что капиталист одет в длиннополое черное пальто, которое называлось «фрак», и в нелепую блестящую шляпу, похожую на печную трубу, – она называлась «цилиндр». Такой была форма капиталистов, и никому больше не разрешалось носить ее. Капиталистам принадлежало все на земле, а все остальные люди были рабами. Капиталистам принадлежала вся земля, все дома, все заводы и все деньги. Если кто-нибудь им не подчинялся, они могли бросить его в тюрьму или лишить работы и обречь на голодную смерть. Если простой человек заговаривал с капиталистом, он должен был кланяться и кивать, снимать кепку и говорить «сэр». Самый главный капиталист назывался королем, и…
Все остальное он уже знал. Будут упомянуты епископы с батистовыми рукавами, судьи в горностаевых мантиях, позорный столб, ценные бумаги, отупляющий однообразный труд, плетка-девятихвостка, приемы у лорда-мэра Лондона, а также ритуал целования туфли Папы Римского. Существовал еще обычай jus primae noctis (право первой ночи), но, возможно, об этом не станут писать в учебнике для детей. Это право позволяло капиталисту спать с любой женщиной, работающей на его заводе.
Как же узнать, что из всего этого неправда? Может, средний человек теперь действительно живет лучше, чем до Революции? Единственный контраргумент – это немой протест твоих костей, инстинктивное чувство, что условия твоей жизни невыносимы и что когда-то, наверное, все было иначе. Он подумал, что главная особенность современной жизни – не жестокость и неуверенность в завтрашнем дне, а пустота, серость и апатия. Реальная жизнь не только не имеет ничего общего с потоками лжи, льющимися с телеэкранов, но и с теми идеалами, которые провозглашает Партия. Огромная часть жизни даже у партийцев однообразна и не связана с политикой: надо корпеть на скучной работе, толкаться за место в подземке, штопать рваные носки, выпрашивать таблетку сахарина, беречь каждый окурок. Идеал, провозглашаемый Партией, рисует нечто колоссальное, грозное и лучезарное – этакий мир из стали и бетона, мир чудовищных машин и ужасающего оружия, страну воинов и фанатиков, марширующих стройными рядами, одинаково мыслящих, одинаково кричащих лозунги, неустанно работающих, сражающихся, торжествующих и искореняющих врагов – триста миллионов людей, и все на одно лицо. А реальность – это вымирающие грязные города, в которых по улицам бродят полуголодные люди в дырявых ботинках. Они живут в ветхих домах, которые построили в девятнадцатом веке, и за годы они насквозь провоняли капустой и неисправными уборными. Ему представился Лондон – огромный разрушенный город, целое море мусорных ящиков, и почему-то вспомнилась миссис Парсонс – морщинистая, всклокоченная, беспомощно стоящая у засоренной раковины.
Уинстон снова нагнулся и почесал лодыжку. Днем и ночью телеэкран забивает уши цифрами, доказывая, что сегодня люди лучше обеспечены едой и одеждой, лучше отдыхают, живут в лучших домах и значительно дольше, работают меньше, что они выше ростом, здоровее, сильнее, счастливее, умнее, образованнее, чем пятьдесят лет назад. Ничего тут нельзя ни доказать, ни опровергнуть. К примеру, Партия утверждает, что сегодня сорок процентов взрослых пролов умеет читать и писать, тогда как до Революции грамотных среди них было всего лишь пятнадцать процентов. Партия утверждает, что детская смертность составляет теперь лишь сто шестьдесят на тысячу, а до Революции – триста, и так далее. Это напоминало уравнение с двумя неизвестными. Очень может быть, что буквально каждое слово в учебниках истории – даже все то, что никто не ставит под сомнение – это чистый вымысел. Как знать, может, и не было никакого jus primae noctis, или такого существа, как капиталист, или такого головного убора, как цилиндр.
Все расплывалось в тумане. Прошлое было подчищено, о подчистках забыли, и ложь стала правдой. Только раз в жизни Уинстон располагал конкретным, неоспоримым свидетельством фальсификации прошлого, причем задним числом – в этом вся суть. Он держал его в руках не меньше полминуты. Это было около 1973 года – примерно тогда же он расстался с Кэтрин. Впрочем, фальсификация произошла на семь-восемь лет раньше.
Вся эта история началась в середине шестидесятых годов во время больших чисток, в которых разом сгинули все настоящие вожди Революции. К 1970 году никого из них, кроме Большого Брата, уже не осталось. Всех остальных успели разоблачить как предателей и контрреволюционеров. Голдштейн бежал и скрывался неведомо где, что же до остальных, то кто-то просто исчез, а большинство казнили после эффектных публичных процессов, на которых они признались в совершенных преступлениях. Дольше других оставались в живых Джонс, Аронсон и Рузерфорд. Их арестовали году в 1965-м. Как это часто бывало, они исчезли на год-полтора, и никто не знал, живы они или нет. Затем они возникли из небытия и, как полагалось, облили себя грязью. Они признались, что шпионили в пользу противника (противником в то время, как и сейчас, была Евразия), признались, что виновны в растратах государственных средств и в убийствах видных членов Партии, признались, что плели заговоры против Большого Брата, причем еще задолго до Революции, признались в актах саботажа, повлекших за собой смерть сотен тысяч людей. После всех этих признаний их простили, восстановили в Партии и назначили на, казалось бы, важные посты, которые на деле были лишь синекурой. Все трое выступили с пространными покаянными статьями в «Таймс», анализируя причины своего падения и обещая искупить вину.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: