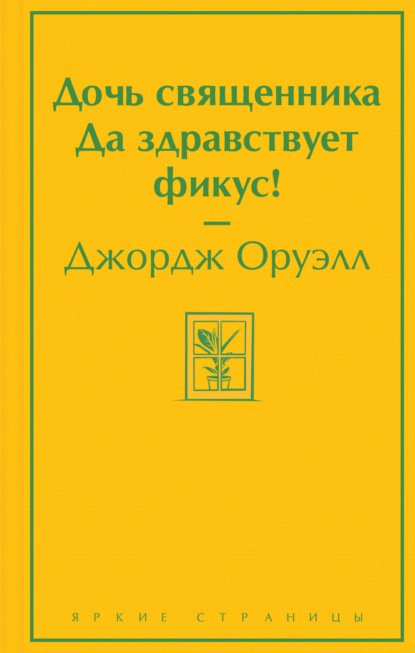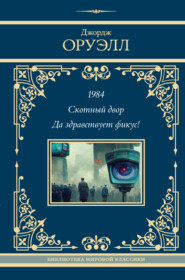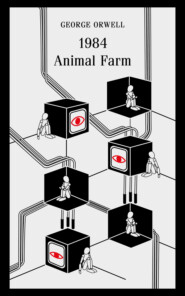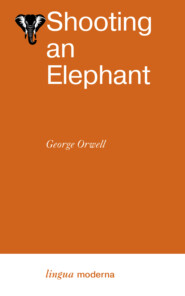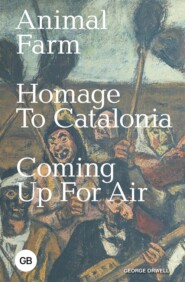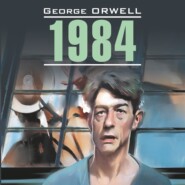По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дочь священника. Да здравствует фикус!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лет за пять или шесть до того, когда отец Макгайр вел похоронную службу на кладбище Св. Этельстана (римско-католического кладбища в Найп-Хилле не было), между ним и ректором возник спор о том, где отцу Макгайру следует облачаться в рясу (в церкви или не в церкви), и два священника стали препираться через разверстую могилу. С тех пор они не разговаривали. Уж лучше так, говорил ректор.
Что касалось прочих священнослужителей Найп-Хилла – мистера Уорда, конгрегационалистского священника, мистера Фоли, уэслианского[34 - Уэслианство – одно из направлений протестантизма.] пастора и крикливого лысого старовера, устраивавшего оргии в часовне Эбенезера, – ректор называл их шайкой презренных раскольников и строжайше запрещал Дороти всяческое общение с ними.
5
Был полдень. В просторной, старинной теплице, стеклянная крыша которой от времени и грязи покрылась тускло-зеленым налетом, мерцавшим, словно старый римский стакан, Дороти со своими подопечными сбивчиво и шумно репетировала «Карла Первого».
Сама Дороти не участвовала в репетиции, но зато отвечала за реквизит. Она мастерила костюмы – большую их часть – для всех пьес, которые ставила со школьниками. Собственно, постановками и репетициями занимался Виктор Стоун – Дороти звала его просто Виктор, – директор церковной школы. Это был щуплый вспыльчивый брюнет двадцати семи лет, одетый в темную строгую одежду, и в настоящий момент он отчаянно махал свитком рукописи в сторону шести детей, недоуменно смотревших на него. На длинной скамье у стены еще четверо детей поочередно осваивали «звуковые эффекты», стуча кочергами, и вздорили из-за замызганной коробочки «Мятных драже», по пенни за сорок штук.
В теплице было ужасно жарко и сильно пахло клеем и кислым детским потом. Дороти сидела на полу, зажав во рту булавки, а в руке – ножницы, и стремительно нарезала коричневую оберточную бумагу на длинные узкие полоски. Рядом на примусе булькала банка клея, а за спиной у Дороти на шатком, заляпанном чернилами рабочем столе швейная машинка соседствовала с ворохом недоделанных костюмов, стопкой листов оберточной бумаги, мотками бечевы, брусками сухого клея, деревянными мечами и открытыми банками с краской. Мысли Дороти перескакивали с двух пар ботфортов семнадцатого века, которые предстояло изготовить для Карла Первого и Оливера Кромвеля, на сердитые окрики Виктора, распалившегося до крайности, как с ним всегда случалось на репетициях. Сам он был прирожденным актером, и его выводили из себя тягомотные репетиции с не слишком одаренными детьми. Он шагал взад-вперед, отчитывая детей, не стесняясь в выражениях, и периодически хватал со стола деревянный меч и делал грозные выпады в чью-нибудь сторону.
– Не можешь, что ли, поживее? – кричал он, тыча в живот малолетнего остолопа. – Не тупи! Говори осмысленно! У тебя вид, как у трупа, которого закопали и выкопали. Чего ты там бубнишь себе под нос? Встань и рявкни на него. Ты же играешь убийцу!
– Перси, иди сюда! – прокричала Дороти, не вынимая изо рта булавок. – Быстро!
Она мастерила доспехи – самая паршивая работа, не считая жутких ботфортов, – из оберточной бумаги и клея. Внушительный опыт позволял Дороти смастерить почти что угодно из этих нехитрых материалов, даже вполне приличный завитой парик, с основой из оберточной бумаги и волосами из крашеной пакли. За год она тратила прорву времени, возясь с клеем, бумагой, суровой марлей и прочим инвентарем постановщика-любителя. Различные церковные фонды так отчаянно нуждались в средствах, что, помимо базаров и распродаж, едва ли не каждый месяц приходилось ставить школьные спектакли, живые картины и мимические интерлюдии.
Перси – Перси Джоуэтт, сын кузнеца, кудрявый невысокий мальчуган, – слез со скамьи и предстал перед Дороти, ерзая с несчастным видом. Она схватила лист оберточной бумаги, приложила к нему, проворно вырезала отверстия для головы и рук, обернула вокруг талии и быстро заколола, изобразив подобие нагрудника. Между тем пространство оглашалось следующей многоголосицей.
ВИКТОР: Давайте же, давайте! Входит Оливер Кромвель – это ты! НЕТ, не так! По-твоему, Оливер Кромвель входит, как побитая дворняжка? Расправь плечи. Выпяти грудь. Брови насупь. Уже лучше. Теперь давай, Кромвель: «Ни с места! У меня в руке пистоль!» Ну.
ДЕВОЧКА: Извините, мисс, мама сказала, чтобы я сказала вам, мисс…
ДОРОТИ: Стой смирно, Перси! Бога ради, не вертись!
КРОМВЕЛЬ: Низ места! У меня вру кепи столь!
МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА НА СКАМЬЕ: Мистер! Я уронила леденец! [хныча] Уронила ледене-е-ец!
ВИКТОР: Нет-нет-НЕТ, Томми! Нет-нет-НЕТ!
ДЕВОЧКА: Извините, мисс, мама сказала, чтобы я сказала вам, что она не смогла сшить мне трико, как обещала, мисс, потому что…
ДОРОТИ: Еще раз так сделаешь, я булавку проглочу.
КРОМВЕЛЬ: Ни с места! У меня в руке…
МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА [плача]: Леде-е-е-е-енчик мой!
Дороти схватила кисточку с клеем и стала лихорадочно обклеивать внахлест полосками оберточной бумаги доспехи Перси, снизу доверху, спереди и сзади, но была вынуждена прерваться из-за бумаги, приклеившейся к пальцам. Через пять минут кираса из бумаги и клея сделалась ее стараниями настолько прочной, что могла бы, высохнув, служить бронежилетом. Перси, «закованный в латы», с острым бумажным краем, врезавшимся в подбородок, покорно сносил неудобства, точно собака, которую моют. Дороти взяла ножницы, надрезала сбоку нагрудник и, сняв его, поставила сохнуть и сразу принялась за другого ребенка. Тут же раздавались устрашающие «звуковые эффекты» – это дети отрабатывали звуки выстрелов и лошадиного галопа. Пальцы Дороти все больше зарастали клеем, но она время от времени споласкивала их в ведре с теплой водой, стоявшем наготове. За двадцать минут она успела сделать основную часть трех нагрудников. Их еще предстояло довести до ума, раскрасить алюминиевой краской и зашнуровать по бокам; а после нужно будет приниматься за подолы и – самое худшее – за шлемы. Виктор между тем размахивал мечом и, перекрикивая «галопирующих лошадей», изображал поочередно Оливера Кромвеля, Карла Первого, «круглоголовых», «кавалеров», крестьян и придворных дам. Дети уже подустали – они зевали, куксились и украдкой пинали и щипали друг дружку. Разделавшись с нагрудниками, Дороти сгребла часть хлама со стола, села за швейную машинку и стала шить зеленый вельветовый камзол из суровой марли с зеленым отливом – с расстояния будет смотреться в самый раз.
Прошли еще десять минут лихорадочной деятельности. Затем у Дороти порвалась нитка, и она едва не чертыхнулась, но одернула себя и поспешно вставила новую. Она боялась не успеть вовремя. До пьесы оставалось всего две недели, и Дороти приходила в отчаяние при мысли обо всем, что еще оставалось несделанным: шлемы, камзолы, мечи, ботфорты (ох уж эти проклятущие ботфорты – они преследовали ее в кошмарах), ножны, брыжи, парики, шпоры, декорации… Родители никогда не помогали с костюмами для школьных спектаклей; точнее, они всегда обещали помочь, но дальше этого дело не шло. У Дороти ужасно разболелась голова – отчасти из-за жары в теплице, отчасти оттого, что за шитьем камзола она напряженно обдумывала выкройки для ботфортов из оберточной бумаги. Она до того увлеклась, что даже забыла про счет. Все, о чем она могла думать, это устрашающая гора несделанных костюмов, возвышавшаяся перед ней. И так проходили все ее дни. Одна забота напирала на другую – будь то костюмы для школьного спектакля или грозящий провалиться пол колокольни, всевозможные долги или душившие горох сорняки, – и каждая забота была до того срочной и беспокойной, что требовала к себе безраздельного внимания.
Виктор бросил на пол деревянный меч и взглянул на свои карманные часы.
– Ну, порядок! – сказал он резко, даже грубовато, как всегда говорил с детьми. – Продолжим в пятницу. Давайте, выметайтесь! Тошнит уже от вас.
Проводив детей, он моментально забыл об их существовании, вынул из кармана нотный лист и стал беспокойно мерить шагами помещение, косясь на два чахлых растения в углу, тянувших за края горшков засохшие бурые побеги. Дороти по-прежнему склонялась над швейной машинкой, прошивая зеленый бархатный камзол. Виктор был неугомонным интеллигентным созданием и бывал счастлив, только когда выяснял с кем-нибудь отношения. Его бледное, изящное лицо, казалось, вечно выражало недовольство, но в действительности это было выражение мальчишеской неусидчивости. Люди, впервые видевшие его, считали, что он растрачивает свои таланты на такой несерьезной работе, как директор приходской школы, но правда была в том, что профессиональные таланты Виктора ограничивались скромными способностями к музыке и значительно большими – в обращении с детьми. Не хватавший звезд с неба в других областях, с детьми он умел обращаться; он с ними не церемонился. Но, как и все люди, на этот свой особый талант он смотрел с пренебрежением. Почти все его интересы вращались вокруг церкви. Он был, что называется, клерикалом. Его всегда притягивала церковь, и он охотно избрал бы ее своим поприщем, если бы его умственных способностей хватило на овладение греческим и ивритом. Вот так, не сумев получить духовного сана, он вполне закономерно сделался учителем приходской школы и церковным органистом. Это давало ему возможность, образно выражаясь, вращаться в церковных кругах. Само собой, он был англокатоликом самого непримиримого толка – бо?льшим клерикалом, чем сами клирики, знатоком истории церкви и экспертом по церковному облачению, в любой момент готовым разразиться гневной тирадой против модернистов, протестантов, сциентистов[35 - Последователи т. н. христианской науки, разновидности либерального протестантизма.], большевиков и атеистов.
– Я подумала, – сказала Дороти, перестав шить и отрезав нитку, – мы могли бы сделать эти шлемы из старых шляп-котелков, если бы нашли достаточно. Срезать поля, приделать бумажные, нужной формы, и посеребрить.
– Господи, зачем забивать себе этим голову? – сказал Виктор, потерявший к пьесе интерес, едва закончилась репетиция.
– Больше всего голова у меня забита паршивыми ботфортами, – сказала Дороти, положив камзол на колени и рассматривая его.
– Ой, ну их, эти ботфорты! Давай забудем на миг о пьесе. Послушай, – сказал Виктор, разворачивая свой нотный лист, – я хочу, чтобы ты обратилась к отцу для меня. Я бы хотел, чтобы ты спросила его, нельзя ли нам устроить процессию как-нибудь в следующем месяце.
– Еще одну процессию? Зачем?
– Ну, не знаю. Всегда можно найти повод для процессии. Восьмого будет Рождество B.V.M.[36 - Лат. Beata Virgo Maria – Пресвятая Дева Мария.] – я так думаю, вполне себе событие. Мы сделаем все в лучшем виде. Я раздобыл великолепный духоподъемный гимн, который дети смогут прореветь, и мы, пожалуй, могли бы позаимствовать у Ведекинда в Миллборо синюю хоругвь с Девой Марией. Если ректор замолвит слово, я тут же начну натаскивать хор.
– Ты же знаешь, он будет против, – сказала Дороти, вдевая нитку в иголку, чтобы пришить пуговицы к камзолу. – Он ведь не одобряет процессий. Самое лучшее не сердить его понапрасну.
– Ой, какой вздор! – возразил Виктор. – У нас уже несколько месяцев не было процессий. Я нигде не видел таких безжизненных служб, как здесь. Иной раз посмотришь – можно подумать, у нас какая-то баптистская капелла или я не знаю что.
Виктора вечно выводила из себя суровая простота ректорских служб. Сам он приветствовал то, что называл «настоящим католическим богослужением», то есть бесконечные воскурения, позолоченные образа и пышные римские облачения. Будучи церковным органистом, он постоянно настаивал на процессиях, величественной музыке, изысканной литургии, так что они с ректором находились по разные стороны баррикад. И в этом отношении Дороти была на стороне отца. Воспитанная в духе сравнительно бесстрастного англиканства, она смущалась и побаивалась всякой «ритуальности».
– Полный вздор! – повторил Виктор. – Процессия – это же так здорово! Вдоль по проходу, из церкви через западную дверь, в церковь через южную; позади певчие со свечами, впереди бойскауты с хоругвью. Просто загляденье.
И он пропел по нотам, слабым, но мелодичным тенором:
«Славься, день торжественный, день благословенный, свято чтимый во веки веков!»
– Будь моя воля, – добавил он, – у меня бы еще пара мальчиков раскачивали разом первоклассные кадила.
– Да, но ты же знаешь, как отец не одобряет такого рода вещи. Особенно если это касается Девы Марии. Он говорит, это все «римская лихорадка», от которой люди начинают креститься и становиться на колени, когда надо и не надо, и бог знает что еще. Помнишь, что было в сочельник?
В прошлом году Виктор взял на себя смелость выбрать один из гимнов для сочельника, под номером 642, с припевом: «Радуйся, Мария, радуйся, Мария, радуйся, Мария, благодатная!» Ректор с трудом стерпел подобный папизм. Под конец первого куплета он демонстративно отложил свой служебник, развернулся у себя на кафедре и обвел паству таким суровым взглядом, что отдельные певчие оробели и умолкли. Потом он говорил, что просторечное блеянье «Радыся, Мария! Радыся, Мария!» заставляло его чувствовать себя в дешевой пивнушке, вроде «Пса и бутылки».
– Какой вздор! – сказал Виктор злобно. – Твой отец вечно портит дело, когда я пытаюсь вдохнуть жизнь в службу. Ни ладан жечь не позволяет, ни достойную музыку, ни приличное облачение – ничего. А что в результате? Мы не можем заполнить прихожанами и четверть церкви, даже на Пасху. Оглядись воскресным утром в церкви – не увидишь никого, кроме мальчиков и девочек-скаутов и нескольких старушек.
– Знаю. Просто кошмар, – согласилась Дороти, пришивая пуговицу. – Кажется, что ни делай, все без толку – мы просто не можем заставить людей идти в церковь. Хотя бы приходят венчаться и на похороны. Но я не думаю, что паства поредела за прошедший год. На Пасхальной службе было почти двести человек.
– Двести! А надо бы две тысячи. Таково население этого городка. Беда в том, что три четверти горожан за всю жизнь и близко не подходят к церкви. Церковь потеряла над ними всякую власть. Они и знать о ней не знают. А почему? Вот о чем я. Почему?
– Полагаю, все дело в науке и свободомыслии и иже с ними, – сказала Дороти несколько наставительно, повторяя за отцом.
Это замечание нарушило ход мысли Виктора. Он был готов сказать, что паства Св. Этельстана редеет потому, что службы невыносимо скучны; но ненавистные слова «наука» и «свободомыслие» заставили его свернуть на другую и даже еще более проторенную дорожку.
– Конечно, дело в так называемом свободомыслии! – воскликнул он и снова принялся мерить шагами помещение. – Это все гады-атеисты, вроде Бертрана Рассела[37 - Бертран Артур Уильям Рассел (1872–1970) – английский философ, логик, математик и общественный деятель.] и Джулиана Хаксли[38 - Джулиан Сорелл Хаксли (1887–1975) – английский биолог, эволюционист и гуманист, политик; брат писателя Олдоса Хаксли.], и всей этой шайки. Но что губит церковь, так это наше молчание – вместо того чтобы дать им хороший ответ и показать, что они дураки и лжецы, мы сидим и молчим в тряпочку, пока они занимаются своей нечестивой атеистической пропагандой. Во всем, конечно, виноваты епископы (как всякий англокатолик, Виктор на дух не переносил епископов). Все они модернисты и карьеристы. Боже правый! – воскликнул он с воодушевлением. – Не читала мое письмо в «Чарч таймс»[39 - The Church Times (англ.) (букв.: «Церковные времена») – независимая англиканская еженедельная газета, основанная в 1863 г.] на прошлой неделе?
– Нет, боюсь, не читала, – сказала Дороти, прилаживая очередную пуговицу. – О чем там?
– В общем, о епископах-модернистах и всяком таком. Я задал хорошую взбучку старику Барнсу[40 - Эрнест Уильям Барнс (1874–1953) – английский математик, впоследствии теолог и епископ Бирмингема.].
Едва ли проходила неделя, чтобы Виктор не написал письмо в «Чарч таймс». Он был в гуще любой полемики и на авансцене всякой схватки с модернистами и атеистами. Дважды он вступал в перепалку с доктором Мэйджором[41 - Ральф Герман Мэйджор (1884–1970) – американский доктор медицины, пользовавшийся большим авторитетом по обе стороны Атлантики, автор научно-популярных и исторических книг.], писал язвительные письма декану Инджу[42 - Уильям Ральф Индж (1860–1954) – английский богослов и публицист, англиканский священник и декан собора Св. Павла; трижды выдвигался на Нобелевскую премию по литературе.] и епископу Бирмингема и даже не побоялся бросить вызов самому Расселу, но злодей Рассел не удостоил его ответом. Дороти, по правде говоря, очень редко читала «Чарч таймс», поскольку ректор выходил из себя, если видел дома эту газету. Сам он выписывал еженедельную «Хай-чарчмэнс-газет»[43 - High Churchman’s Gazette (англ.) (букв.: «Газета высокой церкви»).] – изысканный, крайне консервативный анахронизм для скромного круга избранных.
– Ох же гад этот Рассел! – сказал Виктор с досадой, глубоко засунув руки в карманы. – У меня прямо кровь от него закипает!