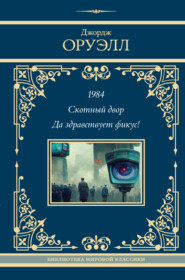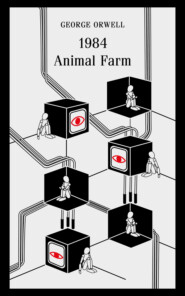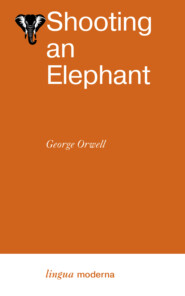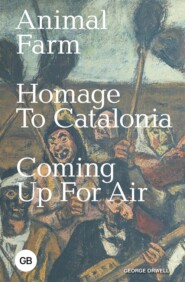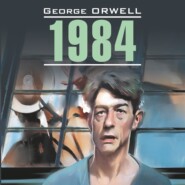По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
1984. Дни в Бирме
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Есть еще комната наверху, она бы тоже могла привлечь ваше внимание, – произнес торговец. – Там не так уж много всего. Несколько вещей. Если пойдем наверх, нам понадобится свет.
Он зажег вторую лампу и начал медленно, сутулясь, подниматься по крутой обшарпанной лестнице, потом прошел по коридору в комнату, окно которой выходило на мощеный двор и лес печных труб с колпаками. Уинстон отметил, что мебель расставлена словно в жилом помещении. На полу лежал коврик, на стенах висела пара картин, перед камином стояло глубокое замызганное кресло. На каминной полке тикали старинные стеклянные часы с двенадцатью цифрами. Под окном, занимая почти четверть комнаты, расположилась необъятная кровать с матрасом.
– Мы жили здесь с женой, пока она не умерла, – пояснил старик, как бы извиняясь. – Понемногу распродаю мебель. Вот превосходная кровать красного дерева, точнее, будет превосходной, если вывести жучков. Но, смею сказать, вам она покажется несколько громоздкой.
Он высоко поднял лампу, чтобы осветить всю комнату, и в теплом тусклом свете она показалась даже уютной. Уинстон подумал, что можно было бы легко снимать ее за несколько долларов в неделю, если бы хватило смелости. Идея была дикой, невозможной, и он тут же отбросил ее; но комната пробудила в нем что-то вроде ностальгии, какую-то память предков. Ему показалось, что он в точности знает, каково сидеть в такой комнате в кресле у камина, положив ноги на решетку и повесив чайник над огнем; в полном одиночестве, в полной безопасности, и никто не смотрит за тобой, ничей голос не беспокоит, никакой звук не тревожит, кроме кипения чайника и мерного тиканья часов.
– Тут нет телеэкрана! – вырвалось у него.
– А, – сказал старик, – у меня никогда не было. Слишком дорогие. Да и потребности как-то, знаете, не испытывал. А вот в углу хороший раскладной стол. Только к нему, конечно, новые петли нужны, если хотите использовать боковины.
В другом углу стоял небольшой книжный стеллаж, и Уинстон уже потянулся к нему. Но там был один мусор. В кварталах пролов книги выискивали и уничтожали с не меньшим упорством, чем везде. Очень маловероятно, чтобы где-нибудь в Океании сохранилась хоть одна книга, изданная до 1960 года. Старик все так же держал лампу и стоял у картины в палисандровой раме, висевшей по другую сторону камина, напротив кровати.
– Кстати, если вас интересуют старые гравюры… – деликатно начал он.
Уинстон подошел рассмотреть картину. Это была гравюра на стали, изображавшая продолговатое здание с прямоугольными окнами и небольшой башней впереди. Здание опоясывала ограда, а в глубине, вероятно, стояла статуя. Уинстон несколько секунд всматривался в картину. Вид казался смутно знакомым, хотя статуи он не помнил.
– Рама привинчена к стене, – сказал старик, – но для вас, смею сказать, могу отвинтить.
– Я знаю это здание, – вспомнил, наконец, Уинстон. – Теперь это руины. В середине улицы за Дворцом юстиции.
– Верно. За Домом правосудия. Разбомбили в… ох, много лет назад. Когда-то это была церковь Святого Климента Датского, так она называлась. – Старик виновато улыбнулся, словно признавая, что говорит чепуху, и добавил: – Апельсинчики как мед, в колокол Сент-Клемент бьет!
– Что это? – спросил Уинстон.
– А… Апельсинчики как мед, в колокол Сент-Клемент бьет. Стишки из моего детства. Как там дальше, не помню, но кончались так: «Вот зажгу я пару свеч – ты в постельку можешь лечь; вот возьму я острый меч – и головка твоя с плеч». Игра была такая, вроде танца. Все брались за руки и поднимали их вверх, а ты под ними пробегал, и когда доходило до слов: «Вот возьму я острый меч – и головка твоя с плеч», руки опускались и ловили тебя. В стишках перечисляли названия церквей. Все лондонские церкви – то есть все самые главные.
Уинстон рассеянно размышлял, к какому веку относится эта церковь. Определить возраст лондонского здания всегда было непросто. Все большие внушительные и сравнительно новые автоматически причислялись к периоду после Революции, тогда как все постарше относили к туманному периоду под названием Средние века. Из этого следовало, что века капитализма не породили ничего значительного. Изучать историю по архитектурным памятникам было так же безнадежно, как по книгам. Статуи, надписи, мемориальные камни, названия улиц – все, что могло пролить свет на прошлое, подвергалось систематическим переделкам.
– Никогда не знал, что это была церковь, – сказал он.
– Их вообще немало осталось, – отозвался старик, – только приспособили под другие нужды. Как же там этот стишок? А! Вспомнил!
Апельсинчики как мед,
В колокол Сент-Клемент бьет.
И звонит Сент-Мартин:
Отдавай мне фартинг!
Ну вот, дальше не помню. Фартинг – это такая медная монетка, наподобие цента.
– А где стоял Сент-Мартин? – поинтересовался Уинстон.
– Сент-Мартин? Да он и сейчас стоит. На площади Победы, рядом с картинной галереей. Такое здание с треугольным портиком, колоннами по фасаду и большой лестницей.
Уинстон хорошо знал это здание. Теперь там был музей, где демонстрировали пропаганду: масштабные модели бомб с ракетными ускорителями и Плавучих крепостей, восковые панорамы, изображавшие вражеские зверства, и тому подобное.
– Сент-Мартин «что в полях», так церковь называли, – добавил старик, – хотя не припомню в тех местах никаких полей.
Уинстон не купил картину. Она была еще более несуразным предметом, чем пресс-папье, к тому же унести ее домой можно было только без рамы. Но он задержался еще на несколько минут, разговорившись со стариком, которого звали, как оказалось, не Уикс (эта фамилия значилась на вывеске над входом), а Чаррингтон. Мистер Чаррингтон, похоже, был вдовцом шестидесяти трех лет и тридцать из них жил в этой лавке. Все эти годы он собирался сменить вывеску, но руки так и не дошли. Пока они вели беседу, в голове Уинстона без остановки крутились детские стишки:
Апельсинчики как мед,
В колокол Сент-Клемент бьет.
И звонит Сент-Мартин:
Отдавай мне фартинг!
Странное дело, но когда он повторял эти строки про себя, ему казалось, что он слышит колокольный звон – колокола исчезнувшего Лондона, который по-прежнему где-то существовал, переделанный и позабытый. Ему так и слышалось, как трезвонят одна за другой призрачные колокольни. Между тем, сколько он себя помнил, он ни разу не слышал церковных колоколов.
Он оставил мистера Чаррингтона и в одиночку спустился по лестнице, чтобы старик не увидел, как он оглядывает улицу, прежде чем выйти за дверь. Уинстон уже решил, что выждет разумный период – скажем, месяц – и рискнет снова наведаться в лавку. Пожалуй, это не опаснее, чем пропускать вечера в Центре досуга. Он больше рисковал, когда поддался порыву зайти сюда после покупки дневника, не зная, можно ли доверять хозяину. Однако же!..
Да, опять подумал Уинстон, он сюда вернется. И продолжит скупать этот прекрасный хлам. Он купит гравюру с церковью Святого Климента Датского, вынет ее из рамы и принесет домой, спрятав под комбинезоном. И вытянет из памяти мистера Чаррингтона все стихотворение целиком. Снова мелькнула безумная мысль снять комнату наверху. Замечтавшись, он забылся на каких-нибудь пять секунд и вышел на улицу, не позаботившись оглядеть ее из окна. Он даже начал напевать на какой-то мотив:
Апельсинчики как мед,
В колокол Сент-Клемент бьет.
И звонит Сент-Мартин:
Отдавай…
Вдруг сердце у него похолодело, а живот скрутило. Навстречу по тротуару, метрах в десяти, шагала фигура в синем комбинезоне. Это была девушка из Художественного отдела, та самая, с темными волосами. Несмотря на слабый свет, он без труда узнал ее. Она взглянула ему прямо в лицо и прошла мимо, словно не заметив.
Несколько секунд Уинстон не мог сдвинуться с места, словно парализованный. Затем повернул направо и тяжело зашагал, не сразу осознав, что идет не в ту сторону. Так или иначе одним вопросом стало меньше. Она за ним шпионит, сомнений больше не было. Она, очевидно, шла за ним следом, ведь не могло же быть, чтобы по чистой случайности она оказалась поздним вечером на этой неприметной улочке за километры от партийных кварталов. Слишком невероятное совпадение. Едва ли имело значение, служила ли она агентом Мыслеполиции или действовала по личной инициативе, из чувства долга. Важно, что она его вынюхивала. Вероятно, она заметила и его поход в паб.
Ноги двигались с трудом. При каждом шаге стекляшка в кармане била по бедру, и его подмывало взять ее и выбросить. Но хуже всего мучил живот. Пару минут ему казалось, что он сейчас умрет, если не найдет туалет. Но в таком квартале не было общественных туалетов. Потом спазм прошел, оставив тянущую боль.
Улица привела его в тупик. Уинстон замер и в растерянности простоял несколько секунд, затем развернулся и пошел обратным путем. Он подумал, что девушка была в трех минутах ходьбы от него и что ее можно нагнать. Можно идти за ней следом, пока они не окажутся в тихом месте, и там размозжить ей голову булыжником. Тяжелая стекляшка в кармане тоже сгодится. Но он тут же отбросил эту идею – сама мысль о каком-либо физическом усилии была ему невыносима. Он не сможет бежать, не сможет нанести удар. К тому же она была молодой и крепкой и могла постоять за себя. Он также подумал поспешить в Центр досуга и оставаться там до закрытия, чтобы получить хоть какое-то алиби на вечер. Но это было совершенно нереально. Им овладела смертельная вялость. Единственным желанием было поскорее оказаться дома и сидеть без движения.
Он вернулся в квартиру после двадцати двух часов. Свет выключали в 23.30. Уинстон пошел на кухню и залил в себя почти полную кружку джина «Победа». Затем подошел к столу в нише, уселся и достал из ящика дневник. Но открыл не сразу. Телеэкран распевал патриотическую песню режущим слух женским голосом. Уинстон сидел, уставившись на мраморные разводы на обложке тетради, и тщетно пытался вытеснить из сознания поющий голос.
За ним придут ночью – они всегда приходят ночью. Лучше заранее покончить с собой. Кто-то, несомненно, так и поступает. Многие исчезновения на деле были самоубийствами. Но в мире, где невозможно достать ни оружия, ни сильного быстрого яда, это требует отчаянной отваги. Он ошарашенно подумал о биологической бесполезности боли и страха, о вероломстве человеческого тела, всегда впадающего в ступор именно в тот миг, когда требуется особая решимость. Он мог бы разделаться с темноволосой, если бы действовал достаточно быстро, но как раз небывалая опасность и лишила его сил. Уинстон вдруг понял и поразился, что в критические минуты человек сражается не с внешним врагом, а только с собственным телом. Даже сейчас, несмотря на выпитый джин, тянущая боль в животе мешала ему связно думать. И так же происходит, осознал он, во всех вроде бы героических или трагических ситуациях. На поле боя, в камере пыток, на тонущем корабле – ты не помнишь причин, по которым сражаешься, потому что твое тело разрастается, пока не заполнит вселенную. Даже если ты не скован страхом и не кричишь от боли, жизнь – это ежесекундная борьба с голодом, холодом или бессонницей, с изжогой или зубной болью.
Он открыл дневник. Важно было что-то написать. Женщина на экране завела новую песню. Ее голос вонзался ему в мозг, словно острые стеклянные осколки. Уинстон пытался представить О’Брайена, которому он писал дневник, но вместо этого в голову лезли мысли о том, что произойдет, когда его схватит Мыслеполиция. Не страшно, если убьют на месте. Все равно ведь убьют. Но перед смертью (никто об этом не говорил, хотя все знали) будут непременно вытягивать признания: а это означает валяние в ногах и мольбы о пощаде, переломанные кости, выбитые зубы и выдранные с кровью волосы.
Зачем тебе это терпеть, если конец всегда один? Почему нельзя оборвать свою жизнь пораньше на несколько дней или недель? Рано или поздно всех разоблачают, и все в итоге сознаются. Если ты не удержался от мыслефелонии, можешь быть уверен, что тебя ждет смерть. К чему добавлять в собственное будущее весь этот ужас, если он ничего не изменит?
Он снова попытался – на этот раз с бо?льшим успехом – вызвать в памяти образ О’Брайена. «Мы встретимся там, где нет темноты», – сказал ему О’Брайен. Он понимал, что это значит, или думал, что понимает. Место, где нет темноты, это воображаемое будущее – туда невозможно попасть, но можно его предчувствовать, причащаясь таинственным образом. Голос телеэкрана бил по ушам, не давая развить эту мысль. Он сунул в рот сигарету. Половина табака тут же просыпалась на язык горькой пылью, которую не так-то легко сплюнуть. Лицо О’Брайена в его сознании вытеснил образ Большого Брата. Уинстон, как и несколько дней назад, достал из кармана монету и посмотрел на нее. Знакомый лик воззрился на него тяжелым, спокойным, отеческим взглядом; но какая улыбка скрывалась в темных усах? И свинцовым похоронным звоном всплыли в памяти слова:
ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА
Часть вторая
I
День близился к полудню, Уилсон вышел из своей кабинки и направился в туалет.
Навстречу ему с другого конца длинного, ярко освещенного коридора двигалась одинокая фигура. Та самая девушка. Прошло четыре дня с того вечера, когда они наткнулись друг на друга у лавки старьевщика. При ее приближении Уинстон заметил, что правая рука у нее на перевязи, такой же синей, как комбинезон, и оттого незаметной на расстоянии. Вероятно, она повредила руку, раскручивая один из больших машинных барабанов, с помощью которых «набрасывали» сюжеты романов. Обычная травма для Художественного отдела.