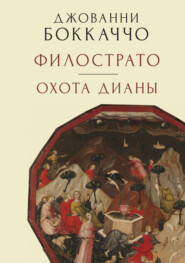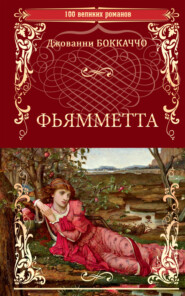По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Декамерон. Пир во время чумы
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Принц познал величие духа своей дочери, но тем не менее не был вполне уверен, что она так твердо решилась привесть в исполнение содержание своих речей, как то говорила. Потому, уйдя от нее и оставив мысль проявить на ней каким бы то ни было способом свою жестокость, он захотел во вред другому охладить ее пылкую любовь и приказал двум сторожам Гвискардо без всякой огласки задушить его на следующую ночь и, вынув из него сердце, принести ему; все это, как было им приказано, они и сделали. Затем, на другой день, велев принести себе большую и красивую золотую чашу и положив в нее сердце Гвискардо, послал его со своим приближеннейшим слугою дочери, наказав ему сказать ей, отдавая: «Отец твой посылает тебе это, дабы утешить тебя тем, что ты наиболее любишь, как ты утешала его тем, что он всего более любил».
Гисмонда, не оставившая своего жестокого намерения, велела принести себе ядовитых трав и корней, и когда ушел отец, сварив их, сделала настой, дабы иметь его в готовности, если бы случилось то, чего она опасалась. Когда пришел к ней слуга с подарком и словами принца, она с твердым лицом взяла чашу и, открыв ее, увидев сердце и поняв слова, получила полную уверенность, что это – сердце Гвискардо. Потому, подняв глаза на слугу, она сказала: «Не подобало гробницы менее достойной, чем золотая, для такого сердца, как это; разумно в этом случае поступил мой отец». Так сказав, поднеся сердце к устам, она поцеловала его и затем продолжала: «Во всем и всегда, до этого последнего дня моей жизни, я видела полнейшую любовь ко мне моего отца, но теперь более чем когда-либо; потому воздай ему от меня за столь великий дар последнюю благодарность, какую мне придется воздать».
Так сказав, обратившись к чаше, которую крепко держала, и глядя на сердце, она проговорила: «О сладчайшая обитель всех моих радостей, да будет проклята жестокость того, кто заставил меня теперь взглянуть на тебя плотскими очами. Мне было совершенно достаточно во всякий час созерцать тебя очами духовными. Ты окончил свое странствие и совершил все, что уделила тебе судьба: ты достиг цели, к которой спешит всякий, покинул бедствия мира и его заботы и от своего собственного врага получил гробницу, какую заслуживала твоя доблесть. Ничего тебе недоставало, чтоб завершить погребение, кроме слез той, которую ты при жизни так любил; дабы и они у тебя были, Господь вложил в сердце моего безжалостного отца мысль послать мне тебя, и я отдам тебе мои слезы, хотя решилась умереть без слез на глазах, и с лицом, ничем не устрашенным; отдав тебе их, я без всякого промедления устрою так, что при твоей помощи моя душа соединится с тою, которую ты так заботливо хранило. В каком сообществе могла бы я пойти более довольная и спокойная в неведомые обители, как именно в ее сообществе? Я убеждена, она еще здесь и глядит на места своего и моего блаженства и, любя меня, в чем я уверена, ждет мою, которая ее выше всего любит».
Так сказав, точно у нее в голове был источник влаги, без всякого женского вопля склонившись над чашей, она принялась, плача, изливать слезы так обильно, что дивно было смотреть, причем бесконечное число раз целовала мертвое сердце. Ее девушки, стоявшие вокруг, не понимали, что то было за сердце и что означали ее слова, но, увлеченные жалостью, все плакали, напрасно спрашивая ее о причине ее плача и более того стараясь, как лучше умели и могли, ее утешить. Она же, когда, казалось, довольно наплакалась, подняв голову и осушив глаза, сказала: «О многолюбимое сердце, вся моя обязанность относительно тебя совершена, и мне ничего другого не остается сделать, как явиться с моей душою, чтобы быть ей в сообществе с твоею». Сказав это, она велела подать себе кувшин, где была вода, приготовленная ею за день назад, вылила ее в чашу на сердце, орошенное многими ее слезами, и, бесстрашно поднеся ее ко рту, всю ее выпила; выпив, с чашей в руке возлегла на свою постель, устроилась на ней насколько возможно приличнее, приложила к своему сердцу сердце мертвого любовника и, не говоря ни слова, стала ждать смерти. Ее девушки, увидев все это и услышав, хотя и не знали, что то за вода, которую она выпила, послали сказать обо всем Танкреду; он, опасаясь того, что и случилось, тотчас же спустился в комнату дочери, куда пришел как раз, когда она легла на кровать, но, явившись слишком поздно утешить ее нежными словами, видя, в каком она положении, начал жалостно плакать. На это она сказала ему: «Танкред, прибереги эти слезы для менее желанного горя, чем это, и не проливай их надо мною, которая их не желает. Кто видел когда-либо человека, разве только тебя, плачущего о том, чего он сам желал? Но если в тебе хотя отчасти жива любовь, которую ты питал ко мне, дозволь мне, в виде последнего дара, чтобы, если тебе не по сердцу было мое тихое и скрытое сожительство с Гвискардо, мое тело легло открыто с его телом, куда бы ты ни велел бросить его мертвого». Удушье от слез не позволило принцу ответить. Тогда молодая женщина, чувствуя, что ее конец настал, прижав к груди мертвое сердце, сказала: «Оставайтесь с Богом, ибо я кончаюсь». Ее глаза помутились, онемели чувства, и она удалилась из этой горестной жизни.
Таков, как вы слышали, был печальный конец любви Гвискардо и Гисмонды, которых Танкред, много оплакав и поздно раскаявшись в своей жестокости, при общем сетовании всех жителей Салерно, велел почетно похоронить в одной гробнице.
Новелла вторая
Монах Альберт уверяет одну женщину, что в нее влюблен ангел, и в его образе несколько раз соединяется с нею; затем, убоявшись ее родственников, бросается из окна ее дома и находит убежище в доме одного бедняка, который на следующий день ведет его, переодетого дикарем, на площадь, где его признали, а братия хватает и заключает его в темницу.
Новелла, рассказанная Фьямметтой, не раз извлекала слезы из глаз ее подруг; когда она кончилась, король сказал с суровым видом: «Малоценной показалась бы мне моя жизнь, если б я мог отдать ее за половину того наслаждения, которое было у Гисмонды с Гвискардо, и тому не следует никому из вас удивляться, ибо я, живя, ежечасно испытываю тысячу смертей, а мне не дано за все это ни частички наслаждения. Но оставляя пока мои дела, как они есть, я желаю, чтобы Пампинея продолжала, сказывая жалостные рассказы, отчасти сходные с моими обстоятельствами; если она пойдет путем, открытым Фьямметтой, я без всякого сомнения ощущу падение росы на мое пламя». Услышав обращенный к ней приказ, Пампинея поняла более по чувству желание своих подруг, чем желание короля из его слов, и потому, будучи более расположена развлечь их, чем удовлетворить короля, разве исполнением его приказания, решилась, не выходя из сюжета, сказать смехотворную новеллу и начала:
– Среди простых людей в ходу есть поговорка: коли худой человек слывет хорошим, хоть и сделает дурно, тому не поверят. Это дает мне обильное содержание, чтобы побеседовать о предложенной мне задаче, а кстати и доказать, каково и сколь велико ханжество монахов, которые в пространных одеждах, с искусственно бледными лицами, с голосами смиренными и заискивающими при попрошайничестве, громкими и страшными при порицании в других своих собственных пороков, доказывают, что они спасаются побираньем, а остальные отдаваньем, заявляют себя не людьми, имеющими, подобно нам, заслужить рай, а точно его собственниками и владельцами, раздающими всякому умирающему, согласно с завещанным им количеством денег, более или менее хорошее место, чем усиливаются обмануть, во-первых, самих себя, если они в это верят, а затем и тех, кто в этом верит им на слово. Если бы мне дозволено было сказать о них все, что следует, я тотчас доказала бы многим простецам, что они таят в своих обширных капюшонах. Дал бы Бог, за их лганье, чтобы со всеми случилось то же, что с одним миноритом, уже не молодым, но считавшимся в Венеции одним из наибольших казуистов. О нем мне особенно хочется рассказать, дабы, быть может, смехом и потехой поднять ваш дух, исполненный жалости к смерти Гисмонды.
Итак, достойные дамы, жил в Имоле человек преступного и порочного поведения, по имени Берто делла Масса, постыдные дела которого, хорошо знакомые жителям Имолы, довели его до того, что там не верили не только его лжи, но даже когда он говорил и правду; поэтому, увидя, что ему с его проделками здесь не место, он, отчаявшись, переехал в Венецию, вместилище всякой мерзости, рассчитывая найти здесь иной способ для своих злостных деяний, чем находил в других местах. Точно совесть укорила его за все порочное, совершенное им в прошлом, представившись, что его обуяло великое смирение и он стал набожным паче всякого другого, он пошел в монастырь и назвался братом Альбертом из Имолы; в таком облачении он начал представляться, что ведет суровую жизнь, усердно внушал покаяние и воздержание и никогда не ел мяса и не пил вина, – когда они не были ему по вкусу. Не успел никто и оглянуться, как из разбойника, сводника, обманщика и убийцы он сделался великим проповедником, не покидая вследствие этого указанных пороков, когда их можно было совершать втайне. Кроме того, став священником, он у алтаря, когда служил и многие то видели, постоянно проливал слезы о страстях Господних, ибо слезы почти ничего ему не стоили, лишь бы захотел. В скором времени, частью своими проповедями, частью слезами, он сумел так подманить венецианцев, что стал верным исполнителем и хранителем почти всех духовных завещаний, какие там совершались, сберегателем денег у многих, духовным отцом и советодателем почти большей части мужчин и женщин; так поступая, он из волка стал пастырем, и молва о его святости в тех местах была гораздо больше, чем когда-либо слава св. Франциска в Ассизи.
Случилось, что одна молодая женщина, придурковатая и глупая, по прозванию мадонна Лизетта из дома Квирино, жена одного знатного купца, уехавшего на галерах во Фландрию, пошла с другими женщинами исповедоваться у этого святого монаха. Когда она стояла перед ним на коленях и, как венецианка (они все ветреные), рассказала ему кое-что о своих делах, брат Альберт спросил ее, нет ли у нее любовника. На это она ответила с сердитым лицом: «Что это, отец монах, у вас точно нет глаз? Разве моя красота представляется вам такою же, как красота вон тех? У меня любовников было бы с лихвою, если б я того захотела, но не таковы мои прелести, чтобы я дозволила любить меня таковским. Многих ли видите вы, чья красота была бы равна моей? И в раю я была бы красавицей». Кроме того, она столько еще наговорила об этой своей красоте, что было противно слушать. Брат Альберт тотчас же догадался, что она с придурью, и так как ему представилось, что это почва для его орудования, он внезапно и безмерно в нее влюбился, но, оставляя увещанье до более удобного времени, он, дабы показаться святым человеком, принялся на этот раз упрекать ее, говоря, что это тщеславие, и далее в том же роде, почему женщина сказала ему, что он дурак и не понимает, что одна красота стоит более другой. Вследствие этого брат Альберт, не желая слишком ее разгневать, исповедав ее, отпустил с другими.
Обождав несколько дней, взяв с собою верного товарища, он отправился в дом мадонны Лизетты и, отойдя с нею к сторонке в одну комнату, где никто не мог его видеть, бросился перед нею на колени и сказал: «Мадонна, умоляю вас Богом, простите мне, что я сказал вам в воскресенье, когда вы говорили мне о своей красоте, ибо я так жестоко был избит в следующую ночь, что потом не мог встать с постели до сегодня». – «А кто побил вас таким образом?» – спросила дурочка. Сказал брат Альберт: «Я объясню вам это. Когда я ночью стоял на молитве, как то делаю обыкновенно, я внезапно увидел в моей келье великий свет, и не успел я обернуться, дабы посмотреть, что это такое, как узрел над собою прекраснейшего юношу с толстой палкой в руке, который, схватив меня за капюшон и повергнув к своим ногам, столько мне всыпал, что совсем изломал меня. Когда я спросил его потом, зачем он это сделал, он отвечал: «За то, что ты осмелился сегодня порицать небесные прелести мадонны Лизетты, которую я люблю более всего». Тогда я спросил: «Кто же вы?» На это он ответил, что он ангел. «О господин мой, – говорю я, – простите меня, умоляю вас». Тогда он сказал: «Я прощаю тебе с тем условием, чтобы ты отправился к ней, как можешь скорее, и испросил себе прощение; если она не простит тебе, я сюда вернусь и так тебя угощу, что ты будешь охать, пока жив». То, что он сказал потом, я не осмеливаюсь передать вам, если наперед вы меня не простите».
Мадонна, пустая голова, в которой соли было немного, млела, слушая эти речи, которые считала за чистую истину, а по некотором времени сказала: «Говорила я вам, брат Альберт, что мои прелести небесные; но, видит Бог, мне жаль вас, и дабы вам не учинили более ничего худого, я теперь же прощаю, с тем, однако же, чтобы вы сообщили, что такое сказал вам ангел». Брат Альберт ответил: «Мадонна, так как вы мне простили, я охотно скажу вам об этом, но об одном напомню вам: что бы я ни открыл вам, берегитесь говорить о том кому бы то ни было на свете, если вы, счастливейшая, какая обретается ныне на свете, женщина, не хотите испортить вашего дела. Этот ангел поручил мне сказать вам, что вы так ему нравитесь, что он много раз явился бы побыть с вами ночью, если б не опасался испугать вас. Ныне он велит передать вам через меня, что желает прийти к вам как-нибудь ночью и пробыть с вами некоторое время; а так как он ангел, и если б явился во образе ангела, вы не могли бы дотронуться до него, он и говорит, что, в удовольствие вам, он хочет предстать в человеческом образе и потому велит послать ему сказать, когда вы желаете, чтобы он явился, и в каком образе, он и явится; почему вы можете считать себя блаженной, более чем какая иная из живущих женщин». Мадонна-разиня сказала тогда, что ей очень приятно быть любимой ангелом, ибо и она очень его любит и никогда не обходится без того, чтобы не зажечь свечу в четыре сольдо, где лишь увидит его намалеванным; в какой бы час он ни пожелал прийти, он будет доброжеланным, ибо найдет ее совсем одну в ее комнате; но с одним условием, что он не должен покидать ее ради Девы Марии, что ей сказали о его любви и что повсюду, где она только его видит, она становится перед ним на колени; от него зависит, в каком образе он желает показаться, лишь бы она не ощутила страха. Тогда брат Альберт сказал: «Мадонна, вы говорите разумно, и я хорошо улажу с ним все, о чем вы мне говорите, но вы можете оказать мне великую милость, которая ничего не будет вам стоить, а милость эта – та, чтобы вы пожелали, чтобы он явился в моем теле. И послушайте, чем вы мне окажете милость: он вынет душу мою из тела и поместит ее в рай, а сам войдет в меня, и пока он будет с вами, до той поры душа моя будет в раю». Говорит тогда мадонна-ума не напрядешь: «Хорошо, я согласна, я желаю, чтобы в возмещение ударов, которые он дал вам из-за меня, вы удостоились этого утешения». Тогда брат Альберт сказал: «Итак, устройте, чтобы в эту ночь дверь вашего дома была открытой, дабы он мог войти, ибо, являясь в человеческом теле, как он и явится, он может войти только через дверь». Женщина ответила, что это будет исполнено. Брат Альберт удалился, а она пришла в такое восторженное состояние, что сорочка отставала у ней от спины, и за тысячу лет показалось ей время, пока не посетит ее ангел.
А брат Альберт, сообразив, что ночью ему надо быть наездником, не ангелом, начал подкреплять себя сластями и всякими хорошими вещами, чтобы его не так-то легко сбросили с коня. Получив отпуск из монастыря, как настала ночь, он с товарищем пошел в дом одной своей приятельницы, откуда и в другие разы отправлялся, когда ходил гоняться за кобылами; отсюда, когда ему показалось, что настало время, он, переодевшись, отправился в дом той женщины; войдя в него, преобразил себя, с помощью разных принесенных им безделушек, в ангела и, взобравшись наверх, вступил в комнату дамы.
Та, как увидела что-то белое, пала перед ним на колени, а ангел благословил ее, поднял и сделал ей знак лечь в постель, что она, охотно повинуясь, тотчас же и исполнила, а ангел прилег к своей поклоннице. Был брат Альберт красивый телом и крепкий, ноги отлично прилажены к туловищу; потому, когда он сошелся с мадонной Лизеттой, свежей и нежной, он показал ей другие виды, чем муж, и в течение ночи часто летал без крыльев, чем она признала себя очень довольной; да кроме того, он многое порассказал ей о небесной славе. Затем, с приближением дня, условившись относительно возвращения, он вышел со своими снарядами и вернулся к своему товарищу, которому, дабы не боязно было спать ночью одному, добрая служанка дома доставила любезное общество. А дама после обеда пошла со своими подругами к брату Альберту и сказала ему об ангеле и о том, что слышала от него о славе вечной жизни, и каков он с виду, присоединяя к тому невероятные басни. На это брат Альберт сказал: «Мадонна, не знаю, как вам было с ним; знаю только, что сегодня ночью, когда он явился мне и я сообщил ему о вашем поручении, он внезапно поместил мою душу среди стольких цветов и стольких роз, что такого количества здесь никогда и не видели, и я обретался в одном из восхитительнейших мест, какие когда-либо были, до нынешнего утра об утрени; что было тем временем с моим телом, не ведаю». – «А я-то вам этого и не говорю! – сказала дама. – Ваше тело всю ночь было в моих объятиях, с ангелом, а если вы мне не верите, посмотрите у себя под левой грудью, куда я задала ангелу такой большущий поцелуй, что знак останется на несколько дней». Сказал тогда брат Альберт: «Так сделаю же я сегодня, чего давным-давно не делал: разденусь и погляжу, правду ли вы говорите».
После долгой болтовни дама вернулась домой, а брат Альберт в образе ангела ходил к ней много раз, не встречая никакого препятствия. Случилось однажды, что, когда мадонна Лизетта была с одной своей кумой и обе спорили о красоте, она, желая поставить свою красоту выше всех других, будучи пустоголовой, сказала: «Если бы вы знали, кому нравится моя красота, вы бы умолчали о других!» Кума, любопытствуя о том услышать, ибо хорошо ее знала, сказала: «Мадонна, вы, может быть, и правду говорите, но во всяком случае, не узнав, кто это такой, свое мнение не так-то легко изменить». Тогда дама, будучи невысокого полета, ответила: «Об этом не следует говорить, кума, но моя страсть – ангел, любящий меня более самого себя, как самую красивую, по его словам, женщину, какая есть на свете или в приморье». У кумы явилось тогда желание расхохотаться, но она, однако, удержалась, чтобы дать ей поговорить далее, и сказала: «Бог мне судья, мадонна, коли ангел ваша страсть и говорит вам это, то так, вероятно, и должно быть; но я не воображала, что ангелы занимаются такими делами». – «Кума, – возразила женщина, – вы ошибаетесь: клянусь небом, он делает это лучше, чем мой муж, и говорит мне, что то же делают и там, наверху, но потому что я кажусь ему более красивой, чем кто-либо на небе, он влюбился в меня и часто приходит побыть со мной. Теперь видите ли, в чем дело?»
Когда кума ушла от Лизетты, время показалось ей за тысячу лет, пока она добралась до места, где могла все это пересказать: сойдясь на одном празднике с большим обществом женщин, она по порядку передала им эту быль. Те женщины сообщили это мужьям и другим женщинам, а эти другим, так что менее чем в два дня вся Венеция была полна этим слухом. Но в числе прочих, до сведения которых дошло это дело, были и зятья той женщины, которые, ничего ей не говоря, задумали отыскать этого ангела и разузнать, умеет ли он летать; несколько ночей они были настороже.
Случайно кое-какие вести о том дошли до сведения брата Альберта, который отправился раз ночью, чтобы укорить свою даму, и только что разделся, как ее зятья, видевшие, как он шел, уже были у двери ее комнаты. Как услышал это брат Альберт, понял, что это значит, встал и, не находя другого убежища, растворив окно, выходившее на главный канал, бросился оттуда в воду. Глубина была большая, а он умел плавать, так что никакого вреда себе не сделал; переплыв на другую сторону канала, он быстро вошел в один незапертый дом и попросил бывшего там человека, ради Бога, спасти ему жизнь, причем рассказал ему небылицы, каким образом он здесь в такой час, да еще и голый. Добрый человек, движимый жалостью, уложил его в свою постель, так как ему самому надо было пойти по своим надобностям, и сказал ему, чтобы он побыл здесь до его возвращения; заперев его, он отправился по своим делам. Зятья дамы, войдя в комнату, нашли, что ангел, оставив крылья, улетел; рассердившись, что их провели, они наговорили даме больших грубостей и под конец, оставив ее неутешною, вернулись к себе домой со снарядами ангела.
Между тем уже рассвело, и тот добрый человек, находясь на Риальто[70 - Риальто – мост в Венеции, где находились лавки купцов.], услышал, как сказывали, что ангел ходил на ночлег к мадонне Лизетте, найден был там ее зятьями, со страху бросился в канал и неизвестно, что с ним сталось; потому он скоро догадался, что это и есть тот, что у него на дому. Вернувшись и узнав его, он после многих переговоров поставил ему такое условие, что если он не желает, чтобы он выдал его зятьям, пусть доставит ему пятьдесят дукатов, что и было сделано. Но когда после того брат Альберт захотел выйти оттуда, тот сказал ему: «На это нет никакого средства, коли вы не решитесь на одно. Сегодня мы справляем праздник: кто ведет человека, одетого наподобие медведя, кто наподобие дикаря, кто так, кто иначе, а на площади св. Марка устраивается охота, по окончании которой кончается и праздник, а затем всякий уходит с тем, кого привел, куда угодно. Если вы хотите, прежде чем разведают, что вы здесь, чтобы я повел вас туда одним из этих способов, я могу повести вас, куда хотите; иначе я не вижу для вас возможности удалиться отсюда неузнанным; ведь зятья дамы, предполагая, что вы где-нибудь здесь, всюду расставили сторожей, чтобы схватить вас».
Хотя и тяжело показалось брату Альберту пойти таким образом, тем не менее из страха перед родственниками дамы он решился, сказав тому человеку, чтобы он повел его, куда желает, и что, в каком бы виде его ни повели, он согласен. Тот, обмазав всего его медом и обсыпав сверху пухом, наложил на него цепь и надел на лицо маску, дал в одну руку большую палку, в другую на своре двух громадных псов, приведенных им с бойни, и послал человека оповестить на Риальто, что кто хочет видеть ангела, пусть идет на площадь св. Марка: это была «верность венецианца». Сделав это, он немного спустя вывел его, поставил впереди себя, а сам пошел сзади, держа его за цепь, и при крике многих, говоривших: «Что это такое? Что это такое?» (che xe quel? che xe quel?), повел его на площадь, где частью из тех, кто увязался за ними, частью из тех, которые, услышав оповещение, пришли с Риальто, народу собралось бесчисленное множество. Когда он туда добрался, в ожидании начала охоты, привязал своего дикаря к столбу на видном, высоком месте, где мухи и слепни сильно досаждали ему, так как он был обмазан медом. Когда тот человек увидел, что площадь порядком наполнилась, показав вид, что хочет спустить своего дикаря с цепи, сорвал с брата Альберта маску, говоря: «Господа, так как кабан не явился для охоты, а без него охоты нет, я желаю, чтобы вы не прошлись даром, а увидали бы ангела, спускающегося ночью с неба на землю развлекать венецианских женщин».
Лишь только спала маска, все тотчас же узнали брата Альберта, против которого подняли крик, осыпая его самыми обидными словами и величайшей бранью, которая когда-либо доставалась мошеннику, да кроме того бросая ему в лицо кто одну мерзость, кто другую. Так они продержали его долго, пока, на счастье, весть о том не дошла до его братии, из которой явились туда человек шесть; они, набросив на него рясу и отвязав его, не без великого гама им вслед повели его в свою обитель, где, говорят, он и умер в заключении после горестной жизни.
Так-то этот человек, которого считали добродетельным, не веря, когда он творил злое, осмелился выдать себя за ангела и, обратившись из него в дикаря, с течением времени был по заслугам опозорен и втуне оплакал совершенные им грехи. Да устроит Бог, чтобы то же соделалось и с другими, ему подобными.
Новелла третья
Трое молодых людей любят трех сестер, с которыми и бегут в Крит; старшая из ревности убивает своего любовника; вторая, отдавшись герцогу Крита, спасает первую от смерти, но убита своим любовником, который и бежит с первой. В этом убийстве обвинен третий любовник с третьей сестрой; будучи схвачены, они берут на себя вину, но от страха смерти, подкупив деньгами стражу, бегут, обедневшие, в Родос, где умирают в нищете.
Выслушав заключение новеллы Пампинеи, Филострато несколько задумался, но потом сказал, обратившись к ней: «Есть кое-что хорошее в конце вашего рассказа, и он мне понравился, но перед тем уж слишком много было смеха, чего я не желал бы, чтобы там было». Затем, обратившись к Лауретте, он сказал: «Мадонна, продолжайте, по возможности, более подходящей новеллой, чем эта». Сказала, смеясь, Лауретта: «Вы уже очень жестоки к любящим, если только и желаете их злополучного конца; я же, исполняя ваше приказание, расскажу вам о троих, одинаково дурно кончивших, мало насладившись своею любовью». Так сказав, она начала:
– Юные дамы, как вам хорошо известно, всякий порок может обратиться в величайший вред для отдающегося ему, а часто и других; в числе прочих, наиболее необузданно увлекающих нас в опасности, представляется мне гнев, а это не что иное, как внезапное и неразумное движение, которое, будучи вызвано ощущением горя, отогнав разум и наведя мрак на наши умственные очи, возжигает в нашей душе пламя ярости. Хотя чаще это бывает с мужчинами, у одних более, у других слабее, тем не менее то же видели, и с еще более вредными последствиями, и на женщинах, ибо в них оно легче возгорается, горит более ярким пламенем и движет ими с меньшим удержем. И этому нечего удивляться, коли подумаем, что огонь по своей природе скорее охватывает легкие и рыхлые вещества, чем твердые и плотные; а ведь мы (да не поставят нам это мужчины в укор) нежнее их и подвижнее. Потому, видя, что мы к этому естественно расположены, и принимая в соображение, что как наша мягкость и благодушие являются успокоением и удовольствием мужчинам, с которыми нам приходится общаться, так гнев и ярость – большим досаждением и опасностью, я намерена, дабы нам с тем большею твердостью духа уберечься от этого, показать вам в моей новелле, каким образом любовь трех юношей и стольких же девушек стала, вследствие гнева одной из них, из счастливой – несчастнейшею.
Марсель, как вам известно, находится в Провансе у моря, древний и именитейший город, когда-то более изобиловавший богатыми людьми и знатными купцами, чем то видать теперь. Между ними был некто, по имени Нарнальдо Клуада, человек низкого происхождения, но добросовестный и честный купец, безмерно богатый поместьями и деньгами; у него было от жены несколько детей, из них три дочери, старше возрастом сыновей. Двум из них, близнецам, было по пятнадцати лет, третьей четырнадцать, и их родственники ничего иного не ждали, чтобы выдать их замуж, как возвращения Нарнальдо, отправившегося со своим товаром в Испанию. Двух первых звали: одну Нинеттой, вторую Маддаленой, а имя третьей было Бертелла. В Нинетту был влюблен, как только можно быть влюбленным, молодой, родовитый, хотя и бедный человек, по имени Рестаньоне, а она в него; и они так сумели устроить, что без ведома кого бы то ни было на свете наслаждались своею любовью, и уже пользовались ею довольно долго, как случилось, что два молодых приятеля, из которых одного звали Фолько, другого Угетто, оставшись богачами по смерти своих отцов, влюбились один в Маддалену, другой в Бертеллу. Когда Рестаньоне, которому указала на то Нинетта, это заметил, он задумал воспользоваться их любовью, чтобы помочь своей бедности. Сойдясь с ними, он стал провожать то одного, то другого, а иногда и обоих на свидание к их возлюбленным, а также и к своей; и когда ему показалось, что он достаточно сблизился и подружился с ними, он сказал им: «Дорогие юноши, наше общение могло убедить вас, какую любовь я к вам питаю и что для вас я сделал бы все, что сделал бы для самого себя; а так как я очень люблю вас, то намерен объявить вам, что мне запало на ум, а затем вы вместе со мною решите, что покажется за лучшее. Если ваши слова не обманывают, и еще судя по тому, что, кажется мне, я уразумел из ваших поступков, денно и нощно вы пылаете величайшей страстью к двум любимым вами девушкам, а я к третьей их сестре; и я берусь, если вы только на это согласитесь, найти для этой любви приятное и желанное средство, и вот какое. Вы – юноши богатейшие, я – нет; если бы вы захотели соединить в одно наши богатства, сделав меня вместе с вами третьим их владельцем, и решили бы, в какую часть света нам отправиться, чтобы проводить с их помощью веселую жизнь, я берусь наверно уладить так, что три сестры с большею частью отцовского имущества поедут с нами, куда мы пожелаем, а там мы станем жить каждый со своею, как три брата, счастливейшими людьми на свете. Теперь за вами – решить: желаете ли вы такого утешения, или оставите это дело».
Оба юноши, безмерно пылавшие, услышав, что девушки будут им принадлежать, не трудились долго над решением, а сказали, что, если последствие будет именно такое, они готовы все сделать. Получив такой ответ от молодых людей, Рестаньоне через несколько дней был у Нинетты, к которой мог ходить не без больших затруднений; побыв с нею некоторое время, он объяснил ей, о чем говорил с юношами, и многими доводами старался склонить ее к этому предприятию. Это было ему не трудно, ибо она гораздо более его желала получить возможность быть с ним, не возбуждая подозрения, потому она решительно ответила ему, что это ей по сердцу, что сестры сделают, что она захочет, особенно в этом деле, и сказала ему, чтобы он, как можно скорее, устроил все для того потребное. Вернувшись к двум юношам, сильно пристававшим к нему по поводу того, что он им говорил, Рестаньоне сообщил им, что относительно их дам дело уже идет на лад. Решив между собою отправиться в Крит, продав некоторые свои имения под предлогом, что желают поехать торговать на эти деньги, обратив в деньги все, что у них было, они купили скороходное судно, тайком отлично вооружили его и стали поджидать назначенного срока. С другой стороны, Нинетта, хорошо знавшая настроение сестер, сладкими речами так возбудила в них желание к этому делу, что им казалось, они не доживут до его исполнения. Поэтому с наступлением ночи, когда им следовало сесть на судно, три сестры, вскрыв большой отцовский сундук, вынув из него большое количество денег и драгоценностей и тихонько выйдя со всем этим из дому, встретили, по условию, своих, поджидавших их, любовников, немедленно сели с ними на судно и, пустив в ход все весла, удалились. Нигде не останавливаясь, они на следующий вечер прибыли в Геную, где недавние любовники впервые вкусили радость и наслаждение своей любви. Подкрепившись здесь, чем было нужно, они отправились далее и, переходя от одной гавани к другой, еще до наступления восьмого дня прибыли без всякого препятствия в Крит, где купили большие, прекрасные поместья, а недалеко от Кандии построили роскошные и прелестные жилища. Здесь, обзаведясь многочисленной прислугой, собаками, ловчими, птицами и конями, среди пиров и празднеств и в веселии они стали жить со своими возлюбленными, точно бары, будучи счастливейшими в свете людьми.
Когда они пребывали таким образом, случилось (как мы то видим, бывает ежедневно, что хотя известная вещь и нравится, но при избытке надоедает), что Рестаньоне, очень любившему Нинетту, с той поры, как он без всякого опасения мог наслаждаться ею по желанию, она стала надоедать, и вследствие того его любовь к ней умаляться. На одном празднике ему сильно понравилась одна девушка, уроженка того места, красивая и родовитая, и он принялся ухаживать за нею, начал оказывать ей особенное внимание, устраивая для нее празднества; заметив это, Нинетта стала так ревновать его, что он не мог сделать ни шагу, чтобы она не узнала и затем не печалила его и себя попреками и гневными выходками. Но как излишество чего-нибудь порождает отвращение, а отказ в желаемом усиливает к нему стремление, так гневные выходки Нинетты увеличивали в Рестаньоне пламя новой привязанности; что бы там ни вышло с течением времени, добился ли Рестаньоне любви милой ему женщины, или нет, только Нинетта была твердо уверена в первом, кто бы ей о том ни донес; от этого она впала в такую печаль, а из нее в такой гнев, от которого последовательно перешла к такой ярости, что, обратив любовь, которую питала к Рестаньоне, в жестокую ненависть, ослепленная своим гневом, решила смертью отомстить за стыд, который он, казалось, учинил ей. Раздобыв старуху гречанку, большую мастерицу готовить яды, она убедила ее обещаниями и дарами составить смертоносную жидкость, которую, не спросив ни у кого совета, она дала однажды вечером выпить разгоряченному и ничего не остерегавшемуся Рестаньоне. Такова была сила жидкости, что она умертвила его еще до наступления утра. Когда Фолько и Угетто и их дамы о том услышали, не зная, от какого яда он умер, вместе с Нинеттой горько оплакали его и велели похоронить с почестями. Но несколько дней спустя случилось, что за какое-то преступное дело схвачена была старуха, приготовившая для Нинетты ядовитую жидкость, и под пыткой, в числе других преступлений, призналась и в этом, точно объяснив, что от этого произошло; вследствие чего герцог Крита, ничего никому о том не говоря, велел однажды ночью втихомолку окружить дворец Фолько и без какого-либо крика и сопротивления схватил и увел Нинетту, от которой без всякой пытки тотчас же выведал, что желал, относительно смерти Рестаньоне. Фолько и Угетто тайно узнали от герцога, а от них и их дамы, почему взята была Нинетта, что было им очень неприятно, и они прилагали всякое старание, чтобы спасти Нинетту от костра, к которому, по их мнению, ее осудят, как вполне того заслужившую; но, казалось, все это ни к чему не приведет, ибо герцог твердо стоял на том, чтобы правосудие над ней совершилось. Маддалена, которая была молода и красива и за которой долго ухаживал герцог, тогда как она никогда не соглашалась сделать что-либо ему в угоду, вообразила, что, угодив ему, она может спасти сестру от костра, и осторожно дала ему знать через посланного, что она всецело к его услугам, если воспоследует от того двоякое: во-первых, чтобы ее сестра возвращена была ей живой и здоровой, и, во-вторых, чтобы это дело осталось скрытым. Выслушав это послание, которое было ему по сердцу, герцог долго обдумывал сам с собою, следует ли ему так поступить, но, наконец, решился и заявил свое согласие. Для этого он, с ведома дамы, велел однажды ночью задержать Фолько и Угетто под предлогом, что желает разузнать от них о деле, а сам тайно отправился на побывку к Маддалене. Перед тем он притворился, будто приказал посадить Нинетту в мешок и в ту самую ночь утопить в море; теперь он привел ее к сестре, отдал ей в награду за ночь и, удаляясь утром, попросил ее, чтобы эта ночь, первая их любви, не была последней; кроме того, наказал ей отослать виновную женщину, дабы ему не вышло от того поношения и не пришлось снова принять против нее меры строгости.
На следующее утро Фолько и Угетто, слышавшие, что ночью Нинетту утопили, чему они и поверили, были освобождены; когда они вернулись домой, чтобы утешить своих дам в смерти сестры, Фолько догадался, что она здесь, хотя Маддалена и сильно старалась скрыть ее, чему он очень удивился, тотчас же заподозрив Маддалену, ибо до него уже доходили слухи о любви к ней герцога, и спросил ее, как то могло статься, что Нинетта здесь. Маддалена сочинила длинную басню, дабы объяснить ему это, но он, как человек хитрый, плохо тому поверил и заставил ее сказать правду, что она после многих пререканий и сделала.
Сраженный горем и воспламенившись гневом, Фолько вынул меч и убил ее, тщетно умолявшую его о милости; убоясь гнева и суда герцога, оставив ее мертвой в комнате, он пошел туда, где находилась Нинетта, и с чрезвычайно веселым видом сказал ей: «Отправимся тотчас же, куда твоя сестра решила, чтоб я повез тебя, дабы ты снова не попалась в руки герцога». Нинетта поверила этому и, исполненная страха и желания удалиться, не простившись с сестрою, вместе с Фолько снарядилась в путь с наступившей уже ночью; с теми деньгами, которые успел захватить Фолько, а их было немного, они, направившись к морскому берегу, сели в лодку, и никто никогда не узнал, куда они пристали.
Когда наступил следующий день и Маддалена найдена была убитою, некоторые, питавшие к Угетто зависть и ненависть, тотчас же донесли о том герцогу; вследствие чего герцог, сильно любивший Маддалену, исполнясь гнева, поспешил в ее дом и, схватив Угетто и его даму, ничего еще не знавших об этом деле, то есть о бегстве Фолько и Нинетты, принудил их к сознанию, что они вместе с Фолько виновны в смерти Маддалены. Вследствие этого сознания, не без причины опасаясь смерти, они с большими предосторожностями подкупили своих стражей, дав им несколько денег, которые тайно спрятали на всякий случай у себя в доме, и, не имея времени захватить с собою что-либо из своего имущества, сев в лодку вместе со стражами, ночью бежали в Родос, где в бедности и нужде прожили недолго. К такому-то исходу привела неразумная любовь Рестаньоне и гнев Нинетты и их самих и других.
Новелла четвертая
Джербино в противность честному слову, данному его дедом, королем Гвильельмо, нападает на корабль тунисского короля, чтобы похитить его дочь; те, что были на корабле, убивают ее, он убивает их, а ему самому отсекают впоследствии голову.
Кончив свою новеллу, Лауретта умолкла, а из общества кто с тем, кто с другим печаловался о несчастии любовников, кто порицал гнев Нинетты, один говорил одно, другой другое, когда король, как будто выйдя из глубокой задумчивости, подняв голову, сделал знак Елизе, чтобы она сказывала далее. Она скромно начала так:
– Любезные дамы, многие думают, что лишь воспламененный взорами Амур мечет свои стрелы, и насмехаются над теми, по мнению которых иной может влюбиться и по молве; что они ошибаются, это предстанет ясно из новеллы, которую я хочу рассказать вам и из которой вам выяснится, что молва не только оказала такое действие на людей, никогда друг друга не видавших, но и довела обоих до плачевной смерти.
У Гвильельма Второго, короля Сицилии, было, как говорят сицилийцы, двое детей, сын, по имени Руджьери, и дочь, названная Костанцой. Руджьери, скончавшийся прежде отца, оставил сына, по имени Джербино, который, старательно воспитанный своим дедом, стал красивейшим юношей, славным храбростью и обхождением. И его слава не ограничивалась пределами Сицилии, но звенела в разных частях света и особенно известна была в Берберии, в то время даннице сицилийской короны.
В числе других, до слуха которых донеслась блестящая молва о доблестях и угожестве Джербино, была и дочь тунисского короля, которая, судя по тому, что говорили о ней видевшие ее, была красивейшим творением, когда-либо созданным природой, самых изысканных нравов и благородного, возвышенного духа. Она, охотно слушавшая рассказы о доблестных мужах, с такою любовью внимала тому, что тот или другой говорили ей о храбрых деяниях Джербино, и так они ей нравились, что, вообразив себе, каким он должен быть, она горячо в него влюбилась и охотнее беседовала о нем, чем о чем другом, и слушала, когда о нем беседовали. С другой стороны, и в Сицилию, как и в другие места, дошла великая слава как об ее красоте, так и об ее достоинствах, и не без великой утехи и не тщетно коснулась слуха Джербино; напротив, зажгла в нем любовь к девушке не менее, чем она пылала к нему. Вследствие этого он, пока не нашел приличного повода испросить у деда позволения поехать в Тунис, чрезвычайно желая увидеть девушку, наказывал всем отправлявшимся туда приятелям, чтобы они каким лучше найдут способом известили ее об его тайной и великой любви и привезли вести о ней. Из них один устроил это очень ловко, принеся ей на показ, как то делают купцы, женские украшения, и, открыв ей всецело страсть Джербино, сказал ей, что и Джербино и все ему принадлежащее готово к ее услугам. Она с веселым видом приняла посланца и послание и, ответив ему, что и она пылает к Джербино такою же любовью, в знамение чего послала ему одно из самых дорогих своих украшений. Джербино принял его с такой радостью, с какою принимают какую-либо драгоценность, и с тем же человеком посылал ей не раз дорогие подарки и завел переговоры, как бы им видеться и обняться, если бы дозволила то судьба.
Пока дела шли таким путем и проволочек было более, чем бы следовало, а девушка пылала с одной, Джербино с другой стороны, случилось, что тунисский король помолвил свою дочь с королем Гранады, чем она сильно опечалилась при мысли, что не только на далекое расстояние удалится от своего милого, но будет почти совсем оторвана от него; и если б у нее был на то способ, она охотно, лишь бы этого не случилось, убежала бы от отца и явилась бы к Джербино. Точно так же и Джербино, прослышав об этом браке, впал от того в чрезмерную печаль и часто про себя думал, какое бы ему найти средство, чтобы отнять ее силой, если случится, что ее морем отправят к супругу.
Король Туниса, услышав кое-что об этой любви и намерении Джербино и опасаясь его храбрости, когда настало время отправить дочь, послал сказать королю Гвильельмо, что он предпринял и что намерен сделать, если тот поручится ему, что ни Джербино и никто другой вместо него не воспрепятствуют ему в этом. Король Гвильельмо, государь старый, ничего не слышавший о влюбленности Джербино и не воображавший, что вследствие того и потребовалось такое ручательство, охотно дал его, в знамение чего послал тунисскому королю свою рукавицу. Когда тот получил ручательство, велел приготовить в гавани Карфагена большой прекрасный корабль, снабдить его всем потребным для той, кто поедет на нем, украсить и снарядить его, чтобы отправить в Гранаду свою дочь, и ничего иного не ожидал, как погоды.
Девушка, все это заметившая и видевшая, тайком послала своего служителя в Палермо, велев ему поклониться от себя красавцу Джербино и сказать, что через несколько дней она отправится в Гранаду, и потому теперь окажется, насколько он, как говорили, человек храбрый и так ли он ее любит, как несколько раз это заявлял. Тот, кому дано было это поручение, отлично его исполнил и вернулся в Тунис. Как услышал это Джербино и узнал, что его дед, король Гвильельмо, поручился перед тунисским королем, он не ведал, что и делать; тем не менее, побуждаемый любовью, лишь только слова дамы были ему донесены, он, дабы не показаться трусом, отправился в Мессину, тотчас же велел вооружить две легких галеры и, посадив в них храбрых людей, отправился с ними в Сардинию, рассчитывая, что там должно было пройти судно его милой. И последствие вскоре ответило его ожиданию, ибо через несколько дней, как он туда прибыл, явился, при небольшом ветре, и корабль недалеко от места, где, ожидая его, пристал Джербино. Как увидал он его, сказал своим товарищам: «Господа, если вы так доблестны, как я вас считаю, то между вами, конечно, нет никого, кто бы не ощущал и не ощущает любви, без которой, по моему мнению, ни один смертный не может владеть ни доблестью, ни благом; если же вы были влюблены, то вам легко будет понять мое желание. Я люблю, и любовь побудила меня возложить на вас настоящее предприятие, а что я люблю, то обретается на корабле, который вы видите перед собою, а вместе с предметом моих наибольших желаний там и громадные богатства, которыми мы, если вы люди храбрые, с небольшим трудом, мужественно сражаясь, можем завладеть; но от этой победы я ищу себе в долю лишь одну женщину, из любви к которой я и поднял оружие, все другое да будет отныне всецело вашим. Итак, пойдем и в добрый час нападем на корабль: Господь благоприятствует нашему предприятию, держит его на месте, не посылая ему ветра».
Не надо было красавцу Джербино стольких слов, ибо бывшие с ним мессинцы, жадные до добычи, уже вознамерились мысленно сделать то, к чему он побуждал их словами. Потому они подняли в конце его речи сильный крик, что так тому и быть, затрубили в трубы и, схватившись за оружие и пустившись на веслах, пристали к кораблю. Те, что на нем были, увидев издали галеры и не будучи в состоянии уйти, приготовились к защите. Добравшись до корабля, красавец Джербино потребовал, чтобы его начальников доставили на галеры, если они не хотят битвы; узнав, кто они и чего требуют, сарацины сказали, что на них напали в противность ручательству, данному им королем, в знак чего показали рукавицу короля Гвильельмо, совершенно отказываясь сдаться иначе, как после борьбы, и выдать им что-либо, находящееся на корабле. Джербино, увидевший на корме даму, гораздо более красивую, чем он себе представлял, воспылал более прежнего и, когда ему показали рукавицу, отвечал, что здесь в настоящее время нет соколов и в рукавице нет надобности, а потому, если они не желают выдать девушку, пусть готовятся к битве, которую они немедля и начали, принявшись ожесточенно метать друг в друга стрелы и копья. Таким образом они долго сражались к урону обеих сторон. Наконец, когда Джербино убедился, что из этого выходит мало толку, он взял небольшое судно, которое они привели с собою из Сардинии, и, поджегши его, подвинул при помощи двух галер к кораблю. Увидев это и поняв, что им по необходимости придется сдаться либо умереть, сарацины велели вывести на палубу королевскую дочь, находившуюся под палубой и плакавшую; потащив ее на корму корабля и окликнув Джербино, они на его глазах убили ее, взывавшую о милосердии и помощи, и, бросив ее в море, сказали: «Возьми, мы отдаем ее тебе, в каком виде можем и как то заслужила твоя честность».
Когда Джербино увидел их жестокость, точно ища смерти, не обращая внимания ни на стрелы, ни на камни, велел подвезти себя к кораблю, и, вскочив на него, несмотря на сопротивление там бывших, и, как голодный лев, попавший в стадо молодых быков, умерщвляя того и другого, на первых порах утоляет зубами и когтями скорее свою ярость, чем голод, так с мечом в руке, рубя того или другого сарацина, многих из них предал Джербино жестокой смерти; когда же стал разгораться огонь на подожженном корабле, он велел своим морякам, в удовлетворение их, вытащить, что было можно, с судна, и сам сошел с него с невеселою победою, выигранной над своими противниками. Затем, приказав выловить из моря тело красавицы, долго оплакивал ее, проливая слезы; на обратном пути в Сицилию он велел похоронить ее с почестями на Устике, небольшом островке, почти напротив Трапани, и вернулся домой, более чем кто-либо опечаленный.
Когда до тунисского короля дошли об этом вести, он послал к королю Гвильельмо своих послов, одетых в черное, жалуясь на плохо соблюденное честное слово, данное ему; они рассказали все, как было. Это сильно разгневало короля Гвильельмо; не видя возможности отказать в правосудии, чего у него требовали, он велел схватить Джербино, и хотя не было ни одного барона, который не попытался бы отвратить его просьбами от этого решения, сам осудил его на смертную казнь и в своем присутствии велел отрубить ему голову, желая скорее остаться без внука, чем прослыть королем, не держащим слова. Так печально в несколько дней погибли злою смертью, как я вам рассказала, двое влюбленных, не вкусив ни малейшего плода от своей любви.
Новелла пятая
Братья Изабетты убивают ее любовника; он является ей во сне и указывает, где похоронен. Тайком выкопав его голову, она кладет ее в горшок базилика и ежедневно подолгу плачет над нею; братья отнимают ее у нее, после чего она вскоре умирает с горя.
Когда кончилась новелла Елизы, король слегка одобрил ее, и велено было рассказывать Филомене, которая, исполненная сострадания к бедному Джербино и его милой, жалостно вздохнув, начала так:
– Рассказ мой, милые дамы, будет не о людях, столь высокопоставленных, как те, о которых говорила Елиза, но, быть может, не менее трогателен; а к воспоминанию о нем привела меня недавно упомянутая Мессина, где событие и приключилось.
Жили в Мессине трое юношей, братьев, купцы, ставшие богатейшими людьми по смерти своего отца, который был из Сан-Джиминьяно, и была у них сестра, по имени Изабетта, девушка очень красивая и образованная, которую они, по какой бы то ни было причине, еще не успели выдать замуж. Кроме того, был у этих трех братьев, при одной из их лавок, юноша из Пизы, по имени Лоренцо, который вел и вершил все их дела, очень красивый собою и чрезвычайно приятный в обращении. Когда Изабетта несколько раз обратила на него внимание, вышло так, что он начал ей страшно нравиться. Лоренцо, заметив это раз, другой, также начал обращать к ней свое сердце, оставив все другие свои любовные связи; и так пошло дело, что, одинаково понравившись взаимно, они в короткое время друг в друге уверились и совершили то, чего каждый из них наиболее желал. Продолжая эти отношения и доставляя себе много утехи и удовольствия, они не сумели устроить это настолько тайно, чтобы однажды ночью, когда Изабетта шла туда, где спал Лоренцо, старший из братьев того не заметил, тогда как она и не спохватилась. Как ни неприятно ему было узнать о том, он, как юноша разумный, приняв более пристойное решение и не промолвившись и ничего не сказав, прождал до следующего утра, вращая по этому поводу разнообразные мысли. Когда настал день, он рассказал своим братьям, что видел прошлою ночью относительно Изабетты и Лоренцо, и после долгого совещания с ними решил обойти молчанием это дело, дабы не последовало позора ни им, ни сестре, и представиться, будто они совершенно ничего не видели и не знают, пока не наступит время, когда без вреда и неприятности для себя они получат возможность удалить с глаз этот стыд, прежде чем он разрастется. Оставаясь при этом решении, болтая и смеясь с Лоренцо по-прежнему, они притворились однажды, что отправляются втроем погулять за город, и с собою повели Лоренцо; придя в одно очень уединенное, отдаленное место, они, воспользовавшись удобным случаем, убили вовсе не остерегавшегося Лоренцо и похоронили так, что никто того не заметил, а вернувшись в Мессину, пустили слух, что куда-то послали его по своим делам, чему легко поверили, ибо у них было в обычае часто посылать его.
Когда Лоренцо не возвращался, а Изабетта очень часто и настоятельно разведывала о нем у братьев, так как долгое его отсутствие ее тяготило, случилось однажды, что, когда она спрашивала о нем очень настойчиво, один из братьев сказал ей: «Что это значит? Что тебе до Лоренцо, что ты так часто о нем спрашиваешь? Коли еще станешь спрашивать, мы дадим тебе ответ, какой ты заслужила». Поэтому девушка пребывала в печали и грусти, боясь сама не зная чего, более не расспрашивая о нем, и часто ночью жалостно призывала его, умоляя явиться, иной раз сетовала, проливая обильные слезы об его отлучке, и ничто ее не радовало, и она все поджидала его. Однажды ночью, когда, много поплакав о Лоренцо, что он не возвращается, она, наконец, заснула в слезах, случилось, что Лоренцо предстал ей во сне, бледный и растерзанный, в рваной и истлевшей одежде, и будто сказал ей: «О Изабетта, ты только и делаешь, что зовешь меня и печалишься о моем долгом отсутствии и жестоко винишь меня, проливая слезы; поэтому узнай, что я не могу более вернуться, ибо в тот день, когда ты видела меня в последний раз, твои братья меня убили». И открыв ей место, где его схоронили, он сказал ей, чтобы она не звала и не ожидала его, и исчез. Девушка, проснувшись и поверив видению, горько заплакала. Затем, встав утром и не осмеливаясь что-либо сказать братьям, решилась пойти в означенное место и посмотреть, правда ли то, что представилось ей во сне; получив позволение выйти немного погулять за город, она в сообществе с одной девушкой, когда-то у них жившей и знавшей все ее дела, отправилась туда как можно поспешнее и, сгребя бывшие на том месте сухие листья, стала копать, где земля показалась ей менее твердой. И недолго копала, как нашла тело своего несчастного любовника, еще совсем нетронутое и не разложившееся, почему она ясно познала, что ее видение было правдиво. Опечаленная этим, как ни одна женщина, она поняла, что тут не до слез, и охотно унесла бы с собою, если бы можно, все тело, чтобы предать его достойному погребению; но видя, что это невозможно, как сумела, отрезала ножом голову от туловища и, набросав на него земли, голову завернула в полотенце, положила в подол служанке и, никем не замеченная, ушла оттуда и вернулась домой. Здесь, запершись с тою головою в отдельном покое, долго и горячо плакала над нею, так что всю ее омыла своими слезами, повсюду осыпая ее поцелуями. Взяв затем большой, красивый горшок, из тех, в которых садят майоран или базилик, поместила ее туда, обвив прекрасным платом, и, положив сверху земли, посадила несколько отростков прекрасного салернского базилика, который никогда ничем иным не поливала, как розовой или померанцевой водой, либо своими слезами. У ней было обыкновение всегда сидеть поблизости этого горшка и со страстным желанием смотреть на него, ибо он хранил ее Лоренцо; насмотревшись, она садилась над ним и принималась плакать, и плакала долго, так что орошала весь базилик. А базилик частью от долгого и постоянного ухода, частью от того, что земля была жирная вследствие разлагавшейся внутри головы, стал чудесным и очень пахучим.