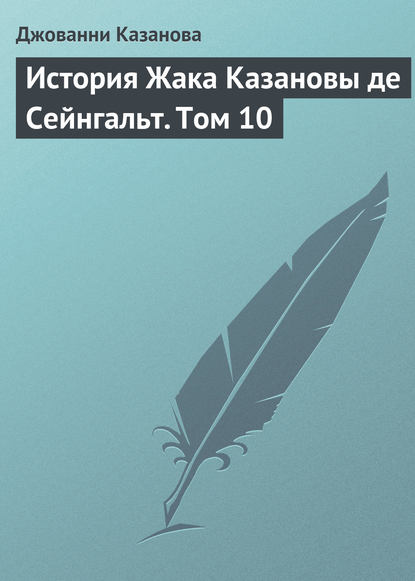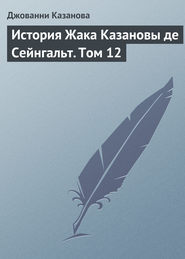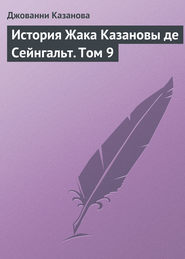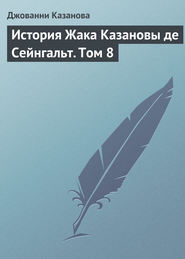По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 10
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Мои занятия вынуждают меня никого не принимать; но для вас я делаю исключение. Приходите в час, который для вас наиболее удобен, и вас проведут в мою комнату. Вам не надо будет называть ни мое имя, ни ваше. Я не предлагаю вам разделить со мной обед, так как моя пища не подходит никому, и для вас – менее, чем для кого бы то ни было другого, если вы еще сохранили свой прежний аппетит».
Я пошел туда в восемь часов. У него была бородка в дюйм длиной и стояло более двадцати перегонных кубов с жидкостями внутри, из которых некоторые вываривались на песке на открытом пламени. Он сказал, что работает над красками, для развлечения, и что он основал фабрику шляп, чтобы доставить удовольствие графу Кобенцль, полномочному представителю императрицы Марии-Терезии в Брюсселе. Он сказал, что получил от него только двадцать пять тысяч флоринов, чего недостаточно, но он рассчитывает на добавление. Мы поговорили о мадам д’Юрфэ, и он мне сказал, что она отравилась, приняв слишком сильную дозу универсального снадобья.
– Ее завещание доказывает, – сказал он мне, – что она полагала, что беременна, и она могла бы ею быть, если бы проконсультировалась со мной. Эта операция из самых легких, но нельзя быть заранее уверенным, будет ли плод мужским или женским.
Когда он узнал, какая у меня болезнь, он посоветовал мне остаться в Турнау только на три дня и делать то, что он мне скажет. Он заверил, что я уеду со всеми вскрытыми бубонами. Он дал мне после этого пятнадцать пилюль, которые, принимая по одной за раз, я за пятнадцать дней полностью восстановлюсь. Я поблагодарил его за все, и ничего не стал принимать. После этого он показал мне свой архей, который он называл Атое-тер[2 - алхимические средства – прим. перев.]. Это была белая жидкость в маленьком пузырьке, похожем на множество других, которые там находились. Они были закупорены воском. Когда он сказал мне, что это универсальный природный дух, и что свидетельством этого является то, что этот дух мгновенно исчезнет из пузырька, стоит только проделать в воске маленькую дырочку иглой, я попросил его показать эксперимент. Он дал мне пузырек и иглу, сказав, чтобы я сам это проделал. Я проткнул воск и через мгновенье увидел, что пузырек опустел.
– Это превосходно, но для чего это может быть нужно?
– Не могу вам этого сказать.
Желая, по своему обыкновению, отпустить меня только в состоянии изумления, он спросил, есть ли у меня монета, и я достал одну из кармана и положил на стол. Он поднялся, ничего мне не говоря, взял горящий уголек, который положил на металлическую пластину, потом попросил у меня монету в двенадцать су, что лежала на столе, положил на нее маленькую черную крупинку и положил это все на уголь, затем стал обдувать это все паяльной лампой, и менее чем в две минуты я увидел собственными глазами, что моя монета стала красной. Он сказал подождать, пока она остынет, что и произошло через минуту. После этого он сказал, смеясь, чтобы я забрал себе монету, потому что она моя. Я сразу увидел, что она из золота, но, хотя я и был убежден, что он ловко подменил мою и положил на ее место золотую, которую очень легко мог отбелить, я не захотел его в этом уличить. Поаплодировав, я сказал, что в следующий раз, чтобы с уверенностью убедить всех самым явным образом, он должен заранее предупредить их, что собирается произвести трансмутацию, чтобы думающий человек мог внимательно рассмотреть свою серебряную монету перед тем, как положить ее на горячий уголь. Он ответил, что те, кто может сомневаться в его науке, недостойны того, чтобы с ними разговаривать. Это его обычная манера разговаривать. Это было в последний раз, когда я видел этого знаменитого и ученого обманщика, который умер в Шлезвике шесть или семь лет назад. Монета в двенадцать су была из чистого золота. Я отдал ее два месяца спустя лорду маршалу Кейту в Берлине, который ею заинтересовался.
Я выехал из Торнау на следующий день в четыре часа утра и остановился в Брюсселе, чтобы подождать ответа на письмо, что я написал в Венецию г-ну де Брагадин, в котором я просил его оплатить мой вексель, который я должен был получить в Лондоне. Я получил это письмо пять дней спустя после моего прибытия вместе с платежным письмом на две сотни голландских дукатов на м-м Нетин. Я думал там остановиться, чтобы пройти полный курс лечения, потому что Датури мне сказал, что будет учиться на танцора на канате, что его отец и мать и вся его семья находятся в Брунсвике, где, если я туда поеду, он заверяет, что я получу всякое участие, какого только могу пожелать, и буду себя чувствовать там, как если бы я был у себя. Он убедил меня. Я знал наследного принца, который сегодня правит; кроме того, мне было любопытно увидеть через двадцать один год мать Датури. Я выехал из Брюсселя сразу, но в Рюрмонде почувствовал себя столь плохо, что не думал, что смогу продолжить свое путешествие. Проезжая через Льеж, я встретил м-м Малиньян, вдовую и в нищете. Тридцать шесть часов постели меня привели к мысли, что я смогу выдержать, и я поехал в моей почтовой коляске, с которой я все время впадал в отчаяние, поскольку почтовые лошади совершенно не могли приспособиться к оглобле; я решил сменить ее в Везеле. Едва добравшись до гостиницы, я лег в постель и сказал Датури пойти договориться поменять ее на коляску на четырех колесах. На следующий день я был весьма удивлен, увидев в моей комнате генерала Бекевиц. После обычных расспросов, соболезнований о моем здоровье генерал сказал, что он купит себе мою коляску и даст мне другую, удобную для путешествия по всей Германии, и это было тут же проделано; но когда бравый англичанин узнал от меня детально, в каком я состоянии, он посоветовал мне пройти лечение в Везеле, где имеется молодой врач лейденской школы, очень надежный и умелый. Нет ничего легче, чем поменять решение и мнение больного человека, опечаленного, не имеющего никаких планов, ищущего удачи и, в максимальной степени sequere Deum[3 - следуя за богом], не знающего, где ее обрести. Г-н Бекевиц, который стоял в гарнизоне Везеля вместе со своим полком, послал сразу за доктором Пипером и хотел присутствовать при моей исповеди и даже при обследовании. Я не хочу возмущать читателя описанием несчастного состояния, в котором я находился. Этот молодой врач, который был сама нежность, сказал мне, что, уложив меня у себя, где он пообещал мне от своей матери и своих сестер всякое участие, которого я только могу пожелать, он обещает меня вылечить в шесть недель, если я буду следовать всем его указаниям. Генерал убедил меня согласиться, и я сам этого пожелал, потому что хотел в Брунсвике развлекаться, а не являться туда в состоянии паралича во всех своих членах. Я согласился, вопреки моему сыну, который горел желанием иметь честь вылечить меня у себя дома. Доктор Пипер не хотел слышать разговоров об условиях. Он сказал, что при отъезде я дам ему то, что захочу, и наверняка он будет этим доволен. Он ушел, чтобы велеть приготовить мне свою комнату, потому что у него она была только одна, сказав, что я могу направляться туда через час. Я велел переправить туда весь мой багаж и на портшезе приехал к нему, держа платок у лица, стыдясь показаться таким перед матерью и сестрами этого почтенного врача, который был там в окружении нескольких своих дочерей, на которых я не осмеливался смотреть. Когда я оказался в моей комнате, Датури меня раздел, и я лег в кровать.
Глава III
В час ужина доктор пришел в мою комнату вместе со своей матерью и одной из своих сестер, которые заверили, что окружат меня вниманием. Их добрый характер был запечатлен на их лицах.
Когда они ушли, он сообщил мне метод, который он хочет применить, чтобы восстановить мое здоровье. Потогонная птисана (отвар) и ртутные пилюли должны были меня избавить от яда, который вел меня в могилу. Я должен был подчиниться строгой диете и отказаться от любых усилий. Я заверил его, что подчинюсь всем его правилам. Он обещал, что будет читать мне два раза в неделю газету, и он сообщил мне сразу новость, что м-м де Помпадур мертва.
Итак, я был приговорен к отдыху, необходимому, согласно его мнению, для успеха его лечения; но убийственному, с другой стороны, поскольку я чувствовал, что скука меня убьет. Доктор сам этого боялся, и посоветовал мне терпеть, чтобы его сестра пришла работать в моей комнате вместе с двумя или тремя своими подругами. Моя кровать стояла в алькове с занавесками, и они меня не могли смущать. Я попросил его, чтобы мне доставили это облегчение, и его сестра была рада услужить мне этим, потому что комната, которую я занимал, была единственной в доме, имеющей окна наружу. Но это обстоятельство стало фатальным для Датури.
Этот мальчик, который учился только своему ремеслу, мог только скучать, проводя все время со мной; поэтому, когда он увидел, что, находясь в доброй компании, я могу обойтись без него, он стал думать только о том, чтобы развлекаться целый день, отправляясь прогуляться то туда, то сюда. На третий день нашего пребывания в Везеле его принесли к вечеру в дом сильно избитого. Он вздумал развлекаться в кордегардии с солдатами, которые затеяли с ним ссору, и дело кончилось тем, что его отдубасили. На него было жалко смотреть. Весь в крови, с не менее чем тремя выбитыми зубами, он рассказал со слезами о своей беде, упрашивая меня отомстить. Я отправил моего доктора рассказать об этом деле генералу Бекевиц, который пришел сказать, что он не знает, что здесь поделать, и единственное, что он может, это отправить его лечиться в госпиталь. Не имея переломов костей, он поправился через восемь дней, и я отправил его в Брюнсвик с паспортом от генерала Соломона. Три зуба, что он потерял в битве, гарантировали его от опасности быть взятым в солдаты. Он ушел пешком, и я обещал, что приеду его повидать, когда буду в состоянии ехать.
Этот парень был красивый и хорошо сложенный. Он умел только немного писать, и был обучен только танцевать на канате и устраивать фейерверки. Он был бравый и увлекался честной игрой. Он немного слишком любил вино и не имел никаких склонностей, кроме обычной – к прекрасному полу. Я знал нескольких людей, которые были обязаны своей фортуной женщинам, несмотря на свое безразличие к сексу.
Через месяц я почувствовал себя выздоровевшим и в состоянии ехать, хотя и очень похудел. Представление, что я оставил по себе в доме доктора Пипера, относительно моего характера, не было похоже на меня. Меня сочли самым спокойным из людей, и его сестра, вместе со своими красивыми подругами – за самого скромного. Все мои добродетели пришли вместе с болезнью. Чтобы судить о человеке, следует изучать его поведение, когда он здоров и свободен; больной или в тюрьме он – другой.
Я подарил платье м-ль Пипери, дал двадцать луи доктору. Накануне моего отъезда я получил письмо от м-м дю Рюмэн, которая, узнав, что я нуждаюсь в деньгах, отправила мне платежное письмо на шесть сотен флоринов на Амстердам, на банк. Она написала, что я верну ей эту сумму, когда мне будет удобно, но она умерла до того, как я смог рассчитаться с этим долгом.
Решив ехать в Брюнсвик, я не смог воспротивиться желанию заехать в Ганновер. Когда я вспоминал Габриеллу, я еще ее любил. Я не думал там остановиться, поскольку уже не был богат и, кроме того, выздоровление требовало от меня беречь мое восстанавливающееся здоровье. Я хотел только с ней встретиться, нанеся короткий визит на ее земле, где она, как говорила мне, живет около Стокена. Примешивалось также и любопытство.
Итак, я решил ехать на рассвете, в одиночку, в коляске, которую мне дал английский генерал в обмен на мою двухколесную, но так не получилось.
Записка, которую написал мне генерал, в которой он просил меня к себе на ужин, где я встречу компанию из моей страны, заставила меня принять приглашение. Если бы мы остались за столом очень допоздна, я рассчитывал выехать позже. Я отправился, таким образом, к г-ну Бекевиц, пообещав доктору воздерживаться от всяких излишеств.
Какой сюрприз, когда, войдя в его комнату, я вижу пармезанку Редегонду с ее чертовой матерью! Она сначала меня не узнала, но ее дочь сразу меня назвала, сказав, что я очень похудел. Я сказал ей, что она стала еще красивее, и это была правда. Восемнадцать месяцев, добавленных к ее возрасту, могли только усилить ее очарование. Я объяснил, что вышел только что из тяжелой болезни, и что я собираюсь выехать на рассвете в Брюнсвик.
– И мы тоже, – говорит она, глядя на мать.
Генерал, очарованный тем, что мы знакомы, добавил, что мы могли бы ехать вместе, и, улыбаясь, я ответил ему, что это было бы затруднительно, по крайней мере, если м-м мать не восприняла новых принципов. Она ответила, что она все время прежняя.
Захотели продолжить игрой. Генерал таллировал в маленький банк фараон. Было две или три другие дамы и офицеры, и играли очень по-малой. Он предложил мне карту, и я, поблагодарив, отказался, сказав, что я никогда не играю, когда путешествую.
В конце тальи генерал сказал мне, что знает, почему я не играю, и достал из своего портфеля билеты английского банка.
– Это, – сказал он, – те билеты, что вы дали мне в уплату шесть месяцев назад в Лондоне. Возьмите реванш. Здесь 400 фунтов стерлингов.
– У меня нет желания, – говорю я ему, – столько проигрывать. Я проиграю только пятьдесят гиней, и в бумагах тоже, только чтобы вас развлечь.
Говоря так, я достаю из своего кошелька, где у меня 200 дукатов золотом, обменное письмо, которое графиня де Рюмэн отправила мне.
Он продолжает таллировать, и на третьей талье я оказываюсь в выигрыше на пятьдесят гиней, которые он мне платит английскими бумагами, когда я говорю, что достаточно. В этот момент объявляют, что ужин подан, и мы садимся за стол. Редегонда, которая очень хорошо научилась говорить по-французски, развлекала всю компанию. Она направлялась на службу к герцогу Брюнсвика второй музыкальной виртуозкой, ангажированной Николини, и приехала из Брюсселя. Она сожалела, что предприняла это путешествие в почтовых каретах, в которых ей было очень неудобно, до того, что она была уверена, что прибудет в Брюнсвик совершенно больной.
– Вот шевалье де Сейнгальт, – сказал ей генерал, который совсем один, и у которого превосходная коляска. Езжайте вместе с ним.
Редегонда улыбается. Ее мать спрашивает, сколько мест в моей коляске, и генерал отвечает за меня, что она на двоих. Мать говорит, что это невозможно, потому что она не отпустит свою дочь одну ни с кем. На этот ответ раздается всеобщий взрыв смеха, включая и Редегонду, которая, отсмеявшись, говорит, что ее мама все время боится, что ее кто-нибудь убьет.
Переходят к другим темам и очень весело остаются за столом до часу. Редегонда, не заставляя себя долго упрашивать, садится за клавесин и поет арию, которая доставляет удовольствие всей компании.
Когда я собрался уходить, генерал пригласил меня позавтракать, сказав, что почтовая карета уходит только в полдень, и что я обязан это сделать из вежливости по отношению к своей соотечественнице, и она присоединяется, упрекая меня некоторыми подробностями Флоренции и Турина, где мне не в чем было ее упрекнуть; но я, тем не менее, возвращаюсь домой спать, так как в этом нуждаюсь. Назавтра в девять часов я прощаюсь с доктором и всем его семейством и иду пешком к генералу, чтобы там позавтракать, оставив распоряжение, чтобы, как только лошади будут запряжены, коляска стояла готовая у его дверей, потому что я решительно хотел ехать сразу после завтрака. Полчаса спустя приходит Редегонда со своей матерью, и я удивлен, видя ее с братом, который служил мне во Флоренции в качестве местного слуги.
После завтрака, который получился очень веселым, моя коляска уже была там, готовая, я раскланялся с генералом и со всей компанией, которая вышла из залы, чтобы увидеть мой отъезд. Редегонда, спросив у меня, удобна ли моя коляска, поднимается в нее, и очень просто я туда поднимаюсь тоже, не имея заранее никакой мысли, но я немало удивлен, когда, едва поднявшись в коляску, вижу, как почтальон с места ударяется в резвую рысь. Я собираюсь крикнуть ему, чтобы остановился, но, видя, что Редегонда смеется во все горло, оставляю его скакать, намереваясь, однако, приказать ему остановиться, когда Редегонда, отсмеявшись, скажет, что достаточно. Но не тут то было. Мы проехали с полмили, когда она начала говорить.
– Я так засмеялась, – говорит она, – понимая, какую интерпретацию даст моя мать этой забавной истории, как бы упавшей с неба, потому что я подумала сесть в коляску лишь только на мгновенье; затем я смеялась над почтальоном, который, разумеется, не должен был меня умыкать по вашему приказу.
– Разумеется, нет.
– Моя мать, между тем, верит в обратное. Не правда ли, это забавно?
– Очень забавно; но мне нравится эта авантюра. Моя дорогая Редегонда, я отвезу вас в Брюнсвик, и вам будет здесь лучше, чем в почтовой карете.
– Ох! Это значило бы зайти в шалости слишком далеко. Мы остановимся на первой станции и подождем там карету.
– Как прикажете; но я! По правде, это не доставляет мне удовольствия.
– Как! У вас хватит духу оставить меня на станции одну?
– Никогда, моя очаровательная Редегонда. Вы знаете, что я всегда вас люблю. Я готов отвезти вас в Брюнсвик, повторяю вам это.
– Если вы меня любите, вы подождете и передадите прямо в руки матери, которая сейчас в отчаянии.
– Дорогая подруга, не надейтесь на это.
Юная сумасшедшая снова начинает смеяться, и пока она смеется, я составляю и совершенствую забавный план везти ее с собой в Брюнсвик.
Мы прибываем на станцию; там нет лошадей; я делаю почтальона услужливым, и после легкого освежения мы направляемся к следующей почте, уже в сумерках, по плохой дороге. Я заказываю лошадей, оставляя Редегонде говорить все, что она хочет. Я знаю, что карета прибудет сюда к полуночи, и что тогда мать вернет себе свою дочь. Я не хочу в этом участвовать. Я еду всю ночь и останавливаюсь в Липстадте, где, несмотря на поздний час, заказываю поесть. Редегонда нуждается во сне, так же как и я, но должна согласиться, когда я ласково говорю ей, что мы поспим в Миндене. Впрочем, я вижу ее улыбку, потому что она прекрасно знает, чего ей ждать. Мы там ужинаем и проводим пять часов в одной постели. Она заставляет себя просить лишь для проформы. Если бы при ней не было ее благородной матери, когда я познакомился с ней во Флоренции у Палези, я не связался бы тогда с Кортичелли, которая причинила мне множество неприятностей. После слишком короткого отдыха в Миндене я остановился вечером в Ганновере, где в превосходной таверне мы получили отличную еду. Я встретил там того же сомелье, что был в Цюрихе, когда я угощал дам из Золотурна. Мисс Шеделиг обедала здесь с герцогом Кингстонским, затем уехала в Берлин. Он приготовил им крюшон из десяти лимонов со льдом, который они лишь слегка попробовали; мы этим воспользовались, затем мы легли спать в раскладной кровати по-французски.
На завтра нас разбудил шум прибывшей почтовой кареты. Вот Редегонда, которая не хотела, чтобы ее мать застала ее в постели, и вот я, – вызываю сомелье, чтобы сказать, чтобы он не водил в нашу комнату такую-то женщину, которая, выйдя из кареты, попросит отвести ее куда-нибудь, – но слишком поздно. В тот момент, когда я отворяю дверь, – мать тут как тут, входит со своим сыном, и мы двое в рубашках. Я говорю ее сыну подождать снаружи и закрываю дверь. Эта мать принимается ругаться и жаловаться, что мы ее обманули, и начинает мне грозить, если я не верну ей ее дочь. Ее дочь, рассказав ей подробно всю историю, заставляет ее согласиться, что единственно случай заставил ее уехать вместе со мной. Мать, наконец, сама хочет ей поверить.
– Но, – говорит она, – ты не можешь отрицать, плутовка, что спала с ним.
Та отвечает со смехом, что это другое дело, и что не грешат, когда спят. Она ее обнимает и успокаивает, говоря, что пошла одеваться, и что она поедет вместе с ней в карете в Брюнсвик.
После этого урегулирования я одеваюсь, заказываю лошадей и, накормив их завтраком, направляюсь в Брюнсвик, куда прибываю на три часа раньше их. Редегонда заставляет меня отказаться от намерения посетить Габриеллу, которая должна быть, вместе со своей матерью и двумя сестрами, в имении, которое она мне называла.
Я поселился в хорошей гостинице и сразу известил Датури о моем приезде. Он появился передо мной, элегантно одетый и стремящийся представить меня великолепному г-ну Николини, который был генеральным антрепренером спектаклей города и двора. Этот мужчина, обладающий всеми знаниями, необходимыми в его ремесле, пользовался благоволением просвещенного принца, своего хозяина, а дочь его, Анна, была любовницей принца; он жил с блеском. Он очень хотел поселить меня у себя, но я от этого уклонился. Я, однако, отметил его стол, достойный моего внимания не только из-за великолепного повара, но и благодаря компании, доставляющей гораздо больше удовольствия, чем те, что состоят из людей культурных, чье веселье, замешанное на этикете, утомляет. Компания у Николини состояла из людей таланта. Адепты музыки, танца, мужчины и женщины, являли моему взору самое достойное зрелище. Я был выздоравливающим, и я не был более богатым. Если бы не это, я бы быстро покинул гостеприимный Брюнсвик. Не позднее чем назавтра Редегонда пришла туда на обед. Весь народ знал, уж не знаю откуда, что это со мной она путешествовала от Везеля до Ганновера.
Я пошел туда в восемь часов. У него была бородка в дюйм длиной и стояло более двадцати перегонных кубов с жидкостями внутри, из которых некоторые вываривались на песке на открытом пламени. Он сказал, что работает над красками, для развлечения, и что он основал фабрику шляп, чтобы доставить удовольствие графу Кобенцль, полномочному представителю императрицы Марии-Терезии в Брюсселе. Он сказал, что получил от него только двадцать пять тысяч флоринов, чего недостаточно, но он рассчитывает на добавление. Мы поговорили о мадам д’Юрфэ, и он мне сказал, что она отравилась, приняв слишком сильную дозу универсального снадобья.
– Ее завещание доказывает, – сказал он мне, – что она полагала, что беременна, и она могла бы ею быть, если бы проконсультировалась со мной. Эта операция из самых легких, но нельзя быть заранее уверенным, будет ли плод мужским или женским.
Когда он узнал, какая у меня болезнь, он посоветовал мне остаться в Турнау только на три дня и делать то, что он мне скажет. Он заверил, что я уеду со всеми вскрытыми бубонами. Он дал мне после этого пятнадцать пилюль, которые, принимая по одной за раз, я за пятнадцать дней полностью восстановлюсь. Я поблагодарил его за все, и ничего не стал принимать. После этого он показал мне свой архей, который он называл Атое-тер[2 - алхимические средства – прим. перев.]. Это была белая жидкость в маленьком пузырьке, похожем на множество других, которые там находились. Они были закупорены воском. Когда он сказал мне, что это универсальный природный дух, и что свидетельством этого является то, что этот дух мгновенно исчезнет из пузырька, стоит только проделать в воске маленькую дырочку иглой, я попросил его показать эксперимент. Он дал мне пузырек и иглу, сказав, чтобы я сам это проделал. Я проткнул воск и через мгновенье увидел, что пузырек опустел.
– Это превосходно, но для чего это может быть нужно?
– Не могу вам этого сказать.
Желая, по своему обыкновению, отпустить меня только в состоянии изумления, он спросил, есть ли у меня монета, и я достал одну из кармана и положил на стол. Он поднялся, ничего мне не говоря, взял горящий уголек, который положил на металлическую пластину, потом попросил у меня монету в двенадцать су, что лежала на столе, положил на нее маленькую черную крупинку и положил это все на уголь, затем стал обдувать это все паяльной лампой, и менее чем в две минуты я увидел собственными глазами, что моя монета стала красной. Он сказал подождать, пока она остынет, что и произошло через минуту. После этого он сказал, смеясь, чтобы я забрал себе монету, потому что она моя. Я сразу увидел, что она из золота, но, хотя я и был убежден, что он ловко подменил мою и положил на ее место золотую, которую очень легко мог отбелить, я не захотел его в этом уличить. Поаплодировав, я сказал, что в следующий раз, чтобы с уверенностью убедить всех самым явным образом, он должен заранее предупредить их, что собирается произвести трансмутацию, чтобы думающий человек мог внимательно рассмотреть свою серебряную монету перед тем, как положить ее на горячий уголь. Он ответил, что те, кто может сомневаться в его науке, недостойны того, чтобы с ними разговаривать. Это его обычная манера разговаривать. Это было в последний раз, когда я видел этого знаменитого и ученого обманщика, который умер в Шлезвике шесть или семь лет назад. Монета в двенадцать су была из чистого золота. Я отдал ее два месяца спустя лорду маршалу Кейту в Берлине, который ею заинтересовался.
Я выехал из Торнау на следующий день в четыре часа утра и остановился в Брюсселе, чтобы подождать ответа на письмо, что я написал в Венецию г-ну де Брагадин, в котором я просил его оплатить мой вексель, который я должен был получить в Лондоне. Я получил это письмо пять дней спустя после моего прибытия вместе с платежным письмом на две сотни голландских дукатов на м-м Нетин. Я думал там остановиться, чтобы пройти полный курс лечения, потому что Датури мне сказал, что будет учиться на танцора на канате, что его отец и мать и вся его семья находятся в Брунсвике, где, если я туда поеду, он заверяет, что я получу всякое участие, какого только могу пожелать, и буду себя чувствовать там, как если бы я был у себя. Он убедил меня. Я знал наследного принца, который сегодня правит; кроме того, мне было любопытно увидеть через двадцать один год мать Датури. Я выехал из Брюсселя сразу, но в Рюрмонде почувствовал себя столь плохо, что не думал, что смогу продолжить свое путешествие. Проезжая через Льеж, я встретил м-м Малиньян, вдовую и в нищете. Тридцать шесть часов постели меня привели к мысли, что я смогу выдержать, и я поехал в моей почтовой коляске, с которой я все время впадал в отчаяние, поскольку почтовые лошади совершенно не могли приспособиться к оглобле; я решил сменить ее в Везеле. Едва добравшись до гостиницы, я лег в постель и сказал Датури пойти договориться поменять ее на коляску на четырех колесах. На следующий день я был весьма удивлен, увидев в моей комнате генерала Бекевиц. После обычных расспросов, соболезнований о моем здоровье генерал сказал, что он купит себе мою коляску и даст мне другую, удобную для путешествия по всей Германии, и это было тут же проделано; но когда бравый англичанин узнал от меня детально, в каком я состоянии, он посоветовал мне пройти лечение в Везеле, где имеется молодой врач лейденской школы, очень надежный и умелый. Нет ничего легче, чем поменять решение и мнение больного человека, опечаленного, не имеющего никаких планов, ищущего удачи и, в максимальной степени sequere Deum[3 - следуя за богом], не знающего, где ее обрести. Г-н Бекевиц, который стоял в гарнизоне Везеля вместе со своим полком, послал сразу за доктором Пипером и хотел присутствовать при моей исповеди и даже при обследовании. Я не хочу возмущать читателя описанием несчастного состояния, в котором я находился. Этот молодой врач, который был сама нежность, сказал мне, что, уложив меня у себя, где он пообещал мне от своей матери и своих сестер всякое участие, которого я только могу пожелать, он обещает меня вылечить в шесть недель, если я буду следовать всем его указаниям. Генерал убедил меня согласиться, и я сам этого пожелал, потому что хотел в Брунсвике развлекаться, а не являться туда в состоянии паралича во всех своих членах. Я согласился, вопреки моему сыну, который горел желанием иметь честь вылечить меня у себя дома. Доктор Пипер не хотел слышать разговоров об условиях. Он сказал, что при отъезде я дам ему то, что захочу, и наверняка он будет этим доволен. Он ушел, чтобы велеть приготовить мне свою комнату, потому что у него она была только одна, сказав, что я могу направляться туда через час. Я велел переправить туда весь мой багаж и на портшезе приехал к нему, держа платок у лица, стыдясь показаться таким перед матерью и сестрами этого почтенного врача, который был там в окружении нескольких своих дочерей, на которых я не осмеливался смотреть. Когда я оказался в моей комнате, Датури меня раздел, и я лег в кровать.
Глава III
В час ужина доктор пришел в мою комнату вместе со своей матерью и одной из своих сестер, которые заверили, что окружат меня вниманием. Их добрый характер был запечатлен на их лицах.
Когда они ушли, он сообщил мне метод, который он хочет применить, чтобы восстановить мое здоровье. Потогонная птисана (отвар) и ртутные пилюли должны были меня избавить от яда, который вел меня в могилу. Я должен был подчиниться строгой диете и отказаться от любых усилий. Я заверил его, что подчинюсь всем его правилам. Он обещал, что будет читать мне два раза в неделю газету, и он сообщил мне сразу новость, что м-м де Помпадур мертва.
Итак, я был приговорен к отдыху, необходимому, согласно его мнению, для успеха его лечения; но убийственному, с другой стороны, поскольку я чувствовал, что скука меня убьет. Доктор сам этого боялся, и посоветовал мне терпеть, чтобы его сестра пришла работать в моей комнате вместе с двумя или тремя своими подругами. Моя кровать стояла в алькове с занавесками, и они меня не могли смущать. Я попросил его, чтобы мне доставили это облегчение, и его сестра была рада услужить мне этим, потому что комната, которую я занимал, была единственной в доме, имеющей окна наружу. Но это обстоятельство стало фатальным для Датури.
Этот мальчик, который учился только своему ремеслу, мог только скучать, проводя все время со мной; поэтому, когда он увидел, что, находясь в доброй компании, я могу обойтись без него, он стал думать только о том, чтобы развлекаться целый день, отправляясь прогуляться то туда, то сюда. На третий день нашего пребывания в Везеле его принесли к вечеру в дом сильно избитого. Он вздумал развлекаться в кордегардии с солдатами, которые затеяли с ним ссору, и дело кончилось тем, что его отдубасили. На него было жалко смотреть. Весь в крови, с не менее чем тремя выбитыми зубами, он рассказал со слезами о своей беде, упрашивая меня отомстить. Я отправил моего доктора рассказать об этом деле генералу Бекевиц, который пришел сказать, что он не знает, что здесь поделать, и единственное, что он может, это отправить его лечиться в госпиталь. Не имея переломов костей, он поправился через восемь дней, и я отправил его в Брюнсвик с паспортом от генерала Соломона. Три зуба, что он потерял в битве, гарантировали его от опасности быть взятым в солдаты. Он ушел пешком, и я обещал, что приеду его повидать, когда буду в состоянии ехать.
Этот парень был красивый и хорошо сложенный. Он умел только немного писать, и был обучен только танцевать на канате и устраивать фейерверки. Он был бравый и увлекался честной игрой. Он немного слишком любил вино и не имел никаких склонностей, кроме обычной – к прекрасному полу. Я знал нескольких людей, которые были обязаны своей фортуной женщинам, несмотря на свое безразличие к сексу.
Через месяц я почувствовал себя выздоровевшим и в состоянии ехать, хотя и очень похудел. Представление, что я оставил по себе в доме доктора Пипера, относительно моего характера, не было похоже на меня. Меня сочли самым спокойным из людей, и его сестра, вместе со своими красивыми подругами – за самого скромного. Все мои добродетели пришли вместе с болезнью. Чтобы судить о человеке, следует изучать его поведение, когда он здоров и свободен; больной или в тюрьме он – другой.
Я подарил платье м-ль Пипери, дал двадцать луи доктору. Накануне моего отъезда я получил письмо от м-м дю Рюмэн, которая, узнав, что я нуждаюсь в деньгах, отправила мне платежное письмо на шесть сотен флоринов на Амстердам, на банк. Она написала, что я верну ей эту сумму, когда мне будет удобно, но она умерла до того, как я смог рассчитаться с этим долгом.
Решив ехать в Брюнсвик, я не смог воспротивиться желанию заехать в Ганновер. Когда я вспоминал Габриеллу, я еще ее любил. Я не думал там остановиться, поскольку уже не был богат и, кроме того, выздоровление требовало от меня беречь мое восстанавливающееся здоровье. Я хотел только с ней встретиться, нанеся короткий визит на ее земле, где она, как говорила мне, живет около Стокена. Примешивалось также и любопытство.
Итак, я решил ехать на рассвете, в одиночку, в коляске, которую мне дал английский генерал в обмен на мою двухколесную, но так не получилось.
Записка, которую написал мне генерал, в которой он просил меня к себе на ужин, где я встречу компанию из моей страны, заставила меня принять приглашение. Если бы мы остались за столом очень допоздна, я рассчитывал выехать позже. Я отправился, таким образом, к г-ну Бекевиц, пообещав доктору воздерживаться от всяких излишеств.
Какой сюрприз, когда, войдя в его комнату, я вижу пармезанку Редегонду с ее чертовой матерью! Она сначала меня не узнала, но ее дочь сразу меня назвала, сказав, что я очень похудел. Я сказал ей, что она стала еще красивее, и это была правда. Восемнадцать месяцев, добавленных к ее возрасту, могли только усилить ее очарование. Я объяснил, что вышел только что из тяжелой болезни, и что я собираюсь выехать на рассвете в Брюнсвик.
– И мы тоже, – говорит она, глядя на мать.
Генерал, очарованный тем, что мы знакомы, добавил, что мы могли бы ехать вместе, и, улыбаясь, я ответил ему, что это было бы затруднительно, по крайней мере, если м-м мать не восприняла новых принципов. Она ответила, что она все время прежняя.
Захотели продолжить игрой. Генерал таллировал в маленький банк фараон. Было две или три другие дамы и офицеры, и играли очень по-малой. Он предложил мне карту, и я, поблагодарив, отказался, сказав, что я никогда не играю, когда путешествую.
В конце тальи генерал сказал мне, что знает, почему я не играю, и достал из своего портфеля билеты английского банка.
– Это, – сказал он, – те билеты, что вы дали мне в уплату шесть месяцев назад в Лондоне. Возьмите реванш. Здесь 400 фунтов стерлингов.
– У меня нет желания, – говорю я ему, – столько проигрывать. Я проиграю только пятьдесят гиней, и в бумагах тоже, только чтобы вас развлечь.
Говоря так, я достаю из своего кошелька, где у меня 200 дукатов золотом, обменное письмо, которое графиня де Рюмэн отправила мне.
Он продолжает таллировать, и на третьей талье я оказываюсь в выигрыше на пятьдесят гиней, которые он мне платит английскими бумагами, когда я говорю, что достаточно. В этот момент объявляют, что ужин подан, и мы садимся за стол. Редегонда, которая очень хорошо научилась говорить по-французски, развлекала всю компанию. Она направлялась на службу к герцогу Брюнсвика второй музыкальной виртуозкой, ангажированной Николини, и приехала из Брюсселя. Она сожалела, что предприняла это путешествие в почтовых каретах, в которых ей было очень неудобно, до того, что она была уверена, что прибудет в Брюнсвик совершенно больной.
– Вот шевалье де Сейнгальт, – сказал ей генерал, который совсем один, и у которого превосходная коляска. Езжайте вместе с ним.
Редегонда улыбается. Ее мать спрашивает, сколько мест в моей коляске, и генерал отвечает за меня, что она на двоих. Мать говорит, что это невозможно, потому что она не отпустит свою дочь одну ни с кем. На этот ответ раздается всеобщий взрыв смеха, включая и Редегонду, которая, отсмеявшись, говорит, что ее мама все время боится, что ее кто-нибудь убьет.
Переходят к другим темам и очень весело остаются за столом до часу. Редегонда, не заставляя себя долго упрашивать, садится за клавесин и поет арию, которая доставляет удовольствие всей компании.
Когда я собрался уходить, генерал пригласил меня позавтракать, сказав, что почтовая карета уходит только в полдень, и что я обязан это сделать из вежливости по отношению к своей соотечественнице, и она присоединяется, упрекая меня некоторыми подробностями Флоренции и Турина, где мне не в чем было ее упрекнуть; но я, тем не менее, возвращаюсь домой спать, так как в этом нуждаюсь. Назавтра в девять часов я прощаюсь с доктором и всем его семейством и иду пешком к генералу, чтобы там позавтракать, оставив распоряжение, чтобы, как только лошади будут запряжены, коляска стояла готовая у его дверей, потому что я решительно хотел ехать сразу после завтрака. Полчаса спустя приходит Редегонда со своей матерью, и я удивлен, видя ее с братом, который служил мне во Флоренции в качестве местного слуги.
После завтрака, который получился очень веселым, моя коляска уже была там, готовая, я раскланялся с генералом и со всей компанией, которая вышла из залы, чтобы увидеть мой отъезд. Редегонда, спросив у меня, удобна ли моя коляска, поднимается в нее, и очень просто я туда поднимаюсь тоже, не имея заранее никакой мысли, но я немало удивлен, когда, едва поднявшись в коляску, вижу, как почтальон с места ударяется в резвую рысь. Я собираюсь крикнуть ему, чтобы остановился, но, видя, что Редегонда смеется во все горло, оставляю его скакать, намереваясь, однако, приказать ему остановиться, когда Редегонда, отсмеявшись, скажет, что достаточно. Но не тут то было. Мы проехали с полмили, когда она начала говорить.
– Я так засмеялась, – говорит она, – понимая, какую интерпретацию даст моя мать этой забавной истории, как бы упавшей с неба, потому что я подумала сесть в коляску лишь только на мгновенье; затем я смеялась над почтальоном, который, разумеется, не должен был меня умыкать по вашему приказу.
– Разумеется, нет.
– Моя мать, между тем, верит в обратное. Не правда ли, это забавно?
– Очень забавно; но мне нравится эта авантюра. Моя дорогая Редегонда, я отвезу вас в Брюнсвик, и вам будет здесь лучше, чем в почтовой карете.
– Ох! Это значило бы зайти в шалости слишком далеко. Мы остановимся на первой станции и подождем там карету.
– Как прикажете; но я! По правде, это не доставляет мне удовольствия.
– Как! У вас хватит духу оставить меня на станции одну?
– Никогда, моя очаровательная Редегонда. Вы знаете, что я всегда вас люблю. Я готов отвезти вас в Брюнсвик, повторяю вам это.
– Если вы меня любите, вы подождете и передадите прямо в руки матери, которая сейчас в отчаянии.
– Дорогая подруга, не надейтесь на это.
Юная сумасшедшая снова начинает смеяться, и пока она смеется, я составляю и совершенствую забавный план везти ее с собой в Брюнсвик.
Мы прибываем на станцию; там нет лошадей; я делаю почтальона услужливым, и после легкого освежения мы направляемся к следующей почте, уже в сумерках, по плохой дороге. Я заказываю лошадей, оставляя Редегонде говорить все, что она хочет. Я знаю, что карета прибудет сюда к полуночи, и что тогда мать вернет себе свою дочь. Я не хочу в этом участвовать. Я еду всю ночь и останавливаюсь в Липстадте, где, несмотря на поздний час, заказываю поесть. Редегонда нуждается во сне, так же как и я, но должна согласиться, когда я ласково говорю ей, что мы поспим в Миндене. Впрочем, я вижу ее улыбку, потому что она прекрасно знает, чего ей ждать. Мы там ужинаем и проводим пять часов в одной постели. Она заставляет себя просить лишь для проформы. Если бы при ней не было ее благородной матери, когда я познакомился с ней во Флоренции у Палези, я не связался бы тогда с Кортичелли, которая причинила мне множество неприятностей. После слишком короткого отдыха в Миндене я остановился вечером в Ганновере, где в превосходной таверне мы получили отличную еду. Я встретил там того же сомелье, что был в Цюрихе, когда я угощал дам из Золотурна. Мисс Шеделиг обедала здесь с герцогом Кингстонским, затем уехала в Берлин. Он приготовил им крюшон из десяти лимонов со льдом, который они лишь слегка попробовали; мы этим воспользовались, затем мы легли спать в раскладной кровати по-французски.
На завтра нас разбудил шум прибывшей почтовой кареты. Вот Редегонда, которая не хотела, чтобы ее мать застала ее в постели, и вот я, – вызываю сомелье, чтобы сказать, чтобы он не водил в нашу комнату такую-то женщину, которая, выйдя из кареты, попросит отвести ее куда-нибудь, – но слишком поздно. В тот момент, когда я отворяю дверь, – мать тут как тут, входит со своим сыном, и мы двое в рубашках. Я говорю ее сыну подождать снаружи и закрываю дверь. Эта мать принимается ругаться и жаловаться, что мы ее обманули, и начинает мне грозить, если я не верну ей ее дочь. Ее дочь, рассказав ей подробно всю историю, заставляет ее согласиться, что единственно случай заставил ее уехать вместе со мной. Мать, наконец, сама хочет ей поверить.
– Но, – говорит она, – ты не можешь отрицать, плутовка, что спала с ним.
Та отвечает со смехом, что это другое дело, и что не грешат, когда спят. Она ее обнимает и успокаивает, говоря, что пошла одеваться, и что она поедет вместе с ней в карете в Брюнсвик.
После этого урегулирования я одеваюсь, заказываю лошадей и, накормив их завтраком, направляюсь в Брюнсвик, куда прибываю на три часа раньше их. Редегонда заставляет меня отказаться от намерения посетить Габриеллу, которая должна быть, вместе со своей матерью и двумя сестрами, в имении, которое она мне называла.
Я поселился в хорошей гостинице и сразу известил Датури о моем приезде. Он появился передо мной, элегантно одетый и стремящийся представить меня великолепному г-ну Николини, который был генеральным антрепренером спектаклей города и двора. Этот мужчина, обладающий всеми знаниями, необходимыми в его ремесле, пользовался благоволением просвещенного принца, своего хозяина, а дочь его, Анна, была любовницей принца; он жил с блеском. Он очень хотел поселить меня у себя, но я от этого уклонился. Я, однако, отметил его стол, достойный моего внимания не только из-за великолепного повара, но и благодаря компании, доставляющей гораздо больше удовольствия, чем те, что состоят из людей культурных, чье веселье, замешанное на этикете, утомляет. Компания у Николини состояла из людей таланта. Адепты музыки, танца, мужчины и женщины, являли моему взору самое достойное зрелище. Я был выздоравливающим, и я не был более богатым. Если бы не это, я бы быстро покинул гостеприимный Брюнсвик. Не позднее чем назавтра Редегонда пришла туда на обед. Весь народ знал, уж не знаю откуда, что это со мной она путешествовала от Везеля до Ганновера.