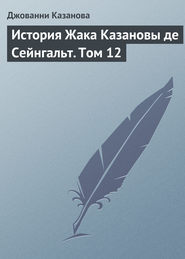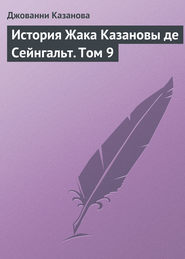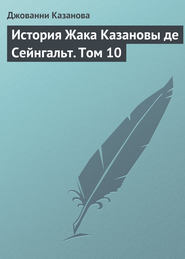По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 8
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Очень хорошо, но, тысяча чертей, вы могли бы вмешаться и избавить меня от оскорбления, которое меня позорит.
– Я мог бы, но ничто меня к этому не принуждает. Но впрочем, вы должны знать свои права. У Шмита не было шпаги, но я полагаю его человеком чести, и вы правильно бы поступили, если бы набрались смелости и отдали ему его деньги, потому что, в конце концов, вы проиграли.
Офицер по имени де Пийен отвел меня в сторону и сказал, что сам заплатит мне двадцать луи, которые д’Аше сунул себе в карман, но нужно, чтобы Шмит дал тому удовлетворение со шпагой в руке. Я не колеблясь пообещал ему, что швейцарец расплатится по этому долгу, и взялся дать ему положительный ответ завтра на том же месте.
Я не мог в себе сомневаться. Порядочный человек при оружии должен всегда быть готов применить его, чтобы отразить оскорбление, задевающее его честь, или оправдать оскорбление, нанесенное им самим. Я знал, что это предубеждение, которое считают, и, быть может, справедливо, предубеждением варварским, но есть общественные предубеждения, от которых человек чести не может отказаться, и Шмит казался мне порядочным человеком.
Я явился к нему на следующий день на рассвете; он еще не вставал. Когда он меня увидел, он сказал:
– Я уверен, что вы пришли пригласить меня драться с д’Аше. Я готов стреляться, чтобы доставить ему удовольствие, но при условии, что он сначала заплатит мне двадцать луи, которые он у меня украл.
– Вы получите их завтра утром, и я буду с вами. У д’Аше секундантом будет г-н де Пийен.
– Договорились. Жду вас здесь завтра на рассвете.
Я увиделся с де Пийеном два часа спустя и мы назначили встречу на шесть часов утра следующего дня, с двумя пистолетами. Мы выбрали сад в полу-лье от города.
На рассвете я нашел моего швейцарца, который ждал меня у дверей своего жилья, напевая пастушеские мелодии, столь дорогие сердцу его соотечественников. Я счел это хорошим предзнаменованием.
– Вот и вы, – сказал он, – пойдем.
Дорогой он мне сказал:
– Я в жизни дрался только с порядочными людьми, и мне трудно идти убивать мошенника; это должно быть делом палача.
– Я понимаю, – ответил я ему, – что неприятно рисковать собой перед человеком подобного сорта.
– Я ничем не рискую, – говорит Шмиц, смеясь, – потому что уверен, что убью его.
– Как это уверены?
– Весьма уверен, потому что я заставлю его дрожать.
Он был прав. Этот секрет неоспорим, когда знаешь, как его применять, и когда имеешь дело с трусом. Мы застали на месте д’Аше и Пийена и увидели еще пять или шесть человек, которых наверняка привлекло сюда любопытство.
Д’Аше вынул из кармана двадцать луи и передал их своему противнику, говоря:
– Я могу ошибаться, но я заставлю сейчас вас заплатить за вашу грубость.
Затем, повернувшись ко мне, сказал:
– Я должен вам двадцать луи.
Я не ответил.
Шмит, положив золото в свой кошелек с самым спокойным видом и ничего не ответив фанфарону, встал между двух деревьев, растущих на расстоянии примерно четырех шагов друг от друга, достал из кармана два подходящих пистолета и сказал д’Аше:
– Вам надо будет встать в десяти шагах и стрелять первым. Промежуток между этими двумя деревьями – это место, где я буду прогуливаться. Вы также сможете прогуливаться, если вам угодно, когда настанет моя очередь стрелять.
Было невозможно выразиться более ясным образом или объясниться с большим спокойствием.
– Но, – сказал я, – следует решить, за кем первый выстрел.
– Это бесполезно, – говорит Шмит, – я никогда не стреляю первым; впрочем, это право месье.
Де Пийен отвел своего друга на указанную дистанцию, затем стал в стороне, как и я, и д’Аше выстрелил в своего противника, который прогуливался медленным шагом, не глядя на него. Шмит развернулся совершенно хладнокровно и сказал:
– Вы промахнулись, месье, я уверен в этом; начните снова.
Я решил, что он сошел с ума, и ждал переговоров. Но не тут то было. Д’Аше согласился стрелять второй раз, выстрелил и снова промахнулся в своего противника, который, не говоря ни слова, но с твердым и уверенным видом, выстрелил первый раз в воздух, затем, перезарядив второй пистолет д’Аше, поразил его в середину лба и уложил замертво. Уложив свои пистолеты в карман, Шмит в тот же миг ушел один, как если бы продолжил свою прогулку. Я ушел также через две минуты, когда убедился, что несчастный д’Аше лежит без жизни.
Я был поражен, так как подобная дуэль мне показалась скорее сном, эпизодом из романа, чем реальностью. Я не мог этому поверить, потому что не заметил ни малейшей перемены в бесстрастном лице швейцарца.
Я явился завтракать с м-м д’Юрфэ, которую нашел безутешной, так как это был день полнолуния, и в четыре часа и три минуты я должен был провести таинственное сотворение ребенка, в которого она должна была воплотиться. Однако, божественная Ласкарис, которая должна была стать избранным сосудом, извивалась в своей постели, сотрясаясь от конвульсий, которые делали для меня невозможным выполнение детородного дела.
При рассказе, что поведала мне об этой помехе безутешная м-м д’Юрфэ, я лицемерно горевал, потому что злостное поведение танцовщицы было мне как нельзя кстати, во-первых, потому, что она не вызывала больше во мне никакого желания, а во вторых, потому что я рассчитывал извлечь пользу из этого обстоятельства, чтобы отомстить ей и ее наказать.
Я рассыпался в соболезнованиях м-м д’Юрфэ и, проконсультировавшись с оракулом, нашел, что малышка Ласкарис была испорчена черным духом, и что я должен отправиться разыскивать предопределенную деву, чья чистота находится под защитой высших духов. Видя, что безумица совершенно счастлива от обещаний оракула, я покинул ее, чтобы повидаться с этой Кортичелли, которую нашел в постели, с матерью, сидящей рядом.
– Значит, у тебя конвульсии, дорогая, – сказал я ей.
– Нет, я чувствую себя хорошо, но они у меня будут, – сказала она, – пока ты не вернешь мне мои драгоценности.
– Ты стала злой, моя бедная малышка, и это последовало от советов твоей матери. Что касается драгоценностей, с таким поведением ты их, возможно, не получишь вообще.
– Я все раскрою.
– Тебе не поверят, и я отправлю тебя в Болонью, не оставив никаких подарков, что сделала тебе м-м д’Юрфэ.
– Ты должен сейчас же вернуть мне драгоценности, или я объявлю себя беременной, что есть и на самом деле. Если ты не удовлетворишь мое требование, я сейчас же пойду рассказать все старой сумасшедшей, и мне неважно, что произойдет.
Очень удивленный, я смотрел на нее, не говоря ни слова, но раздумывал при этом, как мне избавиться от этой бесстыдницы. Синьора Лаура сказала со спокойным видом, что это совершенная правда, что ее дочь беременна, но не от меня.
– Но тогда от кого же? – спросил я.
– От графа де Н…, у которого она была любовницей в Праге.
Это показалось мне невозможным, так как она не показывала никаких симптомов беременности, но, в конце концов, такое могло быть. Озабоченный необходимостью переиграть этих двух мошенниц, я вышел, ничего им не сказав, и пошел запереться с м-м д’Юрфэ, чтобы проконсультироваться у оракула по поводу операции, которая должна была ее осчастливить.
После множества вопросов, более темных, чем те гадания, что творила Пифия перед дельфийским треножником, и объяснениями которых я, соответственно, забрасывал бедную увлеченную д’Юрфэ, она сама пришла к выводу, и я, разумеется, поостерегся ей возразить, что бедная Ласкарис сделалась безумной. Поддакивая всем ее опасениям, я добился того, что заставил ее найти в куче каббалистической ерунды, что принцесса не может соответствовать ожиданиям, потому что осквернена черным духом, врагом ордена розенкрейцеров; и поскольку она была на верном пути, она сама добавила, что юная дева беременна гномом.
Она нагромоздила затем еще кучу измышлений, чтобы узнать, каким образом мы теперь должны действовать, чтобы наверняка достичь нашей цели, и я обставил все таким образом, чтобы она сама пришла к выводу, что должна написать непосредственно луне.
Это красивое умозаключение, которое должно было вернуть ее к разуму, наполнило ее радостью. Она находилась в пароксизме энтузиазма, и я был теперь уверен, более, чем когда-либо, что если бы я захотел уверить ее в несбыточности ее надежд, ума не приложу, как я это смог бы сделать. Она тотчас бы вообразила, что враждебный дух овладел мной, и что я перестал быть истинным розенкрейцером. Но я был далек от мысли предпринять лечение, которое стало бы для меня столь невыгодным, будучи при этом для нее полностью бесполезным. Ее химеры делали ее счастливой, и несомненно, возвращение к правде сделало бы ее несчастной.
Теперь она приняла решение писать луне, с тем большей радостью, что ей знаком был культ, который поклоняется этой планете, и церемонии, которые необходимо было совершить, но она могла их провести только при содействии адепта, и я знал, что она рассчитывает на меня. Я сказал, что буду целиком в ее распоряжении, но следует ждать первой фазы ближайшей луны, что она и без меня знала. Я был озабочен тем, чтобы выиграть время, потому что, потеряв много в игре, мне нельзя было покинуть Экс-ла-Шапель, пока я не пополню счет векселя, что я направил г-ну д’О. в Амстердам. А пока мы согласились, что малышка Ласкарис сошла с ума и мы не будем обращать внимания на все то, что она, в своих приступах безумия, может говорить, поскольку ее ум находится во власти злого гения и это он внушает ей эти слова.
Мы решили, однако, что, поскольку ее состояние достойно жалости и следует делать ее существование сколь можно более мягким, она будет продолжать питаться вместе с нами, но по вечерам, выйдя со стола, будет отправляться спать в комнату своей гувернантки.
– Я мог бы, но ничто меня к этому не принуждает. Но впрочем, вы должны знать свои права. У Шмита не было шпаги, но я полагаю его человеком чести, и вы правильно бы поступили, если бы набрались смелости и отдали ему его деньги, потому что, в конце концов, вы проиграли.
Офицер по имени де Пийен отвел меня в сторону и сказал, что сам заплатит мне двадцать луи, которые д’Аше сунул себе в карман, но нужно, чтобы Шмит дал тому удовлетворение со шпагой в руке. Я не колеблясь пообещал ему, что швейцарец расплатится по этому долгу, и взялся дать ему положительный ответ завтра на том же месте.
Я не мог в себе сомневаться. Порядочный человек при оружии должен всегда быть готов применить его, чтобы отразить оскорбление, задевающее его честь, или оправдать оскорбление, нанесенное им самим. Я знал, что это предубеждение, которое считают, и, быть может, справедливо, предубеждением варварским, но есть общественные предубеждения, от которых человек чести не может отказаться, и Шмит казался мне порядочным человеком.
Я явился к нему на следующий день на рассвете; он еще не вставал. Когда он меня увидел, он сказал:
– Я уверен, что вы пришли пригласить меня драться с д’Аше. Я готов стреляться, чтобы доставить ему удовольствие, но при условии, что он сначала заплатит мне двадцать луи, которые он у меня украл.
– Вы получите их завтра утром, и я буду с вами. У д’Аше секундантом будет г-н де Пийен.
– Договорились. Жду вас здесь завтра на рассвете.
Я увиделся с де Пийеном два часа спустя и мы назначили встречу на шесть часов утра следующего дня, с двумя пистолетами. Мы выбрали сад в полу-лье от города.
На рассвете я нашел моего швейцарца, который ждал меня у дверей своего жилья, напевая пастушеские мелодии, столь дорогие сердцу его соотечественников. Я счел это хорошим предзнаменованием.
– Вот и вы, – сказал он, – пойдем.
Дорогой он мне сказал:
– Я в жизни дрался только с порядочными людьми, и мне трудно идти убивать мошенника; это должно быть делом палача.
– Я понимаю, – ответил я ему, – что неприятно рисковать собой перед человеком подобного сорта.
– Я ничем не рискую, – говорит Шмиц, смеясь, – потому что уверен, что убью его.
– Как это уверены?
– Весьма уверен, потому что я заставлю его дрожать.
Он был прав. Этот секрет неоспорим, когда знаешь, как его применять, и когда имеешь дело с трусом. Мы застали на месте д’Аше и Пийена и увидели еще пять или шесть человек, которых наверняка привлекло сюда любопытство.
Д’Аше вынул из кармана двадцать луи и передал их своему противнику, говоря:
– Я могу ошибаться, но я заставлю сейчас вас заплатить за вашу грубость.
Затем, повернувшись ко мне, сказал:
– Я должен вам двадцать луи.
Я не ответил.
Шмит, положив золото в свой кошелек с самым спокойным видом и ничего не ответив фанфарону, встал между двух деревьев, растущих на расстоянии примерно четырех шагов друг от друга, достал из кармана два подходящих пистолета и сказал д’Аше:
– Вам надо будет встать в десяти шагах и стрелять первым. Промежуток между этими двумя деревьями – это место, где я буду прогуливаться. Вы также сможете прогуливаться, если вам угодно, когда настанет моя очередь стрелять.
Было невозможно выразиться более ясным образом или объясниться с большим спокойствием.
– Но, – сказал я, – следует решить, за кем первый выстрел.
– Это бесполезно, – говорит Шмит, – я никогда не стреляю первым; впрочем, это право месье.
Де Пийен отвел своего друга на указанную дистанцию, затем стал в стороне, как и я, и д’Аше выстрелил в своего противника, который прогуливался медленным шагом, не глядя на него. Шмит развернулся совершенно хладнокровно и сказал:
– Вы промахнулись, месье, я уверен в этом; начните снова.
Я решил, что он сошел с ума, и ждал переговоров. Но не тут то было. Д’Аше согласился стрелять второй раз, выстрелил и снова промахнулся в своего противника, который, не говоря ни слова, но с твердым и уверенным видом, выстрелил первый раз в воздух, затем, перезарядив второй пистолет д’Аше, поразил его в середину лба и уложил замертво. Уложив свои пистолеты в карман, Шмит в тот же миг ушел один, как если бы продолжил свою прогулку. Я ушел также через две минуты, когда убедился, что несчастный д’Аше лежит без жизни.
Я был поражен, так как подобная дуэль мне показалась скорее сном, эпизодом из романа, чем реальностью. Я не мог этому поверить, потому что не заметил ни малейшей перемены в бесстрастном лице швейцарца.
Я явился завтракать с м-м д’Юрфэ, которую нашел безутешной, так как это был день полнолуния, и в четыре часа и три минуты я должен был провести таинственное сотворение ребенка, в которого она должна была воплотиться. Однако, божественная Ласкарис, которая должна была стать избранным сосудом, извивалась в своей постели, сотрясаясь от конвульсий, которые делали для меня невозможным выполнение детородного дела.
При рассказе, что поведала мне об этой помехе безутешная м-м д’Юрфэ, я лицемерно горевал, потому что злостное поведение танцовщицы было мне как нельзя кстати, во-первых, потому, что она не вызывала больше во мне никакого желания, а во вторых, потому что я рассчитывал извлечь пользу из этого обстоятельства, чтобы отомстить ей и ее наказать.
Я рассыпался в соболезнованиях м-м д’Юрфэ и, проконсультировавшись с оракулом, нашел, что малышка Ласкарис была испорчена черным духом, и что я должен отправиться разыскивать предопределенную деву, чья чистота находится под защитой высших духов. Видя, что безумица совершенно счастлива от обещаний оракула, я покинул ее, чтобы повидаться с этой Кортичелли, которую нашел в постели, с матерью, сидящей рядом.
– Значит, у тебя конвульсии, дорогая, – сказал я ей.
– Нет, я чувствую себя хорошо, но они у меня будут, – сказала она, – пока ты не вернешь мне мои драгоценности.
– Ты стала злой, моя бедная малышка, и это последовало от советов твоей матери. Что касается драгоценностей, с таким поведением ты их, возможно, не получишь вообще.
– Я все раскрою.
– Тебе не поверят, и я отправлю тебя в Болонью, не оставив никаких подарков, что сделала тебе м-м д’Юрфэ.
– Ты должен сейчас же вернуть мне драгоценности, или я объявлю себя беременной, что есть и на самом деле. Если ты не удовлетворишь мое требование, я сейчас же пойду рассказать все старой сумасшедшей, и мне неважно, что произойдет.
Очень удивленный, я смотрел на нее, не говоря ни слова, но раздумывал при этом, как мне избавиться от этой бесстыдницы. Синьора Лаура сказала со спокойным видом, что это совершенная правда, что ее дочь беременна, но не от меня.
– Но тогда от кого же? – спросил я.
– От графа де Н…, у которого она была любовницей в Праге.
Это показалось мне невозможным, так как она не показывала никаких симптомов беременности, но, в конце концов, такое могло быть. Озабоченный необходимостью переиграть этих двух мошенниц, я вышел, ничего им не сказав, и пошел запереться с м-м д’Юрфэ, чтобы проконсультироваться у оракула по поводу операции, которая должна была ее осчастливить.
После множества вопросов, более темных, чем те гадания, что творила Пифия перед дельфийским треножником, и объяснениями которых я, соответственно, забрасывал бедную увлеченную д’Юрфэ, она сама пришла к выводу, и я, разумеется, поостерегся ей возразить, что бедная Ласкарис сделалась безумной. Поддакивая всем ее опасениям, я добился того, что заставил ее найти в куче каббалистической ерунды, что принцесса не может соответствовать ожиданиям, потому что осквернена черным духом, врагом ордена розенкрейцеров; и поскольку она была на верном пути, она сама добавила, что юная дева беременна гномом.
Она нагромоздила затем еще кучу измышлений, чтобы узнать, каким образом мы теперь должны действовать, чтобы наверняка достичь нашей цели, и я обставил все таким образом, чтобы она сама пришла к выводу, что должна написать непосредственно луне.
Это красивое умозаключение, которое должно было вернуть ее к разуму, наполнило ее радостью. Она находилась в пароксизме энтузиазма, и я был теперь уверен, более, чем когда-либо, что если бы я захотел уверить ее в несбыточности ее надежд, ума не приложу, как я это смог бы сделать. Она тотчас бы вообразила, что враждебный дух овладел мной, и что я перестал быть истинным розенкрейцером. Но я был далек от мысли предпринять лечение, которое стало бы для меня столь невыгодным, будучи при этом для нее полностью бесполезным. Ее химеры делали ее счастливой, и несомненно, возвращение к правде сделало бы ее несчастной.
Теперь она приняла решение писать луне, с тем большей радостью, что ей знаком был культ, который поклоняется этой планете, и церемонии, которые необходимо было совершить, но она могла их провести только при содействии адепта, и я знал, что она рассчитывает на меня. Я сказал, что буду целиком в ее распоряжении, но следует ждать первой фазы ближайшей луны, что она и без меня знала. Я был озабочен тем, чтобы выиграть время, потому что, потеряв много в игре, мне нельзя было покинуть Экс-ла-Шапель, пока я не пополню счет векселя, что я направил г-ну д’О. в Амстердам. А пока мы согласились, что малышка Ласкарис сошла с ума и мы не будем обращать внимания на все то, что она, в своих приступах безумия, может говорить, поскольку ее ум находится во власти злого гения и это он внушает ей эти слова.
Мы решили, однако, что, поскольку ее состояние достойно жалости и следует делать ее существование сколь можно более мягким, она будет продолжать питаться вместе с нами, но по вечерам, выйдя со стола, будет отправляться спать в комнату своей гувернантки.