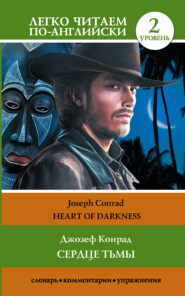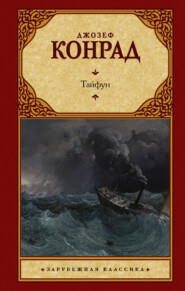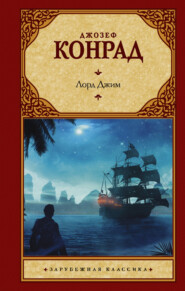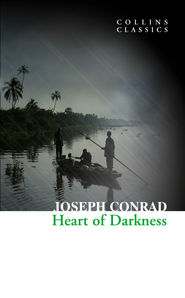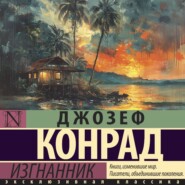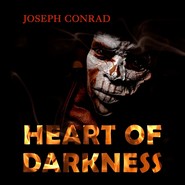По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Личное дело. Рассказы (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Ну, Юзеф, – обратился к нему мой спутник, – как думаешь, доберемся ли домой к шести?» Тот уверенно ответил, что с божьей помощью непременно поспеем, если на длинных перегонах между деревнями, чьи названия прозвучали для меня очень знакомо, не будет глубоких снежных заносов. Кучер он оказался превосходный, легко угадывал дорогу посреди покрытых снегом полей и прекрасно понимал возможности своих лошадей.
«Он сын того Юзефа, которого капитан, наверное, помнит; тот, что был кучером покойной бабушки капитана, благословит господь ее душу», – пояснял В. С., стараясь получше укутать мои ноги в меховой полог.
Я прекрасно помнил верного Юзефа, что возил мою бабушку. Еще бы! Именно он впервые доверил мне вожжи и давал поиграть длиннющим хлыстом для четверки, когда я прибегал на каретный двор.
«Что с ним стало? – спросил я. – Уже, наверное, не служит?»
«До последнего был при господине, – последовал ответ, – а десять лет назад умер от холеры – у нас тогда была страшная эпидемия. Жена его тоже умерла, вообще вся семья, только этот мальчик и остался в живых».
Рукопись «Причуды Олмейера» лежала в сумке у наших ног. Я снова видел, как солнце катится за степь, точно как в детстве, когда мы путешествовали по этим краям. Яркое, красное, оно утопало в снегу, как будто в море. Прошло двадцать три года с тех пор, как я в последний раз наблюдал заход солнца над этой землей. Мы продолжали путь в темноте, быстро спускавшейся на сиреневые cнега, пока из белой пустыни, смыкающейся с усыпанным звездами небом, не выросли черные фигуры – купы деревьев, отделявших деревню от украинской степи. Мы проехали пару домов, низкий, нескончаемый плетень, пока, подмигивая через строй елей, не замерцали огни хозяйского дома.
Тем же вечером я достал странствующую рукопись «Причуды Олмейера» из багажа и положил, так чтобы она не особо бросалась в глаза, на письменный стол в гостевой комнате. Эта комната, как сообщили мне с напускной небрежностью, дожидалась меня лет пятнадцать. Рукописи не досталось и капли того внимания, которым был всецело окружен сын любимой сестры.
«Пока ты гостишь у меня, ты редко будешь предоставлен себе, братец», – сказал дядя. Такая форма обращения, позаимствованная у наших крестьян, служила выражением наилучшего настроения в моменты душевного подъема.
«Я частенько буду заходить к тебе поболтать».
Собственно, для разговоров в нашем распоряжении был целый дом, и мы постоянно ходили друг за другом кругами. Я нарушал тишину его кабинета, где главным предметом интерьера был громадный чернильный прибор чистого серебра, подаренный дяде на пятидесятилетие вскладчину всеми его в то время здравствующими подопечными. Дядя опекал многих сирот из дворянских семей трех южных провинций – с приснопамятного 1860 года. Некоторые из них учились со мной в школе или были товарищами по играм, но, насколько мне известно, никто из них не написал романа. Несколько дядиных подопечных были значительно старше меня. Я помню, как один из них гостил в усадьбе, когда я был еще совсем маленьким. Он впервые посадил меня на лошадь и – с его искусством верховой езды, умением управлять четверкой и мастерством в прочих мужских занятиях – стал одним из первых объектов моего детского восхищения. Я даже, кажется, помню: мама стоит в портике у окон столовой и смотрит, как меня усаживают на пони, которую держит под уздцы, вполне вероятно, тот самый Юзеф, что умер от холеры, – в то время он служил личным кучером бабушки.
Во всяком случае это точно был молодой парень в ливрее кучера – темно-синей куртке и широких казацких шароварах. Дело было году в 1864-м, или, если исчислять время событиями, то был год, когда мать получила разрешение оставить место ссылки, в которую последовала за моим отцом, и отправилась на юг навестить семью. К слову, чтобы уехать в ссылку, ей тоже пришлось испрашивать позволения, и я знаю, что одолжение это было сделано на условии, что с ней самой будут обращаться как со ссыльной. Однако пару лет спустя, в память о ее старшем брате, который служил в Гвардии и рано умер, оставив по себе множество друзей и добрую память в высшем свете Санкт-Петербурга, некоторые влиятельные особы выхлопотали для нее разрешение – официально оно называлось «Высочайшей Милостью» – отлучиться на четыре месяца.
А еще именно в тот год у меня сложился более отчетливый образ матери: она была уже не просто любящее существо, которое всегда рядом и всегда защитит и в чьих глазах под густыми бровями отражалась какая-то властная нежность. И еще я помню большой съезд родни, близкой и далекой, седые головы друзей семьи – все они собрались, чтоб отдать моей матери дань любви и уважения в доме ее дорогого брата, которому всего несколько лет спустя придется заменить мне обоих родителей.
Я не понимал трагического значения всего, что тогда происходило, хотя среди прочих в доме бывали и доктора, я это отчетливо помню. Внешне болезнь еще не проявила себя, но они, полагаю, уже вынесли ей приговор, – разве что переезд в южный климат мог восстановить покидавшие ее силы. Это время представляется самым счастливым периодом моего существования. Рядом была моя кузина, прелестная, задорная девчушка, всего на пару месяцев младше меня; ее жизнь, которую оберегали, как если бы она была наследной принцессой, оборвалась, когда ей было всего пятнадцать. Были и другие дети, многих уже нет в живых, были и те, чьих имен я уже и не вспомню. Над всем этим нависала гнетущая тень великой Российской империи – тень сгущавшегося национализма и ненависти к полякам, которую разжигали московские журналисты новой школы после злополучного восстания 1863 года.
В своих воспоминаниях об этих сформировавших меня событиях я далеко отступил от рукописи «Причуды Олмейера» вовсе не по прихоти неуместного самолюбования. Их значение весьма велико для человека, пусть и остались они далеко позади. Очевидно, что романист должен оставить своим детям нечто большее, чем краски и образы, cозданные им с таким трудом. Ведь то, что в их взрослые годы будет казаться другим самыми загадочными чертами их личности, то, что им самим не суждено понять до конца, может оказаться подсознательным откликом на тихий голос неумолимого прошлого, в которое уходят глубокие корни его творчества и их судеб.
Только в воображении любая истина обретает осязаемую, неоспоримую полноту. Воображение, а не измышление – вот что правит и в искусстве, и в жизни.
Художественное и точное представление воспоминаний о пережитом достойно служит тому духу сострадания всему человеческому, который освящает и замыслы сочинителя историй, и чувства человека, который пересматривает собственный опыт.
II
Как уже было сказано, я занимался тем, что разбирал свой багаж после прибытия на Украину из Лондона. Рукопись «Причуды Олмейера» – моей спутницы на протяжении трех, а то и более лет, в ту пору уже девяти глав от роду – скромно расположилась на письменном столе меж двумя окнами. Я и не думал убирать ее в один из выдвижных ящиков стола, но медные ручки этих ящиков привлекли меня красотой формы. Два канделябра, по четыре свечи каждый, празднично освещали комнату, так много лет ждавшую возвращения странствующего племянника. Окна были зашторены.
В пятистах ярдах от кресла, на котором я сидел, стоял первый дом деревни, которая была частью наследства моего деда по материнской линии и всем, что осталось в собственности семьи. А за деревней в безграничной темноте зимней ночи тянулись гигантские неогороженные поля: не плоские и скудные равнины, но урожайная земля – забеленные снегом холмы с черными заплатами угнездившихся в ложбинах пролесков. Дорога, которой я приехал, шла через деревню и поворачивала перед воротами, замыкавшими короткий подъезд к дому. Кто-то ехал по заснеженной дороге, и перезвон колокольчиков прокрался в тишину комнаты, подобно мелодичному шепоту.
Присланный мне на помощь слуга наблюдал, как я распаковывал вещи, бесполезно стоя в дверях в полной готовности. Помощь мне вовсе не требовалась, но и прогонять его тоже не хотелось. Это был молодой человек, по крайней мере лет на десять младше меня. Последний раз я был… не то что в этом доме, а в пределах шестидесяти миль отсюда в 67-м году, однако простодушные и открытые черты его крестьянского лица казались мне на удивление знакомыми. Вполне возможно, он был потомком, сыном или даже внуком тех слуг, чьи приветливые лица окружали меня в раннем детстве. Позднее я рассудил, что в непосредственном родстве с ними он вряд ли состоял. Он родился в одной из близлежащих деревень и перешел сюда на повышение, обучившись прислуживать в других домах. Об этом мне стало известно на следующий день от достопочтенного V. Впрочем, я мог бы обойтись и без расспросов. Вскоре я выяснил, что все лица в доме, как и в деревне, – суровые лица длинноусых отцов семейств, нежные лица юношей, лица белокурых детей, красивые, загорелые широкобровые лица матерей, стоящих в дверях хат, были знакомы мне, словно я знал их всех с детства, которое закончилось как будто позавчера.
Нараставший было звон колокольчиков вскоре растаял, и лай собак в деревне наконец-то стих. Мой дядя, удобно устроившись в углу кушетки, молча курил турецкую трубку с длинным чубуком.
«Какой прекрасный письменный стол ты поставил в мою комнату», – заметил я.
«Стол на самом деле принадлежит тебе, – сказал он, остановив на мне задумчивый и заинтересованный взгляд; так он смотрел на меня с тех пор, как я переступил порог дома. – Сорок лет назад за этим столом работала твоя мать. В нашем доме в Оратове он стоял в маленькой гостиной, по негласной договоренности отданной девочкам – твоей матери и ее сестре, которая умерла совсем юной. Стол достался им в подарок от твоего дяди Николаса Б., когда твоей матушке было семнадцать, а тете на два года меньше. Мы все любили и восхищались ею, твоею тетушкой. Верно, ты ничего о ней и не знаешь, кроме имени. В ней не было той женской красоты и утонченного ума, которыми блистала твоя мать. Но все души в ней не чаяли за восхитительную мягкость характера, благоразумие, невероятную легкость в общении.
Ее уход обернулся ужасным горем и огромной душевной потерей для всех нас. Останься она в живых, это стало бы настоящим благословением для всякого дома, куда бы она вошла женой, матерью и полноправной хозяйкой. Вокруг нее все дышало бы миром и гармонией, пробудить которые способны лишь те, кто любит самоотверженно и беззаветно. Твоя матушка превосходила ее красотой, была незаурядной личностью, отличалась прекрасными манерами и острым умом, но с ней не было так легко. Обладая исключительными талантами, она и от жизни ждала большего. В те тяжелые дни все мы особенно беспокоились о ее состоянии. Занедужив после смерти отца (удар для нее был тем сильнее, что его внезапную смерть она встретила в доме одна), она разрывалась от внутренней борьбы между любовью к человеку, за которого она в итоге вышла замуж, и пониманием, что ее покойный отец был против этого брака. Не в состоянии заставить себя пренебречь светлой памятью отца и его мнением, которое она всегда уважала и которому доверяла, и в то же время не в силах противостоять такому глубокому и подлинному чувству, ей было очень сложно сохранить психическое и нравственное равновесие. В разладе с собой она не могла дать другим ощущение спокойствия, которым сама не обладала. Лишь позднее, когда она, наконец, сочеталась со своим избранником, в ней проявились ее высокий ум и сердечность, благодаря которым она завоевала уважение и восхищение даже наших недоброжелателей. Со спокойствием духа встречая жестокие испытания, в которых отразились все несчастья нашего народа и социальные противоречия общества, она воплощала высшее представление о долге жены, матери и патриотки, разделив с мужем тяготы ссылки и став олицетворением благородного идеала польской женщины.
Наш дядя Николас был не слишком щедр на изъявления чувств. Помимо Наполеона Бонапарта, перед которым он преклонялся, на всем белом свете он по-настоящему любил только трех человек – свою мать, твою прабабку, которую ты видел, но вряд ли помнишь; брата, нашего отца, в чьем доме он прожил много лет; а из всех нас, его племянников и племянниц, выросших подле него, он выделял только твою мать. Скромные и очаровательные достоинства ее младшей сестры он, по всей видимости, был неспособен оценить.
Этот удар, неожиданно обрушившийся на семью, главой которой я стал чуть менее года тому, нанес мне самую глубокую рану. Такого действительно никто не ожидал. Возвращаясь домой по зимней дороге, чтобы скрасить мое одиночество в пустом доме, где для управления поместьем и решения сложных задач требовалось мое неотлучное присутствие (сестры попеременно приезжали ко мне на неделю), – так вот, возвращаясь из дома графини Феклы Потоцкой, где наша больная мать гостила, чтобы быть поближе к доктору, они сбились с пути и угодили в снежный завал. С ней были только кучер да старый Валерий, камердинер нашего покойного батюшки. Пока они пытались откопать повозку, раздосадованная задержкой, она спрыгнула с саней и отправилась искать дорогу сама. Все это случилось в 1851-м, меньше чем в десяти милях от места, где мы с тобой сидим.
Дорогу вскоре отыскали, но тут снова повалил снег, да такой густой, что домой они попали только через четыре часа. Валерий впоследствии рассказывал, что, невзирая на ее протесты, прямые приказания и даже попытки их поколотить, они сняли с себя подбитые овчиной тулупы и собрали все меховые полости, чтобы укутать ее и спасти от холода. „Да как же я покажусь своему хозяину, – увещевал он ее, – когда встречусь с его благословенной душой на том свете, если не уберегу вас от опасности, пока во мне теплится хоть единая искра жизни?“ Когда они наконец-то вернулись домой, бедный старик совсем окоченел от холода и не мог вымолвить и слова. Кучер был не в лучшем состоянии, хотя у него и достало сил самому добраться до конюшни. На мои упреки, что в такую погоду не стоило и носа из дома казать, она отвечала, в свойственной ей манере, что ей невыносима была сама мысль оставить меня в безотрадном одиночестве. Непостижимо, как ей это вообще позволили! Но, полагаю, это было предрешено. На следующий день она стала покашливать, но не придала этому особого значения. Вскоре она слегла с воспалением легких, и через три недели ее не стало! Из младшего поколения, вверенного моему попечению, она ушла из жизни первой. Помни о тщетности всех надежд и опасений! В младенчестве я был самым хилым из детей. Долгие годы я был настолько слаб, что родители почти оставили надежду увидеть меня возмужавшим. Однако ж я пережил пятерых братьев, обеих сестер, да и многих сверстников. Я похоронил жену и дочь. Из всех, кто хоть что-то помнит о тех давних временах, остался ты один. Такова моя участь – предавать могиле преждевременно угасшие верные сердца, обещания блестящего будущего, полные жизни чаяния».
Он быстро встал, вздохнул и, произнеся: «Обед подадут через полчаса», покинул меня.
Оставаясь неподвижен, я слушал его быстрые шаги по натертому полу соседней комнаты. Он пересек приемную, заставленную книжными полками, где остановился положить чубук на подставку, а затем перешел в гостиную (это была анфилада комнат), где толстый ковер заглушил его шаги. Однако я услышал, как захлопнулась дверь его совмещенной с кабинетом спальни. Ему было шестьдесят два года, и на протяжении четверти века он был самым мудрым, самым надежным, самым снисходительным опекуном; он дал мне отеческую заботу, любовь и моральную поддержку, которые я всегда ощущал где-то рядом, в каких бы удаленных частях света ни находился.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: