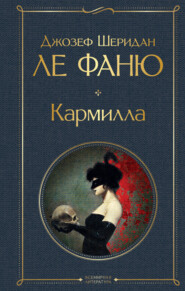По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дом у кладбища
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дейнджерфилд тем временем успел откланяться, за ним Мервин, потом Стерк с супругой, под конец пришел черед Клаффа и Паддока, которые медлили с уходом, сколько дозволяли приличия. Две-три небольшие коллизии не испортили маленькому лейтенанту настроения, он был счастлив и влюблен как никогда. На обратном пути оба сослуживца предпочли разговору приятные размышления.
В голове Клаффа зрели планы, касавшиеся двадцатитысячного состояния мисс Ребекки, к которому добавлялись еще и сбережения. Клаффу было известно, что в юности сестра генерала отвергла ряд блестящих предложений, но что было, то прошло, с сединой приходит мудрость, – чем старше невеста, тем она покладистей, – а мисс Бекки из тех женщин, что способны зажечься, и ради своего каприза пойдет если не на все, то на многое. Клафф знал также, что соперников у него нет, а сам он строен, недурен собой, приятен в обращении, достаточно молод, чтобы внушить женщине соответствующие чувства, но и не слишком юн для брачного союза с особой в возрасте мисс Бекки. Разумеется, на такое дело нельзя было решаться очертя голову. Мисс Бекки… чего греха таить, с чудинкой. Раздражительность, эксцентричные вкусы… возраст, своенравие… вот и все, пожалуй. Но с другой стороны – такая непоколебимая и приятная реальность, как солидная денежная сумма; помимо того, при желании мисс Бекки умеет блеснуть благородными манерами и принять вид настоящей леди, которая не идет, а плывет, невозмутима, обходительна, умеет обращаться с веером, вести беседу, принимать гостей, словом, – мечталось Клаффу – в качестве миссис Клафф своими haut ton[22 - Благородными манерами (фр.).] поразит сослуживцев супруга в самое сердце.
Оба воина рука об руку вступили на залитый лунным светом мост и, не сговариваясь, свернули к зубчатому ограждению. Паддок, устремив взгляд выше по реке, где лежал Белмонт, потихоньку нежно вздохнул. Клаффа занимали все те же мысли, и чем дальше, тем больше они ему нравились.
Оба мечтателя стояли, обратясь к Белмонту, слушали приглушенный рокот реки и не видели ничего, кроме темной синевы, звезд и черных контуров нависших над мостом деревьев. Потом потянуло холодом, и влюбленный Клафф, который ценил уют и был знаком с подагрой, внезапно вспомнил, что ему следует пребывать не здесь, а в постели. Он встряхнул Паддока, и они зашагали вперед, к «Фениксу», где на прощанье обменялись сердечным рукопожатием, словно партнеры, поздравляющие друг друга с удачной сделкой.
Глава XX
Мистер Дейнджерфилд посещает чейплизодскую церковь, а Зикиел Айронз идет на рыбалку
На следующий день рано утром лорд Каслмэллард, Дейнджерфилд и Наттер, совершив обход той части владений его светлости, что лежала к западу от города, в облаке пыли въехали в Чейплизод. Они успели уже досконально осмотреть новые мельницы, каменоломни и печи для обжига извести, обсудить с Дойлом его хозяйство, пройтись по двум пустовавшим фермам и уж не знаю где еще. Его светлость поспешил в город к завтраку. Дейнджерфилд, увидев открытую дверь церкви, спешился и зашел внутрь, Наттер последовал его примеру.
Боб Мартин находился наверху, на хорах, и был занят, надо полагать, каким-то полезным делом; меж рядами стульев раздавался медленный скрип его туфель и временами громкий стук. Зикиел Айронз, клерк, тощий, тонкогубый, с отливающими синевой щеками, хлопотал внизу, в дальнем конце, у главного престола; с видом чинным, но недобрым он то склонялся над молитвенником, то бесшумно скользил вокруг. Скамья лорда Каслмэлларда располагалась поблизости, туда и направился Дейнджерфилд вслед за Наттером. Скоро, подумал мистер Дейнджерфилд, под скамьей придется перестелить пол, а герб Каслмэллардов на стене над главным сиденьем чересчур обшарпан, чтобы им тщеславиться, – немного свежей краски и позолоты ему не помешает.
– На восточный край скамьи – один фут девять дюймов – заявляло права семейство… семейство из Инчикора – так, кажется, их называли, – сказал Дейнджерфилд, для наглядности кладя поперек крышки свой хлыст. – Это… это нежелательно: скамья будет испорчена.
– Все уже улажено: мистер Лангли переместится в противоположную сторону придела, – отозвался Наттер, кивая подошедшему Айронзу. Тот с полупоклоном оперся длинными, цвета глины пальцами на дверцу скамьи, худосочную ногу поставил на первую ступеньку и в такой позе, с прикрытыми глазами, ждал, пока к нему обратятся.
– Семейство Лангли сидело здесь, – сказал Дейнджерфилд, кивком указывая на соседнюю скамью.
– Да, сэр, – отозвался Айронз, не поднимая ни глаз, ни головы, с застывшим подобием улыбки.
– И чья же теперь эта скамья?
– Его преподобия доктора Уолсингема.
Выяснилось, что, поскольку между прихожанами назревала настоящая битва за территорию, священник, когда продал Лососевый Водопад, уступил старому хрычу Лангли приписанную к этому дому большую и ровную скамью по ту сторону прохода и получил взамен маленькую покосившуюся скамейку, где ранее восседали обитатели Инчикора, и таким образом в церкви воцарилась если не благодать, то, во всяком случае, мир.
– Вот как? Ну-ка, посмотрим.
Даже с тем, что имело к нему лишь самое отдаленное касательство, Дейнджерфилд предпочитал знакомиться самолично. Он пересек проход, за ним по пятам последовал Айронз.
– Как раз под тем местом, где вы стоите, – тихим мрачным голосом произнес Айронз, когда Дейнджерфилд остановился, – мы похоронили в ночь на вторник лорда… – Имя прозвучало неразборчиво.
При этих словах Дейнджерфилда от крепко стоящих подошв до самого мозга пронизал как бы слабый электрический ток, заструившийся из пола, – словно бы кто-то хотел сказать: «Я здесь».
– В самом деле? – сухо отозвался Дейнджерфилд, слегка кивнул, поднял брови и отступил чуть в сторону.
– Скверная была история.
Дейнджерфилд, не вынимая рук из карманов панталон, поднял голову и стал читать табличку на стене; при этом он чуть слышно насвистывал – не помешало бы вести себя более благопристойно, но с джентльмена другой спрос. Клерк оставался позади него в той же скромной позе и с той же улыбкой, которая, если присмотреться, оказывалась вовсе не улыбкой, а, похоже, отблеском света. Что за этим стояло – терпение или скрытая насмешка, – сказать трудно, но в его неподвижности чудилось что-то вызывающее.
– И кое-кому, я полагаю, пришлось скрепя сердце исполнять здесь свой долг, – не закончив мелодии, внезапно проговорил Дейнджерфилд и строго уставился на мистера Айронза.
Клерк еще ниже склонил голову, глаза его почти совсем закрылись, был заметен лишь слабый проблеск меж ресниц.
– А церковь недурна… и городок тоже… и кое-кто из достойных людей живет по соседству, – оживился Дейнджерфилд. – А в реке, если не ошибаюсь, водится форель? Течение как будто быстрое.
– Крупной нет – так, серая форелька, сэр. Кроме меня, ее никто и не ловит.
– Вы ведь здешний клерк?
– К вашим услугам, сэр.
– Из Дублина?.. Или…
– Родился и вырос в Дублине, ваша честь.
– Ага, хорошо! Айронз… вы слышали, верно, о мистере Дейнджерфилде – управляющем лорда Каслмэлларда. Так вот, мистер Дейнджерфилд – это я. Доброго вам утра, Айронз. – И Дейнджерфилд сунул в ладонь клерку полкроны.
Обойдя церковь еще раз, Дейнджерфилд вышел на улицу вместе с Наттером. Вскоре они расстались. Наттер вскочил на свою низкорослую лошадку и поскакал к Мельницам. А Дейнджерфилд ненадолго заглянул в лавку Клири, застал ее владельца восседающим среди мешков с мукой и кусков бекона и, как обычно, жестко и отрывисто задал ему менее чем за пять минут около полусотни вопросов: и «тот дом с прохудившейся крышей и навозной кучей за углом раньше принадлежал лорду Каслмэлларду?», и «а где та пивная, которую называют „Дом Лосося“? Дела там идут неплохо?», и, наконец, «мне сказали, что в реке водится форель. С кем можно сходить на рыбалку, кто знает места? Ах, клерк! А сам он какого поля ягода? О, честный и достойный человек? Прекрасно, сэр. А теперь, мистер… а теперь, сэр, быть может, вы не откажете мне в услуге: распорядитесь, чтобы кто-нибудь из ваших людей сбегал к мистеру Айронзу домой, кланялся от мистера Дейнджерфилда, управляющего лорда Каслмэлларда, который остановился в Медном Замке, и спросил, не будет ли мистер Айронз так любезен в десять часов, с удочкой и прочей снастью, отправиться с мистером Дейнджерфилдом на небольшую рыбалку?».
Весельчак Фил Клири в присутствии посетителя, можно сказать, робел как школьник. Все в мистере Дейнджерфилде внушало трепет: и седые волосы, и репутация кудесника в денежных делах, и волевые, решительные манеры, и внезапные циничные смешки. Поэтому стоило Дейнджерфилду высказать какое-нибудь пожелание с оттенком настоятельности, как все вокруг спешили его исполнить. Вот и Айронз, разумеется, явился в назначенный час с удочкой, и оба рыболова, подобные Пискатору и «его верному ученику» у Айзека Уолтона, которых их мирное занятие сковало тесными узами братства, бок о бок побрели к реке.
С огорчением должен сказать, что жена у клерка была самая настоящая мегера, визгливая и несдержанная на язык. «Мошенник», «старый скупердяй», «старый подлюга» – это еще не самые худшие клички из тех, которыми она награждала своего супруга. Любезная миссис Айронз была стара, толста, уродлива и сама на свой счет не обольщалась, а потому тем сильнее ревновала мужа. Благодаря долгому опыту мистер Айронз нашел наилучшую тактику защиты: он либо немел как рыба, либо говорил коротко и загадками; иногда он отделывался пословицей, иногда библейским изречением, а будучи доведен до крайности, тоном самым смиренным изрекал что-нибудь ехидное.
Айронз любил свою удочку и извилистые берега Лиффи, где он, мрачный и одинокий, наполнял рыбой свою корзинку. Его спутница жизни, не зная в точности, чем занят ее супруг, не нуждалась в доказательствах, чтобы объявить: чем-нибудь непотребным. В таких случаях она обращалась за поддержкой к своему жильцу, капитану Деврё; подобно буре, она врывалась в его комнату, и молодой шалопай, готовясь получить удовольствие, откладывал в сторону роман, отставлял стакан с разбавленным водой хересом (боюсь, иной раз от этого сосуда явственно попахивало бренди). Если бы речи миссис Айронз послушал человек, никогда не видевший ее прилизанного угрюмого супруга, он решил бы, что в Дублинском графстве не найдется юноши красивей мистера Айронза и все хорошенькие девушки Чейплизода и окрестностей вздыхают о нем и напропалую строят ему глазки. Деврё питал слабость к сатире, даже к фарсу, и потому забывал обо всем, смакуя сетования этой неряшливой старой толстухи.
– Капитан, золотко, что мне делать? – Миссис Айронз влетела в комнату с пылающим лицом, жестикулируя правой рукой, а в левой сжимая краешек передника, которым только что утирала распухшие глаза. – Снова он утащился к Айленд-Бридж, бесстыдный мошенник. Ясное дело – всё из-за той грязной девки. Пусть не думает, что меня так легко обдурить, уж я умею все разложить по полочкам. А до тебя, Мэг Партлет, потаскушка ты эдакая, я еще доберусь…
За истерическими выкриками последовали новые потоки слез, и миссис Айронз принялась размахивать толстым красным кулаком перед представившимся ее воображению хорошеньким носиком Мэг.
– Нет-нет, мадам, – отозвался насмешник, – умоляю вас, не проливайте слезы; вспомните, вы ведь читали: подобное случалось ранее в Риме, в Саламанке, в Баллипорине, в Венеции и в полусотне других знаменитых городов.
Во время подобных разговоров Деврё всегда казалось, что они с квартирохозяйкой, импровизируя на ходу, разыгрывают бурлеск: она – крымско-татарская царица, он – придворный архиепископ. Капитан перешел бы на стихи, если бы не опасался спугнуть этим собеседницу.
– Ну и что мне от этого проку? И я вам то же самое скажу: они всюду, во всем мире одинаковы – скоты, да и только.
– Но подумайте, мадам, ваш супруг всего лишь отправился к реке и взял с собой удочку…
– Как же, удочку! Знаю я, что он собрался удить, бесстыдник.
– Но послушайте, мадам, – не унимался капитан, – вы в корне не правы. После двадцати лет брака вы обнаруживаете, что супруг ваш – мужчина, и гневаетесь из-за этого. Но кем же, по-вашему, он должен быть?
– Все вы твердите одно и то же, – отчаянно рыдала миссис Айронз, – правды ни от кого не дождешься, никто не пожалеет, не поддержит бедную обманутую женщину. Ладно же, справлюсь сама. Пойду-ка я к его преподобию – только молчите, не отговаривайте – Хью Уолсингему, доктору богословия, пастору чейплизодского прихода. – Миссис Айронз привыкла, грозя вмешательством священника, именовать последнего полным титулом – для вящего устрашения Зикиела Айронза. – Я пойду к нему прямо сейчас – и не вздумайте меня удерживать, – посмотрим, что он скажет. – И миссис Айронз направилась к двери.
– Ну что ж, мадам, повидайте ученого доктора, спросите его – он не я, ему-то вы поверите, – пусть расскажет, что с тех пор, как у мадам Сарры вышла размолвка с дерзкой мисс Агарью, нравы не изменились; те же нравы царили повсеместно и в древнем мире – справьтесь у Плиния, Страбона и самых известных писателей античности; Юнона, Дидона, Элинор – королева Англии, миссис Партридж, о которой я сейчас читаю, – Деврё указал на раскрытую страницу «Тома Джонса», – каждая – справедливо ли, нет ли – питала те же подозрения.
Капитан произнес все это неспешно, с задумчивым видом, хмуря брови, – в подражание простодушному книжнику.
– Хороши же ваши Партриджи, нечего сказать, самый подходящий пример для приходского клерка! – воскликнула хозяйка дома, отходя от двери. – Гляжу я на него, думаю про его штучки и одного не могу понять: как хватает у него наглости слушать проповедь и смотреть в лицо прихожанам, да еще и петь святые псалмы?
– Не следует этому удивляться, мадам, поверьте мудрецу, изрекшему: «Omnibus hoc vitium est cantoribus»[23 - Все певцы порочны (лат.).].
Деврё было давно известно, что латинские цитаты действуют на разъяренную миссис Айронз как масло на огонь, – почтенная матрона разразилась речью, в которой бесчисленные обвинения то и дело перемежались крепкими эпитетами. Мудрые служители правосудия пользуются подобным же приемом: свои жалобы и обвинительные акты они любят уснащать поговорками и пряными словечками вроде «вероломно», «постыдно», «злонамеренно» и «suadente diabolo»[24 - Призывая дьявола (лат.).], рассчитывая, что с помощью этих приправ желудки судьи и присяжных легче переварят предложенное им блюдо.
Горестные вопли миссис Айронз соседям были не в диковинку; даже когда звуки достигали большой дороги или садов за домом, окрестные жители сохраняли невозмутимость. Всякий имеющий уши уже наслушался о мистере Айронзе всевозможных мыслимых и немыслимых историй и давно потерял к ним интерес, голос любезной леди мог грохотать и гудеть сколько угодно – на него обращали не больше внимания, чем на оружейные раскаты и завывания труб в день военного смотра.
В голове Клаффа зрели планы, касавшиеся двадцатитысячного состояния мисс Ребекки, к которому добавлялись еще и сбережения. Клаффу было известно, что в юности сестра генерала отвергла ряд блестящих предложений, но что было, то прошло, с сединой приходит мудрость, – чем старше невеста, тем она покладистей, – а мисс Бекки из тех женщин, что способны зажечься, и ради своего каприза пойдет если не на все, то на многое. Клафф знал также, что соперников у него нет, а сам он строен, недурен собой, приятен в обращении, достаточно молод, чтобы внушить женщине соответствующие чувства, но и не слишком юн для брачного союза с особой в возрасте мисс Бекки. Разумеется, на такое дело нельзя было решаться очертя голову. Мисс Бекки… чего греха таить, с чудинкой. Раздражительность, эксцентричные вкусы… возраст, своенравие… вот и все, пожалуй. Но с другой стороны – такая непоколебимая и приятная реальность, как солидная денежная сумма; помимо того, при желании мисс Бекки умеет блеснуть благородными манерами и принять вид настоящей леди, которая не идет, а плывет, невозмутима, обходительна, умеет обращаться с веером, вести беседу, принимать гостей, словом, – мечталось Клаффу – в качестве миссис Клафф своими haut ton[22 - Благородными манерами (фр.).] поразит сослуживцев супруга в самое сердце.
Оба воина рука об руку вступили на залитый лунным светом мост и, не сговариваясь, свернули к зубчатому ограждению. Паддок, устремив взгляд выше по реке, где лежал Белмонт, потихоньку нежно вздохнул. Клаффа занимали все те же мысли, и чем дальше, тем больше они ему нравились.
Оба мечтателя стояли, обратясь к Белмонту, слушали приглушенный рокот реки и не видели ничего, кроме темной синевы, звезд и черных контуров нависших над мостом деревьев. Потом потянуло холодом, и влюбленный Клафф, который ценил уют и был знаком с подагрой, внезапно вспомнил, что ему следует пребывать не здесь, а в постели. Он встряхнул Паддока, и они зашагали вперед, к «Фениксу», где на прощанье обменялись сердечным рукопожатием, словно партнеры, поздравляющие друг друга с удачной сделкой.
Глава XX
Мистер Дейнджерфилд посещает чейплизодскую церковь, а Зикиел Айронз идет на рыбалку
На следующий день рано утром лорд Каслмэллард, Дейнджерфилд и Наттер, совершив обход той части владений его светлости, что лежала к западу от города, в облаке пыли въехали в Чейплизод. Они успели уже досконально осмотреть новые мельницы, каменоломни и печи для обжига извести, обсудить с Дойлом его хозяйство, пройтись по двум пустовавшим фермам и уж не знаю где еще. Его светлость поспешил в город к завтраку. Дейнджерфилд, увидев открытую дверь церкви, спешился и зашел внутрь, Наттер последовал его примеру.
Боб Мартин находился наверху, на хорах, и был занят, надо полагать, каким-то полезным делом; меж рядами стульев раздавался медленный скрип его туфель и временами громкий стук. Зикиел Айронз, клерк, тощий, тонкогубый, с отливающими синевой щеками, хлопотал внизу, в дальнем конце, у главного престола; с видом чинным, но недобрым он то склонялся над молитвенником, то бесшумно скользил вокруг. Скамья лорда Каслмэлларда располагалась поблизости, туда и направился Дейнджерфилд вслед за Наттером. Скоро, подумал мистер Дейнджерфилд, под скамьей придется перестелить пол, а герб Каслмэллардов на стене над главным сиденьем чересчур обшарпан, чтобы им тщеславиться, – немного свежей краски и позолоты ему не помешает.
– На восточный край скамьи – один фут девять дюймов – заявляло права семейство… семейство из Инчикора – так, кажется, их называли, – сказал Дейнджерфилд, для наглядности кладя поперек крышки свой хлыст. – Это… это нежелательно: скамья будет испорчена.
– Все уже улажено: мистер Лангли переместится в противоположную сторону придела, – отозвался Наттер, кивая подошедшему Айронзу. Тот с полупоклоном оперся длинными, цвета глины пальцами на дверцу скамьи, худосочную ногу поставил на первую ступеньку и в такой позе, с прикрытыми глазами, ждал, пока к нему обратятся.
– Семейство Лангли сидело здесь, – сказал Дейнджерфилд, кивком указывая на соседнюю скамью.
– Да, сэр, – отозвался Айронз, не поднимая ни глаз, ни головы, с застывшим подобием улыбки.
– И чья же теперь эта скамья?
– Его преподобия доктора Уолсингема.
Выяснилось, что, поскольку между прихожанами назревала настоящая битва за территорию, священник, когда продал Лососевый Водопад, уступил старому хрычу Лангли приписанную к этому дому большую и ровную скамью по ту сторону прохода и получил взамен маленькую покосившуюся скамейку, где ранее восседали обитатели Инчикора, и таким образом в церкви воцарилась если не благодать, то, во всяком случае, мир.
– Вот как? Ну-ка, посмотрим.
Даже с тем, что имело к нему лишь самое отдаленное касательство, Дейнджерфилд предпочитал знакомиться самолично. Он пересек проход, за ним по пятам последовал Айронз.
– Как раз под тем местом, где вы стоите, – тихим мрачным голосом произнес Айронз, когда Дейнджерфилд остановился, – мы похоронили в ночь на вторник лорда… – Имя прозвучало неразборчиво.
При этих словах Дейнджерфилда от крепко стоящих подошв до самого мозга пронизал как бы слабый электрический ток, заструившийся из пола, – словно бы кто-то хотел сказать: «Я здесь».
– В самом деле? – сухо отозвался Дейнджерфилд, слегка кивнул, поднял брови и отступил чуть в сторону.
– Скверная была история.
Дейнджерфилд, не вынимая рук из карманов панталон, поднял голову и стал читать табличку на стене; при этом он чуть слышно насвистывал – не помешало бы вести себя более благопристойно, но с джентльмена другой спрос. Клерк оставался позади него в той же скромной позе и с той же улыбкой, которая, если присмотреться, оказывалась вовсе не улыбкой, а, похоже, отблеском света. Что за этим стояло – терпение или скрытая насмешка, – сказать трудно, но в его неподвижности чудилось что-то вызывающее.
– И кое-кому, я полагаю, пришлось скрепя сердце исполнять здесь свой долг, – не закончив мелодии, внезапно проговорил Дейнджерфилд и строго уставился на мистера Айронза.
Клерк еще ниже склонил голову, глаза его почти совсем закрылись, был заметен лишь слабый проблеск меж ресниц.
– А церковь недурна… и городок тоже… и кое-кто из достойных людей живет по соседству, – оживился Дейнджерфилд. – А в реке, если не ошибаюсь, водится форель? Течение как будто быстрое.
– Крупной нет – так, серая форелька, сэр. Кроме меня, ее никто и не ловит.
– Вы ведь здешний клерк?
– К вашим услугам, сэр.
– Из Дублина?.. Или…
– Родился и вырос в Дублине, ваша честь.
– Ага, хорошо! Айронз… вы слышали, верно, о мистере Дейнджерфилде – управляющем лорда Каслмэлларда. Так вот, мистер Дейнджерфилд – это я. Доброго вам утра, Айронз. – И Дейнджерфилд сунул в ладонь клерку полкроны.
Обойдя церковь еще раз, Дейнджерфилд вышел на улицу вместе с Наттером. Вскоре они расстались. Наттер вскочил на свою низкорослую лошадку и поскакал к Мельницам. А Дейнджерфилд ненадолго заглянул в лавку Клири, застал ее владельца восседающим среди мешков с мукой и кусков бекона и, как обычно, жестко и отрывисто задал ему менее чем за пять минут около полусотни вопросов: и «тот дом с прохудившейся крышей и навозной кучей за углом раньше принадлежал лорду Каслмэлларду?», и «а где та пивная, которую называют „Дом Лосося“? Дела там идут неплохо?», и, наконец, «мне сказали, что в реке водится форель. С кем можно сходить на рыбалку, кто знает места? Ах, клерк! А сам он какого поля ягода? О, честный и достойный человек? Прекрасно, сэр. А теперь, мистер… а теперь, сэр, быть может, вы не откажете мне в услуге: распорядитесь, чтобы кто-нибудь из ваших людей сбегал к мистеру Айронзу домой, кланялся от мистера Дейнджерфилда, управляющего лорда Каслмэлларда, который остановился в Медном Замке, и спросил, не будет ли мистер Айронз так любезен в десять часов, с удочкой и прочей снастью, отправиться с мистером Дейнджерфилдом на небольшую рыбалку?».
Весельчак Фил Клири в присутствии посетителя, можно сказать, робел как школьник. Все в мистере Дейнджерфилде внушало трепет: и седые волосы, и репутация кудесника в денежных делах, и волевые, решительные манеры, и внезапные циничные смешки. Поэтому стоило Дейнджерфилду высказать какое-нибудь пожелание с оттенком настоятельности, как все вокруг спешили его исполнить. Вот и Айронз, разумеется, явился в назначенный час с удочкой, и оба рыболова, подобные Пискатору и «его верному ученику» у Айзека Уолтона, которых их мирное занятие сковало тесными узами братства, бок о бок побрели к реке.
С огорчением должен сказать, что жена у клерка была самая настоящая мегера, визгливая и несдержанная на язык. «Мошенник», «старый скупердяй», «старый подлюга» – это еще не самые худшие клички из тех, которыми она награждала своего супруга. Любезная миссис Айронз была стара, толста, уродлива и сама на свой счет не обольщалась, а потому тем сильнее ревновала мужа. Благодаря долгому опыту мистер Айронз нашел наилучшую тактику защиты: он либо немел как рыба, либо говорил коротко и загадками; иногда он отделывался пословицей, иногда библейским изречением, а будучи доведен до крайности, тоном самым смиренным изрекал что-нибудь ехидное.
Айронз любил свою удочку и извилистые берега Лиффи, где он, мрачный и одинокий, наполнял рыбой свою корзинку. Его спутница жизни, не зная в точности, чем занят ее супруг, не нуждалась в доказательствах, чтобы объявить: чем-нибудь непотребным. В таких случаях она обращалась за поддержкой к своему жильцу, капитану Деврё; подобно буре, она врывалась в его комнату, и молодой шалопай, готовясь получить удовольствие, откладывал в сторону роман, отставлял стакан с разбавленным водой хересом (боюсь, иной раз от этого сосуда явственно попахивало бренди). Если бы речи миссис Айронз послушал человек, никогда не видевший ее прилизанного угрюмого супруга, он решил бы, что в Дублинском графстве не найдется юноши красивей мистера Айронза и все хорошенькие девушки Чейплизода и окрестностей вздыхают о нем и напропалую строят ему глазки. Деврё питал слабость к сатире, даже к фарсу, и потому забывал обо всем, смакуя сетования этой неряшливой старой толстухи.
– Капитан, золотко, что мне делать? – Миссис Айронз влетела в комнату с пылающим лицом, жестикулируя правой рукой, а в левой сжимая краешек передника, которым только что утирала распухшие глаза. – Снова он утащился к Айленд-Бридж, бесстыдный мошенник. Ясное дело – всё из-за той грязной девки. Пусть не думает, что меня так легко обдурить, уж я умею все разложить по полочкам. А до тебя, Мэг Партлет, потаскушка ты эдакая, я еще доберусь…
За истерическими выкриками последовали новые потоки слез, и миссис Айронз принялась размахивать толстым красным кулаком перед представившимся ее воображению хорошеньким носиком Мэг.
– Нет-нет, мадам, – отозвался насмешник, – умоляю вас, не проливайте слезы; вспомните, вы ведь читали: подобное случалось ранее в Риме, в Саламанке, в Баллипорине, в Венеции и в полусотне других знаменитых городов.
Во время подобных разговоров Деврё всегда казалось, что они с квартирохозяйкой, импровизируя на ходу, разыгрывают бурлеск: она – крымско-татарская царица, он – придворный архиепископ. Капитан перешел бы на стихи, если бы не опасался спугнуть этим собеседницу.
– Ну и что мне от этого проку? И я вам то же самое скажу: они всюду, во всем мире одинаковы – скоты, да и только.
– Но подумайте, мадам, ваш супруг всего лишь отправился к реке и взял с собой удочку…
– Как же, удочку! Знаю я, что он собрался удить, бесстыдник.
– Но послушайте, мадам, – не унимался капитан, – вы в корне не правы. После двадцати лет брака вы обнаруживаете, что супруг ваш – мужчина, и гневаетесь из-за этого. Но кем же, по-вашему, он должен быть?
– Все вы твердите одно и то же, – отчаянно рыдала миссис Айронз, – правды ни от кого не дождешься, никто не пожалеет, не поддержит бедную обманутую женщину. Ладно же, справлюсь сама. Пойду-ка я к его преподобию – только молчите, не отговаривайте – Хью Уолсингему, доктору богословия, пастору чейплизодского прихода. – Миссис Айронз привыкла, грозя вмешательством священника, именовать последнего полным титулом – для вящего устрашения Зикиела Айронза. – Я пойду к нему прямо сейчас – и не вздумайте меня удерживать, – посмотрим, что он скажет. – И миссис Айронз направилась к двери.
– Ну что ж, мадам, повидайте ученого доктора, спросите его – он не я, ему-то вы поверите, – пусть расскажет, что с тех пор, как у мадам Сарры вышла размолвка с дерзкой мисс Агарью, нравы не изменились; те же нравы царили повсеместно и в древнем мире – справьтесь у Плиния, Страбона и самых известных писателей античности; Юнона, Дидона, Элинор – королева Англии, миссис Партридж, о которой я сейчас читаю, – Деврё указал на раскрытую страницу «Тома Джонса», – каждая – справедливо ли, нет ли – питала те же подозрения.
Капитан произнес все это неспешно, с задумчивым видом, хмуря брови, – в подражание простодушному книжнику.
– Хороши же ваши Партриджи, нечего сказать, самый подходящий пример для приходского клерка! – воскликнула хозяйка дома, отходя от двери. – Гляжу я на него, думаю про его штучки и одного не могу понять: как хватает у него наглости слушать проповедь и смотреть в лицо прихожанам, да еще и петь святые псалмы?
– Не следует этому удивляться, мадам, поверьте мудрецу, изрекшему: «Omnibus hoc vitium est cantoribus»[23 - Все певцы порочны (лат.).].
Деврё было давно известно, что латинские цитаты действуют на разъяренную миссис Айронз как масло на огонь, – почтенная матрона разразилась речью, в которой бесчисленные обвинения то и дело перемежались крепкими эпитетами. Мудрые служители правосудия пользуются подобным же приемом: свои жалобы и обвинительные акты они любят уснащать поговорками и пряными словечками вроде «вероломно», «постыдно», «злонамеренно» и «suadente diabolo»[24 - Призывая дьявола (лат.).], рассчитывая, что с помощью этих приправ желудки судьи и присяжных легче переварят предложенное им блюдо.
Горестные вопли миссис Айронз соседям были не в диковинку; даже когда звуки достигали большой дороги или садов за домом, окрестные жители сохраняли невозмутимость. Всякий имеющий уши уже наслушался о мистере Айронзе всевозможных мыслимых и немыслимых историй и давно потерял к ним интерес, голос любезной леди мог грохотать и гудеть сколько угодно – на него обращали не больше внимания, чем на оружейные раскаты и завывания труб в день военного смотра.
Другие электронные книги автора Джозеф Шеридан ле Фаню
Другие аудиокниги автора Джозеф Шеридан ле Фаню
Кармилла




 0
0