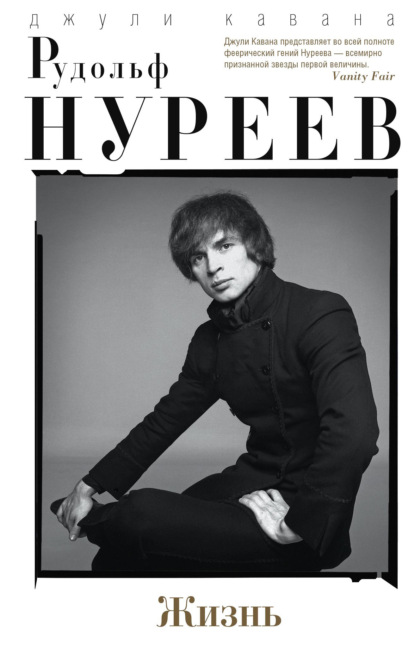По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рудольф Нуреев. Жизнь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Было ясно, что Нуреев должен уехать. Как сказал Барышников, «в России он бы умер… его бы убили или он покончил бы с собой. Был только один выход». Позже Рудольф говорил другу: «В России… я себе не принадлежал. У меня было чувство, что у меня большой талант, который признают повсюду». Этот талант уже разглядели; первым о нем написал Юрий Слонимский, чья статья о русском балете вышла в июне 1960 г. в журнале The Atlantic Monthly. В новом поколении танцовщиков Кировского балета он выделил одного Рудольфа. Вспоминая, как Театр имени Кирова был «буквально в осаде» перед его спектаклем «Жизель» 12 декабря 1959 г., критик описал «ни на кого не похожего» Альберта в исполнении Рудольфа и сразу же признал революционное влияние его танца. «Одним словом, новые люди по-новому трактуют даже события далекого прошлого. Они преломляют это прошлое через призму современной техники». Но через два с половиной года исполнения ограниченного репертуара Театра имени Кирова Рудольф начал ощущать, что уже научился в России всему, что можно, и тосковал по возможности расширить свои познания и отточить свою технику. Он уже намного опережал своих соотечественников. Русские зрители, не привыкшие к абстрактному творчеству, плохо приняли «Тему с вариациями» Баланчина, хотя Рудольф считал его «самым красивым балетом». Он дал себе зарок, что выучит его, что когда-нибудь освоит технику Эрика Бруна. Как замечали критики и поклонники, в то время как почерк самого Рудольфа иногда был лихорадочным и небрежным, Брун, идеальный «благородный танцовщик», олицетворял те самые чистоту, простоту и сдержанность, которых недоставало ему самому. «Как друг, любовник или как враг, – говорил он себе, – я должен попасть в тот лагерь и изучить его».
Побег Рудольфа «готовился изнутри», и тем не менее он по-прежнему считал необходимым оценить реакцию друзей. Во время долгой прогулки с Леонидом за несколько дней до отъезда Рудольф спросил: «Что бы ты подумал, если бы я остался на Западе?» Вопрос потряс Леонида до глубины души, но он намеренно уклонился от прямого ответа: «Ты знаешь, что такое ностальгия?» Леонид хотел напомнить Рудольфу о том образе жизни, к какому он привык и который оставит: ленинградские посиделки на кухнях, когда велись бесконечные разговоры; друзей, которые стали для него важнее семьи. Поняв, что другу не по себе, Рудольф поспешно объяснил, что имеет в виду всего лишь гипотетическую возможность. Он заставил Леонида обещать, что тот никому не расскажет об их разговоре.
Рудольф и правда чувствовал себя совершенно непринужденно в кругу ближайших друзей – среде очень удаленной от театрального мира сплетен и скандалов. И все же для артиста общество друзей тоже может оказаться сковывающим. Рудольф все больше чувствовал себя дома как в капкане. Теперь, когда Ксения видела, какое влияние на него оказывает Тейя, она стала ревнивой и вздорной и всячески старалась их поссорить. «Они ссорятся – из-за Ксаны», – сказала знакомому Елизавета Пажи. Ксения не переставала любить Рудольфа – «До самой смерти для нее существовал только один человек, он был для нее как бог», – и в то же время она понимала, что ее неудержимо влечет к Тейе. Если Рудольф тоже почувствовал их растущее влечение, он наверняка испытал те же отвращение и отстранение, какие пережил Чинко Рафик, которого Пушкины взяли к себе на десять лет позже: «Я очень разочаровался и даже не хотел танцевать. Возникло чувство, что за теми людьми, по поводу которых я питал такие иллюзии, стоит очень грубая и грязная реальность. Ксения была хищницей, настоящей сексуальной хищницей, и теперь, оглядываясь назад, я думаю, что Пушкин в самом деле много страдал. По-моему, он терпел из-за нее огромное унижение. Было много боли. Это чувствовалось. По-моему, положение Пушкина было очень незавидным; должно быть, он на многое закрывал глаза и жил в своем мире; иначе он не вынес бы выходок Ксении».
Любовь Мясникова всегда считала, что Рудольф главным образом остался на Западе из-за Ксении. И Нинель Кургапкина с ней согласна: ему очень хотелось выпутаться из безвыходного положения. «Он не очень гордился, когда говорил о Ксении. Ему было нехорошо, когда он думал о ней». Но еще большим стимулом покинуть Россию стало осознание, что на родине ему не позволят свободно следовать своим истинным сексуальным инстинктам. «У меня не было возможности выбирать друзей по своему вкусу. Как будто кто-то морально бил меня. Я был очень несчастен». К тому времени в Театре имени Кирова начали догадываться о гомосексуальности Рудольфа, «хотя, – уточняет Габриэла Комлева, – тогда было ясно, что он еще не совсем определился: немного так, немного эдак».
На самом деле Рудольф был гораздо последовательнее в своей сексуальной ориентации, чем Тейя, который начал ухаживать за студенткой-индонезийкой, своей будущей первой женой. Константин Руссу вспоминает, как один раз к ним ворвался Рудольф и устроил сцену ревности. «У Тейи часто был кто-то еще, а может быть, он просто сказал Рудольфу, что у него кто-то есть, – сказала Уте Митройтер. – Он умел манипулировать людьми». На допросе в Штази Тейя вынужден был написать о своих отношениях с Рудольфом; он утверждал, что в апреле, когда студенты училища ездили на гастроли в Москву, он решил разорвать связь.
«После того как я вернулся, он часто подкарауливал меня в общежитии или в училище, но я избегал его. Через неделю после моего возвращения он наткнулся на меня на улице и спросил, почему я разорвал нашу дружбу. У меня было много причин… Последние несколько дней перед нашим разрывом он пытался вступить со мной в противоестественные отношения… Стало совершенно ясно, что из-за этого между нами всегда будет сохраняться дистанция».
Но Тейя, как замечает Уте, «писал и смеялся», то давал показания, которые призваны были угодить допросчикам. Размолвка Рудольфа и Тейи не была долгой; Чинко Рафик, один из немногих, с кем оба молодых человека говорили о своей прошлой связи, подтверждает, что «их страсть была очень глубокой». Для Рудольфа она означала восторг первой влюбленности, взлеты и падения, которые ощущались гораздо острее из-за того, что такая страсть была вне закона. И для Тейи, который гораздо дольше оставался влюблен в Рудольфа, последствия их романа оставили след на всю жизнь.
Поскольку Тейя не мог ходить из-за болезненного абсцесса на икре, в свою последнюю долгую прогулку по Ленинграду Рудольф отправился с Тамарой. В начале мая белые ночи только начинались; в жемчужном свете постепенно таяли знакомые места, как задники декорации. Они гуляли до утра, и Рудольф признался, что волнуется: как примет его французская публика? «Париж для нас был столицей мира, поэтому для него гастроли стали большим экзаменом». Когда Тамара услышала, что в аэропорт с ним поедут Пушкины, она хотела там же и попрощаться (Ксения по-прежнему подвергала ее остракизму, глядя поверх ее головы всякий раз, когда они встречались), но Рудольф настоял, чтобы она тоже проводила его.
Приехав в аэропорт Пулково после практически бессонной ночи, он увидел, что Ксения и Александр Иванович сидят на скамейке в противоположном от Тамары конце зала. Потом к нему подошла Роза с маленькой дочкой на руках. Ему было стыдно из-за того, что сестра родила вне брака, и поэтому он повел себя очень жестоко. «Зачем ты пришла? – прошипел он. – Сейчас же уезжай домой!» Для сестры было унизительно, что ее прогоняют при всех, но Рудольф был непримирим: он не хотел никаких сплетен. Поэтому он и Тейе запретил приезжать в Пулково. Ходили слухи, что кого-то из труппы могут «развернуть» прямо из аэропорта… Рудольф немного успокоился только после того, как одного из танцовщиков отвели в сторону – кажется, у него нашли какую-то ошибку в документах. Когда приехал Леонид Романков, он застал Рудольфа в черном баскском берете «в приподнятом настроении – он много шутил». Его настроение оказалось заразительным. Проводив его, все стояли вместе у барьера. Неожиданно Ксения повернулась к Тамаре и сказала: «Александр Иванович едет на работу. Давайте посидим в кафе «Север»?» Застигнутая врасплох, Тамара согласилась и поехала с Ксенией на Невский проспект. Заказав фирменные блинчики, профитроли и кофе, они болтали, как школьницы, обмениваясь историями о Рудольфе и стараясь представить, как его примут на Западе. Так зародилась их дружба, которая углубилась благодаря взаимозависимости.
Глава 5
Ровно шесть шагов
16 мая 1961 г. на приеме после гала-премьеры Кировского балета в Гранд-опера гости разделились на две группы: русские стояли по одну сторону изящного Танцевального фойе, французы – по другую. Три парижских танцовщика о чем-то разговаривали, когда заметили молодого человека, который понемногу отходил от своей группы и приближался к ним. Как и все русские мужчины, он был в плохо сшитом костюме старомодного покроя и выглядел одновременно «одетым и неодетым», но его выделяло умное, оживленное выражение лица. «Смотри, этот совсем другой, – сказал Пьер Лакотт. – Сразу видно по тому, как он оглядывается, что его интересует все: он разговаривает глазами».
Постепенно молодой человек, словно любопытный дикий зверь, подходил еще ближе. «Теперь мы были уверены, что он подойдет к нам». «Вы говорите по-французски?» – спросил Пьер. «Нет, по-английски», – ответил тот. Потом, обернувшись к двум женщинам, он улыбнулся и сказал: «Я вас узнал». Высокая, стройная Клер Мотт, недавно ставшая прима-балериной, несколько раз выступала в России, и в первые дни гастролей Кировского балета она, вместе с солистами Клодом Бесси и Аттилио Лабисом, была единственной танцовщицей Парижской оперы, которые приходили на репетиции русских танцоров – смотрели, как те разогреваются, или сами участвовали в занятиях. Для Рудольфа их желание сравнить технику и приемы преподавания сразу сделало их родственными душами; к их равнодушным коллегам, которые репетировали в соседних классах, он испытывал лишь презрение.
Хотя сам он в тот вечер на сцену не выходил, он был ослепительным в роли принца Дезире на генеральной репетиции «Спящей красавицы», которую две балерины видели накануне. Кроме того, там присутствовал балетный критик Рене Сирвен, который восторженно писал о «молодом воздушном танцовщике потрясающей виртуозности и легкости». Статья Сирвена, озаглавленная «В Ленинградском балете появился свой космонавт»[15 - Тогда тема покорения космоса Советским Союзом была очень популярна: 12 апреля 1961 г. состоялся первый в истории полет Юрия Гагарина.], появилась в L’Aurore 17 мая, через день после премьеры, с обещанием, что 22-летний Нуреев на следующий вечер вновь выйдет на сцену в роли принца. На самом деле Рудольф не появился ни в одном из заявленных спектаклей «Спящей красавицы», хотя сам он утверждал, что Екатерина Фурцева, министр культуры, особо просила, чтобы его выпустили на сцену в день премьеры. Он вспоминал, как на приветственном приеме, который устроили в отеле «Модерн», Фурцева, едва войдя, направилась прямо к нему.
«Не поздоровавшись ни с танцовщиками, ни с Сергеевым, ни с другими, она сказала: «Страна ждет, что вы будете здесь танцевать». Она повернулась к Сергееву, который поспешил подойти ближе: «А вы проследите, чтобы он танцевал на премьере, и отправьте его выступать на Каннский кинофестиваль». Она хотела, чтобы я поехал в Канны и показал себя. Сергеев отвечал: «Да, да, да…» И все же он не выпустил меня на премьере «Спящей красавицы». Зато позволил выступить на генеральной репетиции. В то время во Франции, как во всех латинских странах, генеральная репетиция приравнивалась к спектаклю, так как на ней присутствовали все представители прессы. Не важно было, кто танцует на премьере. Поэтому его план провалился».
Рудольф в очередной раз заподозрил Сергеева в зависти, хотя Алла Осипенко расценила произошедшее по-другому. Она считает: поставив на премьеру Ирину Колпакову и ее мужа Владилена Семенова (пара получила лишь вежливо-одобрительные отзывы), директор оправдывался перед французскими импресарио. «Все вышло так, словно Сергеев и Дудинская говорили: «Вот видите, мы отдали премьеру молодым танцовщикам, и они не имели особого успеха». Если бы на премьере вышел Нуреев, он произвел бы сенсацию».
Какой бы ни была причина, пренебрежительное обхождение еще больше укрепило Рудольфа во мнении делать то, что он хочет. В то время как вся труппа ездила на официальные экскурсии и смотрела достопримечательности Парижа, он сбежал из автобуса, собираясь исследовать город в одиночку. Он испытывал даже нечто вроде благодарности к Сергееву, который, сам того не желая, предоставил ему неожиданную возможность. «Он дал мне шанс пойти в «Плейель» и впервые послушать кантаты и сонаты Баха в исполнении Иегуди Менухина. Это было замечательно». А после «Плейеля» 16 мая Рудольф пошел на прием в Танцевальном фойе.
«Очарованные таким необычным, красивым молодым человеком, французские танцоры, которые ранее договорились вместе поужинать на квартире у Клода Бесси, пригласили с собой и Рудольфа. «Я бы с радостью, – ответил он. – Но мне ни за что не позволят». – «Но попробовать-то можно, – настаивала Клер Мотт. – Мы не делаем ничего подозрительного, мы просто хотим поговорить о балете».
К Сергееву и Дудинской отправили делегацию из трех человек: они пришли просить, чтобы Рудольфа отпустили с ними. «Они оба пришли в замешательство. «Как вам известно, это не разрешается, – сказал им Сергеев. – Танцовщикам надо много работать, и они должны рано ложиться спать. – Неожиданно он смягчился и продолжал: – Но, если вы возьмете с собой еще одного человека из труппы Кировского театра, мы сделаем исключение». Услышав новость, Рудольф изумился: танцовщикам запрещено было куда-либо ходить отдельно от всей труппы. Рудольф сказал, что возьмет с собой своего соседа по гостиничному номеру: «Его зовут Юрий Соловьев». Поскольку французы только что видели Соловьева в «Синей птице» в па-де-де с Аллой Сизовой, они с радостью воспользовались возможностью познакомиться с исполнителем, благодаря которому стал возможен coup de tonnerre (роковой удар). «Мне именно Соловьев показался самым впечатляющим танцовщиком Кировского театра, – замечает Клод Бесси. – У него был невероятный прыжок – легче, чем у кошки. Но общаться с нами хотел не он, а Нуреев».
Клод жил на улице Ларошфуко, куда можно было пешком дойти от Оперы. Соловьеву было явно не по себе, и по пути он в основном молчал, вел себя как статист. Зато Рудольф говорил за них обоих. Париж его буквально завораживал – «постоянный праздник». Особенно его заинтриговали французские фланеры. Почему, спрашивал он, здесь кажется, будто все прогуливаются без всякой цели? Боже мой, подумал Пьер, у этого парня есть мнение обо всем! Такую точку зрения разделял и Клод, чья элегантная квартира вызвала у Рудольфа, едва он вошел, массу вопросов. «Это был его первый контакт с совершенно непривычным для него образом жизни. Ему все казалось слишком шикарным, и он много критиковал».
Несмотря на то что вначале Рудольф показался Клоду надменным и несговорчивым, Клер и Пьера он вскоре подкупил очевидной радостью оттого, что он находился в их обществе, и своей жаждой учиться. «Я бы хотел поговорить с вами о прошлом, – сказал он им. – Выяснить все, что вы знаете – то, что мы, возможно, больше не знаем». Пьер, бегло говоривший по-английски[16 - «Я хотел учить и английский, и французский, – признался однажды Рудольф журналистке Линн Барбер. – В Ленинграде была одна старушка, которая говорила по-французски, и она сказала: «Да, я тебя научу. Только тебе придется каждое утро выносить ведро с отходами» – у нее в доме не было туалета. И я подумал: «Нет, я выше этого. Я танцовщик…» Поэтому французский я так и не выучил. Но теперь я говорю молодым людям: «Если хотите чего-то добиться, если хотите чему-то научиться, вам придется выносить ведра с отходами».], выступал в роли переводчика; они продолжали говорить «обо всем. О Париже, об архитектуре и живописи, о том, как во Франции при Людовике Четырнадцатом зародился балет, о Версале… Рудольф уже все это знал».
Проведя вместе «фантастический вечер», Клер и Пьер отвезли двух русских танцовщиков обратно в унылый отель «Модерн». По просьбе Рудольфа их высадили не у входа в отель, а на углу площади Республики. «Потому что за нами следят». Рудольфу так не хотелось покидать новых друзей, что, когда они в память о вечере подарили ему коробку шоколадных конфет, он взял две штуки, а остальное попросил забрать: «Так я смогу взять две завтра и еще две послезавтра». «Рудольф, – со смехом сказал Пьер, – ты боишься, что мы больше не увидимся?» – «Да, конечно». – «Ты должен нам доверять. Возьми конфеты, и я гарантирую, что мы увидимся завтра». – «Но как? Что мы можем сделать?» – «Я приду посмотреть, как ты репетируешь, и ничего тебе не скажу, а потом мы встретимся и вместе выпьем. Знаешь маленький бар за Оперой на улице Обер? Увидимся там. Обещаю».
Пьер вошел в класс, когда репетиция солистов уже началась. Дудинская, которая вела репетицию, тепло приветствовала его и пригласила садиться. Пьер сразу заметил Рудольфа и Соловьева. Он узнал также Аллу Сизову и Ирину Колпакову. «Но Рудольф выделялся из всех: даже у станка у него была великолепная осанка». После того как танцовщики перешли в центр зала, Рудольф начал показывать себя в выгодном свете, краем глаза следя за тем, смотрит ли на него Пьер. «Он хотел устроить для меня пред ставление и танцевал как зверь. С технической точки зрения все было превосходно; тогда я понял, что он совершенно исключителен».
Когда репетиция закончилась, Пьер, намеренно избегая всякого контакта с Рудольфом, направился прямо в кафе «Пампам» и стал его ждать. «Он вошел, улыбаясь во весь рот, и сразу спросил, что я думаю. «Рудольф, если ты будешь так танцевать на своем первом спектакле, будет триумф!» – «Вот чего я хочу больше всего остального, – ответил он. – Нижинский и все великие танцовщики сделали себе имена в Париже. Но скажи откровенно, ты заметил что-нибудь неправильное? Что я могу исправить?» Узнав, что Пьер, независимый хореограф и режиссер, не только окончил балетную школу при Парижской опере и служил в труппе, но и учился у Любови Егоровой, балерины Мариинского театра, которая работала с Чекетти, Рудольф стремился узнать у него как можно больше.
Пьер, располагавший временем, – он ушел из одной труппы и только должен был приступить к работе в другой, а пока восстанавливался после травмы, – с удовольствием выполнил просьбу Рудольфа. В следующие несколько дней они посетили Сент-Шапель и собор Парижской Богоматери, посмотрели фильмы «Бен Гур» (который Рудольфу не понравился) и «Вестсайдская история» (которая растрогала его до слез). Когда они вышли на улицу, Рудольф в приливе эйфории принялся изображать «Ракет», пройдя в ча-ча-ча по Елисейским Полям.
Придя в гости к Пьеру в квартиру на авеню Ваграм, он немедленно почувствовал себя как дома, «как кот на подушке». Однажды он даже свернулся на полу калачиком и заснул, но ненадолго – он не мог себе позволить тратить напрасно ни секунды и постоянно задавал вопросы. Пьер увлекался балетами эпохи романтизма. В этой области он, благодаря ряду скрупулезно проведенных реставраций, считался ведущим специалистом во Франции. Узнав, что Пьер танцевал в одноактном балете «Призрак розы» в Парижской опере, Рудольф просил научить его (Призрак розы был одной из легендарных ролей Нижинского, которые он решил освоить). Изучив знаменитые фотографии Нижинского с головой, словно покрытой лепестками, в обрамлении похожих на усики рук в стиле модерн, Рудольф уже обрел собственное четкое представление о его стиле, и, когда Пьер попытался удлинить преувеличенный изгиб его пор-де-бра, возмущенно воскликнул: «Не убивай мое вдохновение!»
Они продолжали работать вместе в студии Клер Мотт, и Пьер продемонстрировал несколько па, которые он исполнял в балетах Баланчина. То, что началось как творческий союз, вскоре вылилось в дружбу. «Он был таким счастливым и обаятельным, он сказал мне: «Теперь ты как член моей семьи». В последующие недели Рудольф поделится с ним мучительными подробностями своей жизни в России, опишет свое трудное детство, расскажет Пьеру о Мении, своей подруге-кубинке, и часто будет говорить о Пушкине. Впрочем, никаких особенных подробностей Пьер от него тогда не узнал. «В то время он был очень осторожным. Так, я понятия не имел, что он гомосексуален. Тогда его занимало одно: посмотреть, узнать, научиться». Ни разу Рудольф не высказывался против советской власти, хотя с горечью говорил об отсутствии возможностей в Театре имени Кирова, сказав: ему часто казалось, что он задыхается.
В досье на Рудольфа в КГБ имеется документ, в котором утверждается, что именно Пьер убеждал Рудольфа остаться во Франции. Однако Пьер настаивает на том, что никто из них даже не заговаривал о побеге. Наоборот, Пьер рассказывал о своих планах приехать в Лондон, чтобы посмотреть на Рудольфа в «Жизели». Кроме того, он обещал приехать к нему в Ленинград. «Рудольф жаловался: «Они все время против меня. Я не могу ни сказать, ни сделать того, что думаю». А я говорил ему: «Слушай, тебе как танцовщику нужна дисциплина. Помни, что ты здесь, в Париже, и танцуй, как бог».
«Настало 19 мая, день дебюта Рудольфа. Третье действие «Баядерки», картину «Царство теней» включили в смешанную программу, куда входила казачья сцена из «Тараса Бульбы». В этой сцене, образце советского мачизма, появился и Рудольф. Зрители, большинство которых никогда не видели «Баядерки», великого русского классического балета, была заворожены с того мига, как поднялся занавес. Их первое впечатление от длинного ряда кордебалета, воплощающего видение счастья Петипа, когда они словно в трансе повторяли медленную последовательность арабесков, которая, казалось, длится вечно, была наполнена невероятной поэтической красотой и чистотой. Затем, после па-де-труа трех главных Теней, внезапно появлялся Рудольф. Пьер очень нервничал, «потому что, хотя он так чудесно показал себя на репетиции, на спектакле от волнения может случиться всякое. Но после того, как он вылетел на сцену без музыки, зрители ахнули… Потому что он был как тигр».
Впечатление чего-то необычного усилилось после того, как Рудольф исполнил свою «фирменную» сольную партию из «Корсара»[17 - «Сергеев предложил мне исполнить другую сольную партию, но не сказал какую, – говорил Рудольф Джону Персивалю (Nureyev: Aspect of the Dancer). – В первый вечер я исполнил соло из «Корсара» и имел большой успех. Но потом я взял партию Солора из предыдущего действия балета [вариацию сцены свадьбы]». В словах Рудольфа есть некоторое противоречие. И Ирина Колпакова, и Ольга Моисеева, которая в тот вечер была его партнершей, утверждают, что он мог исполнять только соло из второго действия «Баядерки». «Это нелепо. Невозможно было включить в «Баядерку» вариацию из «Корсара», – настаивает Колпакова. Но зачем, спрашивает Персиваль, «Рудольфу было это выдумывать?» В интервью с режиссером документального фильма Джоном Бридкатом Пьер Лакотт подтверждает: Рудольф действительно в тот вечер исполнил сольную партию из «Корсара». «Это было из другого балета – из «Корсара», который мы тоже до того не видели. Когда потом он сказал мне об этом, я ответил: «Боже мой, никогда ничего подобного не слышал!»Критик Оливье Мерлен написал в своем обозрении: «Сольная партия воина Солора вызвала оглушительную овацию на премьере молодого советского артиста. Он, по сути, создал собственную вариацию и исполнил па, невиданное прежде: двойной tour en l’air grand saut du chat, подложив под себя одну ногу» (Le Monde, 24 мая 1961 г.).].
Внезапно сделав в первом такте высокий, как у балерины, аттитюд, он начал свою ставшую знаменитой диагональ со-де-баск. Он буквально взмывал в воздух и зависал там, поджав под себя ноги, как Будда, затем устремляясь вперед, словно был хищником, который собирался напасть. На генеральной репетиции Рене Сирвен стал свидетелем того, как Рудольф остановил оркестр и накричал на дирижера – либо за то, что тот возражал против вставки партии из другого балета, либо из-за того, что он играл не на той скорости, какая была нужна Рудольфу (сам темп исполнения должен был замирать, когда он бросался в свои чудесные прыжки и зависал в воздухе, словно баскетболист). Считая, что вычурный, старомодный костюм сковывает его элевацию, Рудольф упростил его, сменив цвет на ярко-синий и подчеркнув изгиб торса глубоким вырезом и белым кушаком, а свои татарские скулы – тюрбаном, украшенным перьями. «Как он блистал!» – вспоминает его партнерша Ольга Моисеева. Запад никогда не видел такого исполнителя, как Рудольф, – совершенное животное, в котором сочетались надменность и дикая настойчивость, его «кошачьи повадки», подчеркнутая вытянутость и легкость исполнения. «И пусть его ноги были не настолько длинными, как ему бы хотелось, – скажет позже Барышников, – но тогда, особенно в сочетании с его мощными, атлетическими икрами, они казались налетом земного. Они были очень мужественными и в то же время немного женственными… Это придавало ему такую сексуальность, какой в то время не обладал никто другой. Это было так экзотично».
Фурор, который последовал после окончания сольной партии, был оглушительным. «Зрители буквально визжали от восторга, – вспоминает Пьер. – Я видел сотни спектаклей с участием Рудольфа, и никогда он так не танцевал. Никогда!» В Париже не было сравнимого с тем события в мире балета после первого появления Нижинского в «Русских сезонах» более пятидесяти лет назад – дебют, который, по совпадению, случился в тот же самый день того же самого месяца. «Он почти Нижинский в «Жар-птице», – писал Оливье Мерлен из Le Mond, но 80-летняя Любовь Егорова, которая была партнершей Нижинского в Мариинском театре, уверяла, что в Рудольфе было нечто более величественное, чем в его предшественнике. «Он выше, длиннее, стройнее, из-за чего кажется легче… И у него та же осанка [, что и у Нижинского]». Для тех, кто видел собственными глазами «парящего ангела», появление Рудольфа стало вторым пришествием, а для тех, кто его не видел, партия стала настоящим чудом. «Он открыл Западу глаза на русский балет, – заметила Ирина Колпакова. – Благодаря ему на Западе снова горячо полюбили наше искусство».
Сразу после представления Рудольф присоединился к своим французским друзьям; они собирались повести его на праздничный ужин: «На заднем сиденье в машине была молодая девушка, которую я раньше не видел: очень бледная, миниатюрная, на вид ей можно было дать не больше шестнадцати… Мне представили ее как Клару Сент… Клара за весь вечер не сказала почти ни слова. У нее были красивые прямые черные волосы с рыжеватыми проблесками, которые она то и дело мягко, по-детски, отбрасывала назад. Она встряхивала головой и улыбалась, всегда молча. С первой минуты, как я ее увидел, она мне ужасно понравилась».
Рудольф не помнил, что несколько дней назад уже видел 22-летнюю Клару: Клер Мотт провела ее за кулисы, чтобы познакомить с танцорами Театра имени Кирова. Единственным, кто заговорил с ними тогда, был Рудольф.
Проведя раннее детство в Буэнос-Айресе, после развода родителей Клара в пятилетнем возрасте переехала в Париж с матерью-чилийкой. Ее отец, оставшийся в Аргентине, был богатым промышленником, и Клара стала наследницей огромного состояния. Симпатичная, умная и практичная, она вращалась в обществе танцовщиков, художников и модных кутюрье, однако сохранила мягкость и сдержанность, на которые сразу же инстинктивно откликнулся Рудольф. Ее женихом был Венсан Мальро, младший сын Андре Мальро, французского министра культуры. «Впечатляющий» студент-философ, Венсан был высоким, красивым, черноглазым, обладателем огромного обаяния и чувства юмора. Впрочем, любви Клары к балету он не разделял. Воспользовавшись тем, что Венсан и его брат на несколько дней уехали на юг Франции, Клара вместе с Клер Мотт стала посещать представления Кировского балета вместе с Клер.
Прежде чем пригласить всех на ужин в дом своей матери на набережной Орсэ, Клара пригласила друзей в гости в свою новую квартиру на улице Риволи. Хотя там еще шел ремонт, Рудольф испытал благоговение от размеров квартиры и потрясающих видов, которые открывались из окон на Тюильри. Скорее всего, он вздохнул с облегчением, узнав, что они будут ужинать на кухне в квартире матери Клары. Оживленный после своего успеха и подбадриваемый своими французскими друзьями, Рудольф был разговорчивее, чем прежде; он удивил Клару своим кругозором: «Я сказала, что он, должно быть, получил прекрасное образование, потому что он знал нашу музыку, говорил о французском импрессионизме и пуантилизме… Но он ответил: «Я всему учился сам. В Ленинграде я все время хожу в Эрмитаж: он нужен мне, как воздух». В тот вечер он был так счастлив, рассказывал о многом из того, что он собирался сделать. Он не упоминал о том, что собирается покинуть Россию, но сказал: «Я мечтаю стать свободным, чтобы приезжать сюда, когда я хочу».
Желая показать Кларе свой любимый Кировский балет, он предложил провести ее на «Каменный цветок» Григоровича, в котором он не участвовал. В вечер премьеры, 23 мая, почти все взгляды публики были сосредоточены на ложе для почетных гостей, в которой бок о бок сидела молодая пара. В нескольких ложах от них сидело руководство Кировского театра. Один из чиновников в антракте отозвал Рудольфа в сторону и выбранил за то, что он общается с иностранцами. Рудольф ничего не сказал Кларе ни о выговоре, ни о запрете дружить с ней. После спектакля они вместе поужинали в бистро на бульваре Сен-Мишель. Почти весь следующий день Клара ждала дома возвращения Венсана. На долгие выходные (тогда был праздник Троицы) она дала жениху и его брату свой «альфа-ромео». В полночь от них по-прежнему не было вестей, и Клара поняла: с ними что-то случилось. Несмотря на поздний час, они позвонила родителям жениха. К телефону подошла мать Венсана, Мадлен. «Значит, ты еще ничего не знаешь? – воскликнула та. – Сейчас же приезжай к нам!» Приехав, Клара узнала, что и Венсан, и его брат Готье погибли, они разбились, когда ехали на высокой скорости на опасном участке горной дороги на Лазурном Берегу.
Следующие несколько дней прошли для Клары как в тумане. Врач делал ей уколы валиума; она почти не запомнила похорон Венсана и того, как, более недели спустя, чувствуя себя как сомнамбула, она пришла во Дворец спорта (огромная арена на южной окраине, куда перевели спектакли Кировского балета) на парижский дебют Рудольфа в «Лебедином озере». Некоторые были «слегка шокированы», когда увидели, что она уже выходит в свет, но балет помог ей забыться, и следующие две недели она позволила себе увлечься делами трех друзей: «Мы начали видеться с ним до репетиций, после репетиций… Клер говорила: «Приезжайте к нам обедать! Что вы делаете потом?» Мы повсюду водили его с собой: в Версаль, на «Болеро» Бежара, в бар «Крейзи Хорс»… Он не верил своим глазам, когда смотрел на голых девиц, и много смеялся! Он хотел купить электрическую железную дорогу, и мы поехали в магазин игрушек «Синий гном». Мы скучали, а он застрял там на два часа, совершенно завороженный. Он хотел посмотреть книги на английском языке, и мы привезли его в магазин Галиньяни на улице Риволи. Он никогда не видел магазина, где было бы столько полок с книгами – сначала он подумал, что очутился в библиотеке, и не понимал, что там можно купить книги. Каждый день с ним происходило что-то новое, и он был так очарован и взолнован, что без конца целовал нас и повторял: «Я так счастлив!»
Они заметили, что Рудольф, как ребенок, хочет все и сразу: например, просил подать ему чай, горячий шоколад и кока-колу. Клер, которая в их группке исполняла роль старшей сестры, пожурила Рудольфа, сказав: «Какой ты избалованный! Сейчас выпей чаю, а потом закажешь что-нибудь еще». «Он обиделся и не разговаривал с нами целых две минуты». «Я вовсе не избалованный, – буркнул Рудольф. – Вы и представить себе не можете, каким бедным я был в детстве».
Жадность вызывалась жаждой новых ощущений. Но в то время, когда Рудольф наслаждался благами западной цивилизации, его коллеги по Кировскому театру почти все свободное время посвящали покупкам; за месяц в Париже они побывали не более чем на одном-двух спектаклях. Они с интересом посмотрели другую редакцию «Спящей красавицы», которая только что вышла в Театре на Елисейских Полях. «Красавица» вошла в репертуар труппы маркиза де Куэваса, которая вскоре приобретет для Рудольфа особое значение. Эта роскошная постановка – она стала последней прихотью Жоржа де Куэваса, который три месяца не дожил до премьеры – обошлась в 150 миллионов франков, из-за чего маркиз вынужден был продать свои коллекции и квартиру на набережной Вольтера. Впрочем, спектакль не произвел на русских особого впечатления. «Балет сдержанный и скромный. Ничего похожего на Кировский театр», – сказала Габриэла Комлева. «Странные костюмы с перьями, как из «Фоли-Берже», больше подходят для мюзик-холла», – считала Ирина Колпакова. Рудольф отнесся к постановке так же критично: он считал, что вычурные декорации отвлекают внимание от танцовщиков, которым недостает однородной подготовки и эмоциональной глубины. Тем не менее, когда Пьер объявил, что Рудольф приглашен на ужин, где он познакомится с новым директором труппы, Раймундо де Ларреном, ему не терпелось обсудить обе версии спектакля.
Увидев «Спящую красавицу» Ларрена в стиле рококо, Рудольф несколько удивился, когда попал в квартиру директора на улице Сен-Пер, обставленную хотя и роскошно (стены были обиты бархатом, повсюду предметы антиквариата XVIII в.), но с утонченной сдержанностью. Сам Ларрен оказался таким же утонченным – занятный собеседник с аристократическими манерами, которые временами граничили с высокомерием[18 - По словам Хьюго Виккерса, редактора книги Alexis: The Memoirs of the Baron de Redе, утверждение Раймундо де Ларрена, будто он племянник Куэваса, сомнительно. «Ларрен на самом деле был чилийцем-жиголо, одним из приятелей Куэваса… нервным созданием с длинным носом и еще более длинными холеными пальцами».]: «В отместку за то, что Ларрен критиковал старомодный репертуар Кировского театра, Рудольф начал высмеивать труппу де Куэваса. «Сколько вы будете исполнять «Спящую красавицу»? – спросил он у Раймундо. – Неужели целый месяц? Это не балет, это мюзикл!» Пьер вспоминает, как Рудольф демонстрировал свое презрение к вычурным декорациям: схватив хрустальную вазу, он поставив ее на голову. «Смотрите! Костюм работы Раймундо де Ларрена!» «Этот парень – настоящий мужик!» – шепнул Раймундо Пьеру. И все же, несмотря на размолвку, Рудольф решил, что они с Ларреном подружились.
Сам Рудольф вспоминал, что в тот вечер его сопровождал Соловьев, но Пьер совсем не помнит второго танцовщика Кировско го балета в квартире Ларрена. Все сильнее презирая регламент, навязанный артистам «сопровождающими» из КГБ, Рудольф давно уже перестал отпрашиваться на свои вылазки и брать с собой спутника. Ему вынесли еще одно строгое предупреждение, запретив видеться с друзьями, которых агенты КГБ называли «сомнительными личностями… политически неблагонадежными представителями артистической богемы».
«Значит, нам нельзя больше встречаться», – заметил Пьер, когда Рудольф все ему рассказал, но Рудольф в ужасе воскликнул: «Как ты можешь такое говорить?! Друг ты мне или нет?» – «Да ведь это ради тебя, – возразил Пьер. – Веди себя осторожнее. Мы не хотим, чтобы тебя наказали». – «Но я хочу проводить время с вами! Мы так замечательно подружились. Я не намерен их слушаться».
Поняв, что «совершенно недопустимое» поведение Рудольфа не изменится, Виталий Стрижевский, сотрудник КГБ, который числился заместителем руководителя гастрольной поездки, написал на него рапорт. 3 июня Сергеев и Георгий Коркин, директор театра, получили из Москвы приказ вернуть Нуреева до конца гастролей, «приняв все меры предосторожности». Через три дня прислали напоминание. Вместо того чтобы действовать по инструкции, Коркин и посол СССР во Франции пробовали заступиться за Рудольфа, просили, чтобы ему разрешили остаться до конца гастролей. Как им объяснить внезапное отсутствие звезды, которой труппа во многом обязана своим успехом? Публика шла «на Нуреева». Его парижский успех был таким оглушительным, что репортаж об этом появился даже в ленинградском выпуске «Советской культуры». Кроме того, после начала гастролей он стал более покладистым, принял участие в пропагандистской фотосъемке, призванной иллюстрировать сердечное согласие между французскими и русскими коммунистами. Рудольф, Сергеев и трио балерин Кировского театра позировали с французскими журналистами и танцовщиком Мишелем Рено в редакции коммунистической газеты L’Humanitе. Именно Нуреев больше, чем другой член труппы Театра имени Кирова, приносил славу Советскому государству: за несколько дней до того Серж Лифарь наградил его премией Нижинского; в своей речи он предвещал, что балет будет поделен на три эпохи: «l’еpoque Nijinski, l’еpoque Lifar, et l’еpoque Noureev» – эпоху Нижинского, эпоху Лифаря и эпоху Нуреева.
Не ведая о том, что его будущее висит на волоске, Рудольф снова стал позволять себе раздражение: после того, как его принимали в Париже, он казался себе непобедимым. На одном спектакле, начав вариацию из третьего действия «Лебединого озера», он поскользнулся и упал, но, вместо того чтобы продолжать танцевать, жестом показал, чтобы оркестр перестал играть, и ушел со сцены. Пьер вспоминал, что его французские друзья пришли в ужас: «Мы молча ждали и ждали. Когда он, наконец, вернулся и подал знак дирижеру… я подумал: «Боже мой, лучше станцуй хорошо, иначе тебя освистят. Во Франции публика такого не прощает». После представления мы сказали: «Рудольф, ты очень рисковал. Пожалуйста, больше так не делай… Если так будет продолжаться, тебя ждут крупные неприятности». – «Да, но я танцевал хорошо».
Так и было. Он станцевал великолепно, привнеся в образ принца Зигфрида властность и утонченность, которых не было в его исполнении в Ленинграде. Тем не менее слежка КГБ за Рудольфом усиливалась день ото дня. «Смотри, за нами кто-то идет!» – воскликнул он, когда они с Пьером как-то вечером выбрались в город. Пьер рассмеялся: «Ты не придумал?» – «Ты мне не веришь? Я точно знаю. За нами следят люди из русского посольства». Пьер развернулся, но никого не увидел. «Ну, конечно, – сказал Рудольф. – Они спрятались!»
Коллеги тоже предупреждали Рудольфа, что за ним следят. «Говорить о таком было неприятно, – вспоминает Ольга Моисеева. – Но мы решили, что предупредить его стоит, потому что, хотя он подолгу задерживался со своими иностранными друзьями, на следующий день он все равно прекрасно танцевал». Артисты, которых разместили в другом отеле, радовались, что все кагэбэшники сидят в «Модерне» и ждут Рудольфа, а им можно без помех ходить за покупками и гулять по парижским улицам без сопровождения. «Мы даже ходили в ночной клуб!»
В тот вечер, когда французские импресарио пригласили всю труппу в «Лидо», скучающий Рудольф обратился к сидевшей с ним рядом Жанин Ринге: «Ты знаешь, кое-кто хочет, чтобы я остался во Франции!» Я ничего не поняла: «Рудольф, что ты имеешь в виду?» – «Что ты скажешь, если я уйду из труппы?» Должно быть, он увидел выражение ужаса на моем лице – конечно, в таком случае пострадало бы дело, которым мы занимались. Через некоторое время он сказал: «Не волнуйся, я пошутил! Я прекрасно понимаю, что должен остаться в Кировском театре».
Некоторых танцовщиков заставляли доносить друг на друга. Когда одна балерина узнала от другой, агента КГБ, что Рудольф говорит своим друзьям-французам то, что не должен говорить – «что его зажимают в театре и не дают делать то, что он должен делать», – она передала содержание разговора секретарю комсомольской организации, хотя сама признается: «Мы все жаловались».
«Юрия Соловьева постоянно допрашивали о приходах и уходах его соседа по номеру. «Однажды он подошел ко мне и сказал: «Ох, Рудька, меня заставили открыть твои сумки. Я искал твой билет на самолет». Но, хотя Соловьев еще покрывал Рудольфа и предупреждал, чтобы тот вел себя осторожнее, ему все больше надоедала напряженная обстановка и невозможность уснуть (Рудольф редко возвращался раньше двух-трех часов ночи). Он попросил, чтобы его переселили в другой номер. Его просьба породила множество слухов. Так, говорили, что Соловьева специально подселили к Рудольфу, чтобы тот попытался его соблазнить и доказал его гомосексуальные наклонности. Более правдоподобная версия, которую подтверждает сам Соловьев, заключалась в том, что флиртовать пытался Рудольф. Услышав подобное предположение, Александр Шавров, ближайший друг Соловьева, говорит: «Если бы Рудольф попытался сделать нечто подобное, Юрий врезал бы ему по морде, по русскому обычаю». Но именно это и произошло, если верить Алле Осипенко. «Юрий говорил, что, когда Рудик начал к нему приставать, он ударил его по лицу»[19 - Это подтверждается признанием его жены, Татьяны Легат, которое она сделала в беседе с Дианой Солуэй. По ее словам, Соловьев «был так потрясен приставанием Рудика, что ударил его по лицу и до конца пребывания в Париже избегал его». Сам Соловьев признавался общему знакомому, Теренсу Бен-тону: «Рудольф всегда пытался залезть ко мне в постель. И я сказал: «Если не прекратишь, я заявлю на тебя». Когда Бентон спросил об этом Рудольфа, тот рассмеялся и сказал: «Да, так все и было. Он донес на меня». Но этой версии противоречат показания одного сотрудника театра, данные после того, как Рудольф остался на Западе. Данный сотрудник недвусмысленно утверждает, что «в то время, когда Нуреев служил в Театре имени Кирова, никаких признаков аморального поведения он не проявлял».].