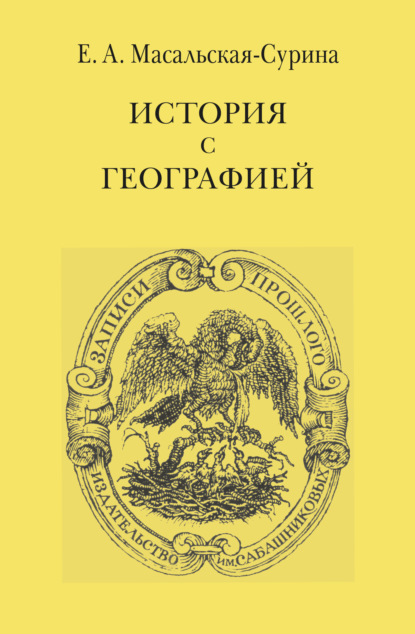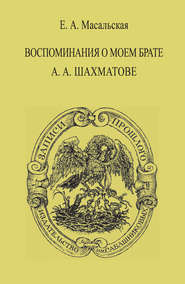По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История с географией
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После провала Бенина и отъезда в Губаревку, Оленька действительно начала охладевать к нашей затее, а Леля к тому убеждал ее не рисковать: «Кузнецов напугал Лелю, – писала она, – что непременно все с землей прогорают, что более 6 % ровно никакое дело не даст, что винокуренный завод может стать, или явится конкуренция, или Иван Фомич умрет, или уйдет, или ремонт придется делать». Тот же Кузнецов при свидании с Лелей в Москве напугал его и закладными: очень опасно давать деньги под дома, владелец дома имеет векселя, о которых и не узнаешь, или он в будущем их наделает, так лучше купить бумаги на пять процентов. А опять и опять искать новых имений я уже право не сочувствую, т. к. вижу, как это сложно и трудно.
С этим пришлось помириться. Если мы еще и станем рисковать своими деньгами, то Оленьке, заплатив все проценты с 15 апреля, мы возвратим деньги, взяв на себя все убытки по размену, переводу и пр. Приходилось сознаться, что добыть земли мудрено. Прав был один польский помещик, когда говорил Вите: «Ничего вы здесь не найдете: за порядочное имение крепко держатся, а на рынке один хлам!» И мы забросили наши уроки географии. Уроки истории тоже стали: младший сын Снитко заболел, потребовалось его отвезти и с ним прожить часть лета в Крыму. И экспедиция в Туров была отложена. К тому же я была занята предстоящим отъездом Тата. Она сначала настаивала, чтобы я приняла все ее дела и приют на себя. Но я решительно отказалась. Тогда она передала их жене корпусного командира Новосильцевой, очень красивой и милой женщине. Их дом был редкий дом в Минске, где к Тата относились вполне благожелательно и ни в какие Минские дрязги не входили. Но Тата все-таки тесно связывала меня с приютом святой Ирины, о котором мы столько с ней хлопотали, и поручала его и мне. Так как Новосильцева морально была головой выше всех остальных минских дам, мне с ней было по душе.
Губаревские письма также меня радовали, хотя в каждом письме напоминалось, что надо скорее к ним приехать. В двадцатых числах июня гостил Борис Зузин со своей чрезвычайно симпатичной женой. После их отъезда Леля, принимавший в то лето живейшее участие вместе с детьми в уборке отличного сена (лето было великолепное), собрался 22 июня в Корбулак, к мордве. «Иначе, – писал он, – я не могу закончить своей книги, которая должна выйти осенью».
Поездка Лели была удачная: «Съездил очень хорошо в Корбулак. Пробыл там три дня в самой напряженной работе. Вернувшись в Губаревку, увидал, что фонограф испортился. Явилась мысль ехать в Саратов, и поехали вчетвером: Шунечка, Олечка, Альма Ивановна и я. Олечка очень радовалась возможности увидеть Саратов; мы показали ей Волгу, прокатили в Покровскую Слободу, затем обедали в Приволжском вокзале. Хозяйственные дела идут благополучно. Все время работаем с сеном. Теперь убираем могар[171 - Щетинник, итальянское просо. – Примеч. сост.] и т. д.».[172 - Письмо А. А. от 4.7.1909.] Могар, так же, как и сераделла, были мной высланы ранней весной для искусственных лугов, приготовленных при мне осенью в Губаревке, и Леля радовал меня сообщая: «С радостью смотрю я на зеленеющие луга с посеянной травой. Это мы тебе обязаны».[173 - Письмо А. А. от 14.7.1909.] Еще более радовали его яблоньки, присланные в апреле из Минска. Это были не обычные наши чахлые присадки, двухлетки, а яблоньки четырех-пяти лет с великолепной мочкой. С осени разбитый и распланированный сад на сто семьдесят яблонь уже принялся отлично, и Леля особенно радовался ему, т. к. сад занял большую площадь за его летним домом, с видом на него с террасы на гумно.
Но в то время, когда Леля работал в Корбулаке, в любимый мной с детства праздник Ивана Купалы мы с Витей, засидевшись в Минске, еще раз вырвались из него. Купить что-либо дорогое мы не могли уже рассчитывать, решив вернуть Оленьке ее деньги, но мы хотели еще попытаться так обернуться, чтобы покрыть наши уже значительные расходы, лишавшие нас лично до двух тысяч рублей (размен денег, проценты Оленьки, разъезды и пр.), словом, отыграться и вернуться к первобытному состоянию (!). Комиссионеры перестали даже заходить к Гринкевичу, который был поглощен окраской своих домов в какой-то дикий кирпичный цвет. Но вдруг выручил нас Мышалов, торговец шляп на Губернаторской улице, у которого Витя утром заказывал летнюю фуражку и жаловался, что не может найти себе имение. Через час Мышалов уже привел с собой поверенного графа Платера, и оба стали уговаривать купить имение Альт-Лейцен, бывшее графа Платера, за Двинском: «Совсем недалеко! Но что за имение! Такого имения во всей Минской губернии не сыскать! – в два голоса упрашивали они. – Даже не купить, а взглянуть на него стоит!» Кончилось тем, что Витя взял недельную отлучку, и мы выехали в Альт-Лейцен. А вдруг там, в Курляндии, мы и найдем что-либо подходящее?!
Мы прибыли в Двинск ночью. Утром были в Штоксмонгофе, Рига-Орловской железной дороги. Оттуда по узкоколейке потащились на станцию Мариенбург, где нас ожидала коляска четвериков, высланная поверенным графа Платера, прибывшим раньше нас в Альт-Лейцен. Дорогой нас поразило, что всего в нескольких часах от Двинска мы точно попали за границу: начиная с уютной, обвитой витисом Штоксмонгофской станции, где нас угощала кофеем настоящая немка, тянулись живые изгороди по обе стороны пути; прекрасно обработанные поля, а от станции шло чудесное шоссе, обсаженное старинными деревьями, попадались фермы с черепичными крышами, каменные риги. Словом, Курляндия, культура! Значит, не почва, не климат виноваты, когда тут же в Белоруссии начинается дичь, бездорожье, безлюдье, болота в кочках, пустыри и обглоданные леса!!! Никогда не было мне так больно, обидно и жалко свою Русь, как в это утро!
Осмотрели мы Альт-Лейцен как следует. Целый день проездили по лесу. Чудный, нетронутый лес! Какие сосны, какие ели! Что за воздух в этом лесу! Какие озера, фольварки, заводы скипидарные, лесопильные, сыроварни! Дом деревянный, низкий, но очень большой, хотя и разоренный, совсем без мебели. Когда-то здесь кипела жизнь, здесь выращивались поколения Майендорфов. Да, здесь можно было поселиться и хозяйничать, как хозяйничали здесь много лет, пока граф Платер, сам отличный хозяин, не сделал владельцем имения какого-то хищника Кана, который успел уже на все наложить свою руку. Мы это поняли из слов священника русской церкви у самого шоссе из Пскова на Верро и взглянув на ужасный лесорубочный контракт, по которому большая часть этих лесов сводилась на нет. Когда же я, хотя и самым поверхностным образом, просмотрела приходо-расходные книги, чтобы понять, что это за двадцать тысяч чистого годового дохода, о которых толковал нам поверенный, мы поняли, что никакого чистого дохода в Альт-Лейцене нет! Я нарочно обратила на это внимание поверенного. Он рассмеялся:
– Да если бы имение давало двадцать тысяч, разве граф Платер продавал бы его?
– А сколько же оно дает теперь?
Определенного ответа не последовало. Но в противовес Губаревским дождям июньская засуха уже погубила хлеба и травы. Предстояло даже покупать рожь для прокормления скота и работников-латышей. Последние праздновали этот день Ивана Купалы, пришли к нам под окна в венках цветов и пели дикими голосами на непонятном говоре. Мы дали им на чай, случайные господа в этом заброшенном доме.
Когда на другой день мы покинули Альт-Лейцен, мы, по крайней мере, уносили впечатление о чем-то красивом и могучем! Здесь можно было работать; здесь дышало сытостью, несмотря на грозящую засуху. Быть может, и напрасно мы не остановились на этом имении, испугавшись лесорубочных контрактов. Витя мог бы перевестись служить в Курляндию. Ехали мы обратно по шоссе на Мариенбург, через местечко, прекрасно расположенное на берегу великолепного озера. Это была родина той Екатерины, память о которой в эти самые дни так торжественно праздновалась в Полтаве. Мы остановили лошадей, вышли с Витей из коляски и осмотрели старинную кирку, пастор которой тогда приютил Екатерину.
Удивительно красивое местечко! Оно буквально утопало в зелени, каменные опрятные домики до самых крыш были обвиты гирляндами зелени и цветов. Вернувшись в Двинск, мы повернули на Полоцк, куда и прибыли в пять часов утра после совершенно бессонной ночи в душном вагоне. Тихо, безлюдно было на улицах древней столицы Полоцкой земли!
Мы не расставались с «Россией» Семенова, когда ездили в поисках за землей, и называли его коротко «Спутником», и теперь в шесть часов утра, за чаем у открытого окна небольшой гостиницы, скорее, постоялого двора, я громко читала Вите описание Полоцка и его историю. Затем мы осмотрели его неважные достопримечательности и направились домой, в Минск, по Полоцкой дороге на Молодечно. Но на полпути вышли на станции Полсвилие, чтобы заехать в Куровичи, имение, о котором Витя переписывался с минским помещиком Григоровичем, опекуном малолетних Глинских, владельцев Куровичей Лепельского уезда: тысяча семьсот десятин, цена девяносто пять тысяч, несколько фольварков, имение очень удобное для «порцеляции». Нам нужно было усадьбу с небольшим хозяйством, но с возможностью отпродать лишнюю землю, поэтому, взяв лошадку на станции Подсвилие, мы потащились по ужасной дороге за шесть верст в усадьбу Куровичей. Боже! Что за ужасное впечатление! Когда-то, по-видимому, это была богатая усадьба польских помещиков Глинских. Но они разорились. Глинский проигрался в карты и убил у себя в доме того, кто его разорил. Несчастный убийца теперь скитался в Петербурге, чуть ли не по ночлежкам, а управляющий, заменивший владельца, вконец разорил имение и сжег дом, чтобы скрыть отчеты и документы. На очень высоком обрыве, над гладким зеркальным озером стояли массивные, кирпичные колонны сгоревшего дома. По склону горы за домом к озеру спускался запущенный сад, в котором белели в большом количестве кости лошадей. Нам сказали, что варвар-управляющий Ясневич самолично их стрелял здесь. Сколько ужасов было пережито в этой усадьбе! Не только поселиться, даже переночевать в ней, в небольшом флигеле, мы бы не решились!
И вот опять мы вернулись в «Гарни»! Альт-Лейцен все-таки было чудесное имение! За него просили двести тысяч, с комбинациями, но страшный лесорубочный контракт вязал руки. Неутешен был Мышалов: он давал нам хорошее имение, по совести, потому что в его интересах было привлечь внимание публики к своему шляпному магазину. «При удачной покупке нами Альт-Лейцена, конечно, губернатор, Урванцев и другие высокие господа стали бы покупать шляпы исключительно у него!» – говорил он, печально качая головой.
Глава 8. Июль 1909. Веречаты и Щавры
Мы только что вернулись из Смолевичей: моя попадья устроила благотворительный спектакль. Сама в роли тещи в водевиле «Теща в дом, все вверх дном», попадья была бесподобна, и вообще весь спектакль в большом сарае и все прочее, до угощенья жареным поросенком за ужином включительно, прошло с большим подъемом. Публики было много и, благодаря Тата, всегда готовой участвовать в благотворительных деяниях, немало приехало «высоких гостей» из Минска. Кроме Тата со всеми детьми, был и ее брат Корветто, недавно женившийся на очень милой вдове Гаршиной (из Тамбовских). Тата надеялась, что эта молодая женщина, видимо, с характером, сумеет, наконец, прибрать к рукам ее легкомысленного брата.
Витя после спектакля вечером же вернулся в Минск, а я осталась ночевать у Тата, в Борисове. Я радовалась за нее: она избавится от «осиного гнезда». Назначение Константина Михайловича было блестящее, он был самый молодой губернатор в России, но жаль было с ними расстаться. Тата с болью отрывалась от любимого дела. Утром мы пили с ней кофе на обширном балконе дачи с красивым видом на город Борисов, закутанный не то дымом, не то утренним туманом. К обеду надо было вернуться в Минск, где становилось скучно, жарко, душно: не спасали и два балкона. Ничего не может быть скучнее лета в городской обстановке!
Дома меня ожидало письмо из Губаревки. Оленька писала длинное, жалобное письмо. Она просила не слушать опасений Лели и ворчания Тети, которые считают нас уже погибшими. Она решительно не хочет ни процентов бумаг, ни закладных, она хочет с нами купить земли с усадьбой. Непременно с усадьбой! Я не стану здесь приводить этого письма.
Скажу кратко, что русская пословица говорит о тесноте для двух медведиц. В этом был, в сущности, смысл всей нашей затеи, важнее всех приводимых пунктов в письмах моих к Леле. В этом была зарыта собака! Но даже намекнуть Леле на это нельзя было! Достаточно, что я ссылалась на его будущих зятьев, но, конечно, не в них было дело. Вопрос был в том, что Леля лишил Шунечку голоса и значения в домашнем хозяйстве Губаревки, чтобы оградить от малейшего столкновения с ней Оленьку и Тетю, Тетушку, которая должна была себя чувствовать по-прежнему полновластной хозяйкой в Губаревке. Но как относилась к этому молодая хозяйка? Она уже провела в Губаревке четырнадцать лет, как на даче, но нравилось ли это ей? Сначала бессознательно, потом очень сознательно понимала я, что теперь же, не нарушая мира в семье, в особенности не огорчая Лели, который не допускал и мысли о возможном отсутствии Тети или Оленьки летом в Губаревке, теперь развязать руки Наташе, дать ей голос и значение в Губаревке и в то же время облегчить судьбу моей бедной Оленьки, которая каждое лето вертелась, как уж на сковороде, между претензиями, требованиями и сплетнями слишком большого штата прислуги двух различных хозяйств.
Ссоры и пикировка «столичных» с нашими «деревенскими» вызывали глухое недовольство, а иногда и с трудом скрываемые обиды обеих сторон. Леля властно тушил эти огоньки возможной вражды. Шунечка глотала слезы и готовые вырваться жалобы Леле; и Оленька умалчивала, как тяжело ей переносить недовольство ею: она так старалась, так уставала за день в хлопотах по хозяйству, но ведь и почтенные патриархи Авраам и Лот сочли за благо расстаться только из-за столкновения домочадцев своих слуг! Нет, конечно, если бы Тетя с Оленькой покинули Губаревку, для Лели это было бы большим горем. Но знать, что какова пора не мера[174 - «Вывезет – хорошо; не вывезет – дожидайся случая. А между прочим, поглядывай. Какова пора ни мера – не упускай, а упустил – старайся быть». М. Е. Салтыков-Щедрин. Пошехонские рассказы.], есть куда уехать в свое собственное гнездышко, являлось бы моральным утешением для Оленьки. К тому же ее постоянно крушила забота о своих «еpaves»[175 - Здесь: жертвы кораблекрушения (фр.).], как называла она целый ряд своих друзей, которым летом некуда было деваться за неимением средств для дачи. Некоторые из них приезжали на все лето в Губаревку, но это тяготило и Тетю, и семью Лели, становилось тесно. Сестре только что пришлось отказать двум подругам-институткам, которые без деревенского режима не могли поправить свое расшатанное здоровье, и это ее ужасно огорчило. Витя давно знал о всех этих «нюансах», переживаемых нами. Он знал, что и зимой еще Оленька главным образом искала не проценты, а своего угла, совместно с нами.
Случалось, когда мы проводили ночь в дороге, в пересадках, Витя шутливо вздыхал: «Ах, Оленька, Оленька! Ведь она спит теперь и сны видит, а мы-то за нее хлопочем!» Но Леля так болезненно относился к тому, что мы с Витей три года тому назад выехали из общего гнезда, что даже намека на медведиц и Авраама с Лотом нельзя было допускать, все это могло быть еще поставлено в вину Шунечке, которая смиренно покорялась решительной воле Лели в этом вопросе. Но злоупотреблять этим было нельзя! Длинное письмо сестры опять подняло все прошлогодние намерения. Теперь или никогда мы должны еще раз напрячь все наши усилия, чтобы создать себе то, на что в Губаревке мы не имели морального права. Я не говорю о Тетушке, но мы с сестрой, получив по разделу свою долю, обязаны были дать дорогу Наташе и затем ее детям. Олечке уже минуло тринадцать лет, а за ней поднимались еще две душечки. Наши ласки и сбережения останутся для них, но, любя их, мы должны были дать им и свободу считать себя в своей, неотъемлемой, неделимой Губаревке полными хозяйками.
Мы сидели на балконе после обеда: я перечитывала это письмо сестры, Витя кончал недочитанный утром номер Нового Времени. Он всегда пробегал в конце номера объявления о продаваемых имениях. Теперь в числе их было какое-то имение на Двине. По описанию, конечно, «чудесное имение». Предложение шло из Вильны. «Съездить? Узнать?» – воскликнул Витя. Но ему до воскресенья нельзя было отлучиться от службы! Поехал «Король прусский»[176 - Одно из многочисленных прозваний, которыми награждал меня Витя.].
Утром на другой день я была в Вильне в комиссионной конторе по адресу публикации. «Чудесное имение на Двине» продавалось только потому, что два немца, одинокие старички семидесяти лет, братцы, надумали ссориться и решили делиться. Мне показали планы и условия описи. Интересно, но, конечно, надо посмотреть, и я сговорилась в ближайшее воскресенье приехать с мужем к ссорящимся братцам. Все это было дело получаса, а до поезда нечего было делать! Будь это Леля, он, конечно, побывал бы в музеях и библиотеках, но у меня на уме было только одно: купить земли с усадьбой! Я что-то не особенно верила в мотив продажи имения братцев! Ссориться, прожив 70 лет вместе? Верно, опять какой-нибудь серьезный фелер[177 - Fehler – недостаток (нем.).] в надежде: авось до купчей не разберутся!
Кого бы спросить, прежде чем подниматься с Витей на Двину? Я вспомнила, что в Вильне должен быть Бернович и, зная его адрес, послала за ним посыльного. Бернович был молодой человек, неожиданно посетивший нас еще в конце мая с рекомендательным письмом того Бурхарда, ловца дельфинов, которого мы встретили в феврале в Петербурге у Граве, после провала имения Федово-Кучково. Он тогда обещал нам прислать описи лучших имений, продаваемых в северо-западном крае. Теперь он прислал нам несколько таких описей и писал, что мы можем вполне довериться молодому Берновичу: это не комиссионер по профессии, а агроном, сын богатого польского помещика Слуцкого, вынужденный временно покинуть отчий дом по семейным обстоятельствам, о которых лучше с ним не заговаривать. Ну, конечно, мачеха завелась, а то и бель-серы[178 - Belle-soeur – невестки (фр.).], сообразила я.
Леон Юрьевич Бернович, очень стройный, горбоносый, с лицом Мефистофеля и умными, хотя хитрыми глазами, произвел на нас впечатление очень воспитанного и приличного человека, но предложенные им тогда условия нас стеснили и удивили. Он решительно отказывался от всякого гонорара и куртажа. Говорить даже об этом он считал за оскорбление и брался на свой страх и риск разыскать нам имение, только непременно большое, для того чтобы распродать его с расчетом, выручить обратно капитал и получить себе центр имения с усадьбой плюсом, т. е. даром. И тогда, только из чистой прибыли, он позволит себе удержать 25 %, и то, конечно, после покрытия всех расходов. Мы не верили ушам! «А до тех пор Вы будете разъезжать за Ваш счет?» – допытывались мы. «Да. Это мое дело, и вас не касается», – ответил он немного сухо и строго. При этом, надеясь на свой опыт, а также на описи Бурхарда, он разрешал продолжать нам, со своей стороны, наши поиски и просил только об этом его предупредить. Он уверен, что и тогда он сможет быть нам полезен, оградит от возможных обманов комиссионеров и, как агроном, сумеет дать нам полезные советы в хозяйстве. Удивительные условия!
– Ну, а что же Вы получите взамен Ваших трудов? – не унимались мы.
– Повторяю Вам: двадцать пять процентов из чистой прибыли.
– А если этой прибыли не будет?
– О, я этого не допускаю! Я всегда бью наверняка! Но только я требую одного: полного доверия с вашей стороны, а также полную гарантию самостоятельности в деле, которое я Вам представлю. Согласны? Тогда я выезжаю на осмотр уже намеченных мной имений.
Как было не согласиться? Вскоре затем Бернович уехал. Уже в июне, когда мы с Витей уезжали даже в Курляндию и забраковали все предложенные имения, он сообщил нам, что все имения по описям Бурхарда тоже никуда не годятся, но что он разыскал, наконец, отличное «парцелляционное» имение Панцырева, в 35 верстах от станции Парфианово, Минской губернии по Полоцкой железной дороге, без усадьбы. «Без усадьбы? На что нам тогда имение? Какая там парцелляция, Бог с ней», – ворчала я. Витя же поехал справляться в банк, в котором имение это было заложено, и отзывы о нем получились такие неблагоприятные, что мы ответили Берновичу, что наша цель приобрести усадьбу при имении, а не парцеллировать. Бернович обиделся и совсем скрылся с нашего горизонта. Теперь я вспомнила о нем. Он жил в гостинице, проводя какие-то дела, и немедленно, очень любезно приехал на мой зов. Он прежде всего поднял опять вопрос о Панцыреве, настаивая на выгодности этой покупки, и решительно не соглашался с приводимыми мною доводами: все это одни интриги банка! Не хотел он понять и того, что мы ищем усадьбу, а не наживы. Словом, мы говорили на разных языках.
Но потом мне стало его жаль: по его словам, он ездил чуть ли не в Ковенскую губернию, до Шавли, что по описям Бурхарда, а так как о возмещении его расходов нельзя было даже заикнуться, не слыша его возмущения и протестов, я подумала, что мы сможем их возместить, если привлечем его к хозяйству в имении, на покупку которого мы еще не теряли надежды. Я сообщила ему об имении братцев на Двине и о нашем решении поехать взглянуть на него в ближайшее воскресенье, и он обещал поехать с нами.
После того он проводил меня на поезд, а в девять часов Витя встретил меня на Виленском вокзале.
– Нашла? Нашла? – нетерпеливо спрашивал он меня, смеясь и усаживая меня в коляску «Гарни».
– Да…, да…, – отвечала я, но так неуверенно, что Витя перебил меня:
– Не нашла? Ну, а я нашел! Без тебя мне сделали два предложения и на этот раз – хорошие!
Витя был так радостен, он так весело рассказывал о предложениях двух «серьезных комиссионеров», что мои братцы на Двине мгновенно отошли в сторону. Витя особо позаботился об ужине, чтобы вознаградить меня за напрасную поездку в Вильну, и мы весь вечер проговорили о новых перспективах. Бант и Каган были те «серьезные» комиссионеры, которые представили теперь свои описи имений. Одно в Виленской губернии, другое в Могилевской, но то или другое, чувствовали мы, должно решить нашу судьбу и положить конец нашим терзаниям, длившимся уже целых шесть месяцев! Бант был тот комиссионер, который в феврале предлагал нам Жодино Славинского и, конечно, не мог простить Фомичу, этому «сварливому старику» провала Жодина, а Кагана прислал Мещеринов с рекомендательным письмом: «честнейший человек, который много лет ведет все дела в Староборисовской экономии»[179 - Имение великих князей Николая Николаевича и Петра Николаевича. Дмитрий Петрович Мещеринов управлял этим имением.]. Бант предлагал «лучшее имение» Виленского уезда Веречаты, а Каган предлагал Щавры, хотя и Могилевской губернии, но всего в трех часах езды от Минска, недалеко от станции Крупки по Московско-Брестской железной дороге. Которое из двух? В этом одном теперь был для нас вопрос: больше колебаться, медлить, откладывать мы не хотели! Нужно было решаться! Ехать самим значило обязательно провалить дело.
На меня нападала невыразимая тоска, как только я видела чужую усадьбу, в которой нам предстояло жить. Витя же горячился и придирался ко всем мелочам. Мы решили опять воспользоваться услугами Гринкевича и Берновича. Бернович немедленно приехал по нашей телеграмме. Он с радостью согласился осмотреть для нас имение. Согласен был и Фомич. Но как распределить их роли? Агронома и человека энергичного и свободного, не задавленного заботой о своих домах, как Гринкевич, нам хотелось послать в Веречаты. Там все хозяйство было уже на ходу: винокуренный завод, пятьдесят дойных коров, свой посев, урожай которого уступался нам целиком. Земля пшеничная, хороший лес, а в усадьбе прекрасный дом о четырнадцати комнатах, вполне меблированный, до рояля включительно, хорошие экипажи, лошади. И все это за 150 тысяч, также как Щавры, но в Щаврах хотя и была усадьба, но хозяйства не было никакого, все было отдано в аренду: только больше было земли. Все наши симпатии были, конечно, на стороне Веричат, но вдруг Бернович, сдержано волнуясь, просил не посылать его в Веричаты, потому что Козеля-Поклевский, владелец Веричат, был женат на Галке, а она была кузиной некоего Галки, который разорил его, и он, Бернович, боится за свое при страстие в этом деле, боится не быть справедливым к кузине своего смертельного врага. Такое благородство нас, конечно, тронуло, и мы предложили ему ехать в Щавры. Услыша о Щаврах, Бернович сразу оживился, так как в Вильне много слышал об этом действительно прекрасном имении Лось-Рожковских, но, добавлял он, купить его нельзя из-за бесчисленных на нем запрещений. Каган божился, что бояться нечего: запрещения у старшего нотариуса точно зафиксированы. Правда, Щавры нельзя купить без денег, «с одними комбинациями», как обыкновенно покупают здесь имения, но с наличными в сорок тысяч как же не купить?! Только сорок тысяч и требуется. Сто тысяч Московскому банку и десять тысяч останется под закладную на целый год. Доводы Кагана были убедительны, и Бернович решился ехать.
Восьмого июля он выехал в Щавры, направо от Минска, а Фомич – в Веречаты, налево, к великому неудовольствию Банта. Перед отъездом мы, хотя и с большим трудом, убедили Берновича взять у нас сто рублей на необходимые расходы.
С нетерпением ожидали мы известий и телеграмм от своих посланцев, рассчитывая их самих видеть не раньше трех-четырех дней, но вдруг неожиданно Фомич явился на другой же день! Он уверял, что его смутило то, что ему не дали плана имения, потому что землемер все лето с ним работал и куда-то уехал, что он боится, как бы его без плана не завели в чужой лес, как это практикуется! «Сварливый» старик умолчал, что он на первых же порах вступил со старой панной Козелл в спор: «Я не дам задатка до купчей, – счел он себя вдруг в праве пуститься в подобные рассуждения. – Я еще пришлю оценщика банка». (Веречаты были не заложены, и нам предстояла большая канитель: заложить имение и тогда ссудой банка расплатиться за него.) Старая дама пришла в бешенство и стала на него кричать: «Как?! Не доверять нам задатка?! Вызывать оценщика банка до нашего выезда? До купчей?» И Фомичу была показана дверь.
Немедля, в одиннадцать часов ночи, в проливной дождь он вылетел на станцию к утреннему поезду, а вечером был у нас. Бант пришел в ужас. Он не хотел мириться с подобными результатами: Веречаты пользовались слишком хорошей репутацией первоклассной земли и прекрасного хозяйства. Они продавались исключительно по семейным обстоятельствам. Поэтому он не успокоился, пока не уговорил Витю ехать с ним в Веречаты: сварливый старик умел только портить!
Сообщение Минска с Веречатами оказалось совсем неудобным: пересадка в Вилейске, пересадка в Свецянах, пересадка в Поставах и двадцать верст лошадьми. Это обстоятельство сразу окатило меня холодной водой.
Витя поехал с Бантом. В Поставах их ожидала коляска Козел, четвериком на вынос. Ожидал еще другой экипаж, запряженный парой вороных коней, потому что одновременно с ними высадилось еще три субъекта, которых Бант представил как поверенных генерала Клейгельса, едущих тоже покупать Веречаты. Такая конкуренция нисколько не смутила Витю, тем более что Бант слишком подчеркивал это обстоятельство: слишком было ясно, что это подставные покупатели.
В Веречатах гостей встретили очень радушно: был сервирован прекрасный обед, была подана старка, несколько бочек которой хранилось в погребе (они стояли и в описи имения). Семью Козелл-Поклевских составляли: семидесятилетний старик отец, тип старинного польского помещика-джентльмена, крайне воспитанный, деликатный, в то же время славился в уезде своим хозяйством. Супруга его урожденная Галка, по-видимому, добрая, но гоноровая полька, и дочка, жена помещика Шишко с семилетним сыном. Но она бросила своего мужа и привезла в отцовский дом артиста, из-за которого теперь рушился весь дом и продавалось имение, чтобы она могла уехать с ним за границу, так как Шишко не давал развода и получался большой скандал. Убитые горем родители собирались, обеспечив дочь, от которой отвернулась вся родня, переехать на остатки к оскорбленному своему зятю.
За обедом поверенные генерала Клейгельса забыли свою роль и под влиянием старки горячо стали уговаривать Витю решиться на покупку Веречат. Витя очень любезно им возражал, это еще более их подзадорило, и они совсем забыли, что приехали исключительно ради интересов Банта. Тем не менее Вите очень понравилось все имение. Это было старинное дворянское гнездо, четыреста лет бывшее в одном роду, еще не тронутое «чужими руками» и действительно не бывшее на рынке. Весь строй жизни в нем был патриархальный: Козелл были окружены преданными им людьми, всю жизнь прожившими с ними: старая семидесятилетняя англичанка, воспитавшая на свою голову эту романтическую даму, старики лакеи семидесяти пяти лет, повар. Бог ведает, что они, бедные, теперь переживали, когда из-за дочки их хозяина, артиста, рушилась вся их жизнь их. А что переживали родители, жертвовавшие своим покоем и всем достоянием, чтобы скрыть свою дочь от позора!
За обедом и общим разговором цена в сто пятьдесят тысяч, казавшаяся Вите слишком высокой, была сбита Бантом до ста пяти тысяч (!). Еще торговаться нельзя было, и Витя решился купить! Было сговорено через неделю всем съехаться в Вильне, чтобы писать запродажную с задатком в двенадцать тысяч.
Витя вернулся в Минск пресчастливый. Веречаты, как прекрасное имение, было хорошо известно в Минске: Эрдели и сослуживцы горячо поздравляли его и очень одобряли выбор. Хоть и долго мы искали эту жемчужину, но сумели ее найти! Одновременно с приездом Вити нам подали телеграмму от Берновича: «Слова Кагана вполне оправдались. Еду Могилев навести справки у старшего нотариуса, в крестьянском присутствии в окружном суде». Через день он и сам приехал, проведя в Щаврах целую неделю. Он представил нам очень обстоятельный доклад. По его мнению, в Щаврах легко отпродать две тысячи десятин, а пятьсот десятин оставить себе в центре с усадьбой и красивым парком. И на этой операции еще заработать семьдесят тысяч! Доклад был подробный, обоснованный. Бернович лично объехал каждый фольварк, каждое урочище. Им были взвешены все качества и недостатки, все «возможности» каждого из них, безошибочно. Только о цене в сто пятьдесят тысяч, сообщенной Каганом, нечего было и думать! Узнав о ней, супруги Судомиры (старшая дочь Лось-Рожковских была за инженером Судомиром, который и продавал это имение) были возмущены, уверял Бернович, и сказали, что на порог не пустят к себе Кагана, поэтому ему, Берновичу, стоило большого труда сбить цену на 160 тысяч, цену баснословно дешевую. Судомиры, как поляки, упрекали его даже в измене польским традициям в пользу русских! Берновичу пришлось очень много спорить, убеждать: имение дивное и, конечно, стоит гораздо дороже! А какое сообщение! Четырнадцать верст от магистрали Московской железной дороги, в трех часах езды от Минска!
Витя, считавший, что Веречатами дело уже решенное, не особенно поддавался всем этим прелестям, он слишком увлекался Веречатами. Но я упросила его съездить в Щавры для очистки совести и ради Берновича, который был в отчаянии потерять Щавры.
Двадцать шестого июля Витя выехал в Щавры с почтовым поездом в девять часов утра. В девять часов вечера он был уже обратно. Он провел в Щаврах всего несколько часов, но счел этого достаточно, чтобы вынести, в общем, совсем неприятное впечатление, и еще с дороги, со станции Крупки, он телеграфировал мне условное «нет», что по нашему уговору означало, что имение ему не понравилось. Не понравились ему владельцы, думала я, немного разочарованная рассказами Вити о владельце Щавров Судомире с женой и свояченицей, о которых в Вильне плелись не совсем благоприятные слухи.
Коган прилетел вслед за Витей, очень огорченный, и уверял, что Витя ни на что не смотрел, а когда его водили по парку, он, видимо, мысленно совершенно отсутствовал: да, Вите нравились Веречаты!
На другой день мы перевели в Виленский банк двенадцать тысяч на условленный с Козелл-Поклевским задаток и решили вторично командировать Ивана Фомича в Веречаты. Он должен был там сидеть и составлять все описи, принимать инвентарь и урожай, который ожидался прекрасный, потому что, получив задаток, Поклевские были намерены немедля, первого августа, выехать из имения. Но Витя захотел, чтобы я тоже непременно, до запродажной, съездила посмотреть Веречаты, да непременно с Берновичем, чтобы и его не отстранять, дать ему возможность получить заработок своими «агрономическими» знаниями, на которые мы рассчитывали для ведения у нас хозяйства. Не откладывая, я собралась с Берновичем в путь. Доехали до Лилейска – пересадка. До Новых Свенцян – пересадка и, что хуже, неизбежная ночевка в Новых Свенцянах у сторожа вокзала, потому что только на другое утро в восемь часов отходил единственный в сутки поезд по узкоколейке. Эта узкоколейка, длинною в сто девятнадцать верст, шла от Новых Свенцян, станции Варшавской железной дороги почти прямой линией на восток, к Полоцкой железнодорожной линии, хотя и не доходила до нее четырнадцать верст, обрываясь пока в большом местечке Глубоком. Она была выстроена несколькими владельцами богатых имений, которые она обслуживала: пересекались пшеничные поля и нетронутые мачтовые леса в большом порядке. Вся местность близь Постав, на полдороги, была хорошо известна в военном мире из-за почти ежегодных парфорсных охот. Поезд с маленькими вагонами хотя и летел со всех ног по рельсам, но на станциях так долго стоял для погрузки, что пассажиры и кондукторы по-домашнему уходили в лес за цветами и грибами.
С этим пришлось помириться. Если мы еще и станем рисковать своими деньгами, то Оленьке, заплатив все проценты с 15 апреля, мы возвратим деньги, взяв на себя все убытки по размену, переводу и пр. Приходилось сознаться, что добыть земли мудрено. Прав был один польский помещик, когда говорил Вите: «Ничего вы здесь не найдете: за порядочное имение крепко держатся, а на рынке один хлам!» И мы забросили наши уроки географии. Уроки истории тоже стали: младший сын Снитко заболел, потребовалось его отвезти и с ним прожить часть лета в Крыму. И экспедиция в Туров была отложена. К тому же я была занята предстоящим отъездом Тата. Она сначала настаивала, чтобы я приняла все ее дела и приют на себя. Но я решительно отказалась. Тогда она передала их жене корпусного командира Новосильцевой, очень красивой и милой женщине. Их дом был редкий дом в Минске, где к Тата относились вполне благожелательно и ни в какие Минские дрязги не входили. Но Тата все-таки тесно связывала меня с приютом святой Ирины, о котором мы столько с ней хлопотали, и поручала его и мне. Так как Новосильцева морально была головой выше всех остальных минских дам, мне с ней было по душе.
Губаревские письма также меня радовали, хотя в каждом письме напоминалось, что надо скорее к ним приехать. В двадцатых числах июня гостил Борис Зузин со своей чрезвычайно симпатичной женой. После их отъезда Леля, принимавший в то лето живейшее участие вместе с детьми в уборке отличного сена (лето было великолепное), собрался 22 июня в Корбулак, к мордве. «Иначе, – писал он, – я не могу закончить своей книги, которая должна выйти осенью».
Поездка Лели была удачная: «Съездил очень хорошо в Корбулак. Пробыл там три дня в самой напряженной работе. Вернувшись в Губаревку, увидал, что фонограф испортился. Явилась мысль ехать в Саратов, и поехали вчетвером: Шунечка, Олечка, Альма Ивановна и я. Олечка очень радовалась возможности увидеть Саратов; мы показали ей Волгу, прокатили в Покровскую Слободу, затем обедали в Приволжском вокзале. Хозяйственные дела идут благополучно. Все время работаем с сеном. Теперь убираем могар[171 - Щетинник, итальянское просо. – Примеч. сост.] и т. д.».[172 - Письмо А. А. от 4.7.1909.] Могар, так же, как и сераделла, были мной высланы ранней весной для искусственных лугов, приготовленных при мне осенью в Губаревке, и Леля радовал меня сообщая: «С радостью смотрю я на зеленеющие луга с посеянной травой. Это мы тебе обязаны».[173 - Письмо А. А. от 14.7.1909.] Еще более радовали его яблоньки, присланные в апреле из Минска. Это были не обычные наши чахлые присадки, двухлетки, а яблоньки четырех-пяти лет с великолепной мочкой. С осени разбитый и распланированный сад на сто семьдесят яблонь уже принялся отлично, и Леля особенно радовался ему, т. к. сад занял большую площадь за его летним домом, с видом на него с террасы на гумно.
Но в то время, когда Леля работал в Корбулаке, в любимый мной с детства праздник Ивана Купалы мы с Витей, засидевшись в Минске, еще раз вырвались из него. Купить что-либо дорогое мы не могли уже рассчитывать, решив вернуть Оленьке ее деньги, но мы хотели еще попытаться так обернуться, чтобы покрыть наши уже значительные расходы, лишавшие нас лично до двух тысяч рублей (размен денег, проценты Оленьки, разъезды и пр.), словом, отыграться и вернуться к первобытному состоянию (!). Комиссионеры перестали даже заходить к Гринкевичу, который был поглощен окраской своих домов в какой-то дикий кирпичный цвет. Но вдруг выручил нас Мышалов, торговец шляп на Губернаторской улице, у которого Витя утром заказывал летнюю фуражку и жаловался, что не может найти себе имение. Через час Мышалов уже привел с собой поверенного графа Платера, и оба стали уговаривать купить имение Альт-Лейцен, бывшее графа Платера, за Двинском: «Совсем недалеко! Но что за имение! Такого имения во всей Минской губернии не сыскать! – в два голоса упрашивали они. – Даже не купить, а взглянуть на него стоит!» Кончилось тем, что Витя взял недельную отлучку, и мы выехали в Альт-Лейцен. А вдруг там, в Курляндии, мы и найдем что-либо подходящее?!
Мы прибыли в Двинск ночью. Утром были в Штоксмонгофе, Рига-Орловской железной дороги. Оттуда по узкоколейке потащились на станцию Мариенбург, где нас ожидала коляска четвериков, высланная поверенным графа Платера, прибывшим раньше нас в Альт-Лейцен. Дорогой нас поразило, что всего в нескольких часах от Двинска мы точно попали за границу: начиная с уютной, обвитой витисом Штоксмонгофской станции, где нас угощала кофеем настоящая немка, тянулись живые изгороди по обе стороны пути; прекрасно обработанные поля, а от станции шло чудесное шоссе, обсаженное старинными деревьями, попадались фермы с черепичными крышами, каменные риги. Словом, Курляндия, культура! Значит, не почва, не климат виноваты, когда тут же в Белоруссии начинается дичь, бездорожье, безлюдье, болота в кочках, пустыри и обглоданные леса!!! Никогда не было мне так больно, обидно и жалко свою Русь, как в это утро!
Осмотрели мы Альт-Лейцен как следует. Целый день проездили по лесу. Чудный, нетронутый лес! Какие сосны, какие ели! Что за воздух в этом лесу! Какие озера, фольварки, заводы скипидарные, лесопильные, сыроварни! Дом деревянный, низкий, но очень большой, хотя и разоренный, совсем без мебели. Когда-то здесь кипела жизнь, здесь выращивались поколения Майендорфов. Да, здесь можно было поселиться и хозяйничать, как хозяйничали здесь много лет, пока граф Платер, сам отличный хозяин, не сделал владельцем имения какого-то хищника Кана, который успел уже на все наложить свою руку. Мы это поняли из слов священника русской церкви у самого шоссе из Пскова на Верро и взглянув на ужасный лесорубочный контракт, по которому большая часть этих лесов сводилась на нет. Когда же я, хотя и самым поверхностным образом, просмотрела приходо-расходные книги, чтобы понять, что это за двадцать тысяч чистого годового дохода, о которых толковал нам поверенный, мы поняли, что никакого чистого дохода в Альт-Лейцене нет! Я нарочно обратила на это внимание поверенного. Он рассмеялся:
– Да если бы имение давало двадцать тысяч, разве граф Платер продавал бы его?
– А сколько же оно дает теперь?
Определенного ответа не последовало. Но в противовес Губаревским дождям июньская засуха уже погубила хлеба и травы. Предстояло даже покупать рожь для прокормления скота и работников-латышей. Последние праздновали этот день Ивана Купалы, пришли к нам под окна в венках цветов и пели дикими голосами на непонятном говоре. Мы дали им на чай, случайные господа в этом заброшенном доме.
Когда на другой день мы покинули Альт-Лейцен, мы, по крайней мере, уносили впечатление о чем-то красивом и могучем! Здесь можно было работать; здесь дышало сытостью, несмотря на грозящую засуху. Быть может, и напрасно мы не остановились на этом имении, испугавшись лесорубочных контрактов. Витя мог бы перевестись служить в Курляндию. Ехали мы обратно по шоссе на Мариенбург, через местечко, прекрасно расположенное на берегу великолепного озера. Это была родина той Екатерины, память о которой в эти самые дни так торжественно праздновалась в Полтаве. Мы остановили лошадей, вышли с Витей из коляски и осмотрели старинную кирку, пастор которой тогда приютил Екатерину.
Удивительно красивое местечко! Оно буквально утопало в зелени, каменные опрятные домики до самых крыш были обвиты гирляндами зелени и цветов. Вернувшись в Двинск, мы повернули на Полоцк, куда и прибыли в пять часов утра после совершенно бессонной ночи в душном вагоне. Тихо, безлюдно было на улицах древней столицы Полоцкой земли!
Мы не расставались с «Россией» Семенова, когда ездили в поисках за землей, и называли его коротко «Спутником», и теперь в шесть часов утра, за чаем у открытого окна небольшой гостиницы, скорее, постоялого двора, я громко читала Вите описание Полоцка и его историю. Затем мы осмотрели его неважные достопримечательности и направились домой, в Минск, по Полоцкой дороге на Молодечно. Но на полпути вышли на станции Полсвилие, чтобы заехать в Куровичи, имение, о котором Витя переписывался с минским помещиком Григоровичем, опекуном малолетних Глинских, владельцев Куровичей Лепельского уезда: тысяча семьсот десятин, цена девяносто пять тысяч, несколько фольварков, имение очень удобное для «порцеляции». Нам нужно было усадьбу с небольшим хозяйством, но с возможностью отпродать лишнюю землю, поэтому, взяв лошадку на станции Подсвилие, мы потащились по ужасной дороге за шесть верст в усадьбу Куровичей. Боже! Что за ужасное впечатление! Когда-то, по-видимому, это была богатая усадьба польских помещиков Глинских. Но они разорились. Глинский проигрался в карты и убил у себя в доме того, кто его разорил. Несчастный убийца теперь скитался в Петербурге, чуть ли не по ночлежкам, а управляющий, заменивший владельца, вконец разорил имение и сжег дом, чтобы скрыть отчеты и документы. На очень высоком обрыве, над гладким зеркальным озером стояли массивные, кирпичные колонны сгоревшего дома. По склону горы за домом к озеру спускался запущенный сад, в котором белели в большом количестве кости лошадей. Нам сказали, что варвар-управляющий Ясневич самолично их стрелял здесь. Сколько ужасов было пережито в этой усадьбе! Не только поселиться, даже переночевать в ней, в небольшом флигеле, мы бы не решились!
И вот опять мы вернулись в «Гарни»! Альт-Лейцен все-таки было чудесное имение! За него просили двести тысяч, с комбинациями, но страшный лесорубочный контракт вязал руки. Неутешен был Мышалов: он давал нам хорошее имение, по совести, потому что в его интересах было привлечь внимание публики к своему шляпному магазину. «При удачной покупке нами Альт-Лейцена, конечно, губернатор, Урванцев и другие высокие господа стали бы покупать шляпы исключительно у него!» – говорил он, печально качая головой.
Глава 8. Июль 1909. Веречаты и Щавры
Мы только что вернулись из Смолевичей: моя попадья устроила благотворительный спектакль. Сама в роли тещи в водевиле «Теща в дом, все вверх дном», попадья была бесподобна, и вообще весь спектакль в большом сарае и все прочее, до угощенья жареным поросенком за ужином включительно, прошло с большим подъемом. Публики было много и, благодаря Тата, всегда готовой участвовать в благотворительных деяниях, немало приехало «высоких гостей» из Минска. Кроме Тата со всеми детьми, был и ее брат Корветто, недавно женившийся на очень милой вдове Гаршиной (из Тамбовских). Тата надеялась, что эта молодая женщина, видимо, с характером, сумеет, наконец, прибрать к рукам ее легкомысленного брата.
Витя после спектакля вечером же вернулся в Минск, а я осталась ночевать у Тата, в Борисове. Я радовалась за нее: она избавится от «осиного гнезда». Назначение Константина Михайловича было блестящее, он был самый молодой губернатор в России, но жаль было с ними расстаться. Тата с болью отрывалась от любимого дела. Утром мы пили с ней кофе на обширном балконе дачи с красивым видом на город Борисов, закутанный не то дымом, не то утренним туманом. К обеду надо было вернуться в Минск, где становилось скучно, жарко, душно: не спасали и два балкона. Ничего не может быть скучнее лета в городской обстановке!
Дома меня ожидало письмо из Губаревки. Оленька писала длинное, жалобное письмо. Она просила не слушать опасений Лели и ворчания Тети, которые считают нас уже погибшими. Она решительно не хочет ни процентов бумаг, ни закладных, она хочет с нами купить земли с усадьбой. Непременно с усадьбой! Я не стану здесь приводить этого письма.
Скажу кратко, что русская пословица говорит о тесноте для двух медведиц. В этом был, в сущности, смысл всей нашей затеи, важнее всех приводимых пунктов в письмах моих к Леле. В этом была зарыта собака! Но даже намекнуть Леле на это нельзя было! Достаточно, что я ссылалась на его будущих зятьев, но, конечно, не в них было дело. Вопрос был в том, что Леля лишил Шунечку голоса и значения в домашнем хозяйстве Губаревки, чтобы оградить от малейшего столкновения с ней Оленьку и Тетю, Тетушку, которая должна была себя чувствовать по-прежнему полновластной хозяйкой в Губаревке. Но как относилась к этому молодая хозяйка? Она уже провела в Губаревке четырнадцать лет, как на даче, но нравилось ли это ей? Сначала бессознательно, потом очень сознательно понимала я, что теперь же, не нарушая мира в семье, в особенности не огорчая Лели, который не допускал и мысли о возможном отсутствии Тети или Оленьки летом в Губаревке, теперь развязать руки Наташе, дать ей голос и значение в Губаревке и в то же время облегчить судьбу моей бедной Оленьки, которая каждое лето вертелась, как уж на сковороде, между претензиями, требованиями и сплетнями слишком большого штата прислуги двух различных хозяйств.
Ссоры и пикировка «столичных» с нашими «деревенскими» вызывали глухое недовольство, а иногда и с трудом скрываемые обиды обеих сторон. Леля властно тушил эти огоньки возможной вражды. Шунечка глотала слезы и готовые вырваться жалобы Леле; и Оленька умалчивала, как тяжело ей переносить недовольство ею: она так старалась, так уставала за день в хлопотах по хозяйству, но ведь и почтенные патриархи Авраам и Лот сочли за благо расстаться только из-за столкновения домочадцев своих слуг! Нет, конечно, если бы Тетя с Оленькой покинули Губаревку, для Лели это было бы большим горем. Но знать, что какова пора не мера[174 - «Вывезет – хорошо; не вывезет – дожидайся случая. А между прочим, поглядывай. Какова пора ни мера – не упускай, а упустил – старайся быть». М. Е. Салтыков-Щедрин. Пошехонские рассказы.], есть куда уехать в свое собственное гнездышко, являлось бы моральным утешением для Оленьки. К тому же ее постоянно крушила забота о своих «еpaves»[175 - Здесь: жертвы кораблекрушения (фр.).], как называла она целый ряд своих друзей, которым летом некуда было деваться за неимением средств для дачи. Некоторые из них приезжали на все лето в Губаревку, но это тяготило и Тетю, и семью Лели, становилось тесно. Сестре только что пришлось отказать двум подругам-институткам, которые без деревенского режима не могли поправить свое расшатанное здоровье, и это ее ужасно огорчило. Витя давно знал о всех этих «нюансах», переживаемых нами. Он знал, что и зимой еще Оленька главным образом искала не проценты, а своего угла, совместно с нами.
Случалось, когда мы проводили ночь в дороге, в пересадках, Витя шутливо вздыхал: «Ах, Оленька, Оленька! Ведь она спит теперь и сны видит, а мы-то за нее хлопочем!» Но Леля так болезненно относился к тому, что мы с Витей три года тому назад выехали из общего гнезда, что даже намека на медведиц и Авраама с Лотом нельзя было допускать, все это могло быть еще поставлено в вину Шунечке, которая смиренно покорялась решительной воле Лели в этом вопросе. Но злоупотреблять этим было нельзя! Длинное письмо сестры опять подняло все прошлогодние намерения. Теперь или никогда мы должны еще раз напрячь все наши усилия, чтобы создать себе то, на что в Губаревке мы не имели морального права. Я не говорю о Тетушке, но мы с сестрой, получив по разделу свою долю, обязаны были дать дорогу Наташе и затем ее детям. Олечке уже минуло тринадцать лет, а за ней поднимались еще две душечки. Наши ласки и сбережения останутся для них, но, любя их, мы должны были дать им и свободу считать себя в своей, неотъемлемой, неделимой Губаревке полными хозяйками.
Мы сидели на балконе после обеда: я перечитывала это письмо сестры, Витя кончал недочитанный утром номер Нового Времени. Он всегда пробегал в конце номера объявления о продаваемых имениях. Теперь в числе их было какое-то имение на Двине. По описанию, конечно, «чудесное имение». Предложение шло из Вильны. «Съездить? Узнать?» – воскликнул Витя. Но ему до воскресенья нельзя было отлучиться от службы! Поехал «Король прусский»[176 - Одно из многочисленных прозваний, которыми награждал меня Витя.].
Утром на другой день я была в Вильне в комиссионной конторе по адресу публикации. «Чудесное имение на Двине» продавалось только потому, что два немца, одинокие старички семидесяти лет, братцы, надумали ссориться и решили делиться. Мне показали планы и условия описи. Интересно, но, конечно, надо посмотреть, и я сговорилась в ближайшее воскресенье приехать с мужем к ссорящимся братцам. Все это было дело получаса, а до поезда нечего было делать! Будь это Леля, он, конечно, побывал бы в музеях и библиотеках, но у меня на уме было только одно: купить земли с усадьбой! Я что-то не особенно верила в мотив продажи имения братцев! Ссориться, прожив 70 лет вместе? Верно, опять какой-нибудь серьезный фелер[177 - Fehler – недостаток (нем.).] в надежде: авось до купчей не разберутся!
Кого бы спросить, прежде чем подниматься с Витей на Двину? Я вспомнила, что в Вильне должен быть Бернович и, зная его адрес, послала за ним посыльного. Бернович был молодой человек, неожиданно посетивший нас еще в конце мая с рекомендательным письмом того Бурхарда, ловца дельфинов, которого мы встретили в феврале в Петербурге у Граве, после провала имения Федово-Кучково. Он тогда обещал нам прислать описи лучших имений, продаваемых в северо-западном крае. Теперь он прислал нам несколько таких описей и писал, что мы можем вполне довериться молодому Берновичу: это не комиссионер по профессии, а агроном, сын богатого польского помещика Слуцкого, вынужденный временно покинуть отчий дом по семейным обстоятельствам, о которых лучше с ним не заговаривать. Ну, конечно, мачеха завелась, а то и бель-серы[178 - Belle-soeur – невестки (фр.).], сообразила я.
Леон Юрьевич Бернович, очень стройный, горбоносый, с лицом Мефистофеля и умными, хотя хитрыми глазами, произвел на нас впечатление очень воспитанного и приличного человека, но предложенные им тогда условия нас стеснили и удивили. Он решительно отказывался от всякого гонорара и куртажа. Говорить даже об этом он считал за оскорбление и брался на свой страх и риск разыскать нам имение, только непременно большое, для того чтобы распродать его с расчетом, выручить обратно капитал и получить себе центр имения с усадьбой плюсом, т. е. даром. И тогда, только из чистой прибыли, он позволит себе удержать 25 %, и то, конечно, после покрытия всех расходов. Мы не верили ушам! «А до тех пор Вы будете разъезжать за Ваш счет?» – допытывались мы. «Да. Это мое дело, и вас не касается», – ответил он немного сухо и строго. При этом, надеясь на свой опыт, а также на описи Бурхарда, он разрешал продолжать нам, со своей стороны, наши поиски и просил только об этом его предупредить. Он уверен, что и тогда он сможет быть нам полезен, оградит от возможных обманов комиссионеров и, как агроном, сумеет дать нам полезные советы в хозяйстве. Удивительные условия!
– Ну, а что же Вы получите взамен Ваших трудов? – не унимались мы.
– Повторяю Вам: двадцать пять процентов из чистой прибыли.
– А если этой прибыли не будет?
– О, я этого не допускаю! Я всегда бью наверняка! Но только я требую одного: полного доверия с вашей стороны, а также полную гарантию самостоятельности в деле, которое я Вам представлю. Согласны? Тогда я выезжаю на осмотр уже намеченных мной имений.
Как было не согласиться? Вскоре затем Бернович уехал. Уже в июне, когда мы с Витей уезжали даже в Курляндию и забраковали все предложенные имения, он сообщил нам, что все имения по описям Бурхарда тоже никуда не годятся, но что он разыскал, наконец, отличное «парцелляционное» имение Панцырева, в 35 верстах от станции Парфианово, Минской губернии по Полоцкой железной дороге, без усадьбы. «Без усадьбы? На что нам тогда имение? Какая там парцелляция, Бог с ней», – ворчала я. Витя же поехал справляться в банк, в котором имение это было заложено, и отзывы о нем получились такие неблагоприятные, что мы ответили Берновичу, что наша цель приобрести усадьбу при имении, а не парцеллировать. Бернович обиделся и совсем скрылся с нашего горизонта. Теперь я вспомнила о нем. Он жил в гостинице, проводя какие-то дела, и немедленно, очень любезно приехал на мой зов. Он прежде всего поднял опять вопрос о Панцыреве, настаивая на выгодности этой покупки, и решительно не соглашался с приводимыми мною доводами: все это одни интриги банка! Не хотел он понять и того, что мы ищем усадьбу, а не наживы. Словом, мы говорили на разных языках.
Но потом мне стало его жаль: по его словам, он ездил чуть ли не в Ковенскую губернию, до Шавли, что по описям Бурхарда, а так как о возмещении его расходов нельзя было даже заикнуться, не слыша его возмущения и протестов, я подумала, что мы сможем их возместить, если привлечем его к хозяйству в имении, на покупку которого мы еще не теряли надежды. Я сообщила ему об имении братцев на Двине и о нашем решении поехать взглянуть на него в ближайшее воскресенье, и он обещал поехать с нами.
После того он проводил меня на поезд, а в девять часов Витя встретил меня на Виленском вокзале.
– Нашла? Нашла? – нетерпеливо спрашивал он меня, смеясь и усаживая меня в коляску «Гарни».
– Да…, да…, – отвечала я, но так неуверенно, что Витя перебил меня:
– Не нашла? Ну, а я нашел! Без тебя мне сделали два предложения и на этот раз – хорошие!
Витя был так радостен, он так весело рассказывал о предложениях двух «серьезных комиссионеров», что мои братцы на Двине мгновенно отошли в сторону. Витя особо позаботился об ужине, чтобы вознаградить меня за напрасную поездку в Вильну, и мы весь вечер проговорили о новых перспективах. Бант и Каган были те «серьезные» комиссионеры, которые представили теперь свои описи имений. Одно в Виленской губернии, другое в Могилевской, но то или другое, чувствовали мы, должно решить нашу судьбу и положить конец нашим терзаниям, длившимся уже целых шесть месяцев! Бант был тот комиссионер, который в феврале предлагал нам Жодино Славинского и, конечно, не мог простить Фомичу, этому «сварливому старику» провала Жодина, а Кагана прислал Мещеринов с рекомендательным письмом: «честнейший человек, который много лет ведет все дела в Староборисовской экономии»[179 - Имение великих князей Николая Николаевича и Петра Николаевича. Дмитрий Петрович Мещеринов управлял этим имением.]. Бант предлагал «лучшее имение» Виленского уезда Веречаты, а Каган предлагал Щавры, хотя и Могилевской губернии, но всего в трех часах езды от Минска, недалеко от станции Крупки по Московско-Брестской железной дороге. Которое из двух? В этом одном теперь был для нас вопрос: больше колебаться, медлить, откладывать мы не хотели! Нужно было решаться! Ехать самим значило обязательно провалить дело.
На меня нападала невыразимая тоска, как только я видела чужую усадьбу, в которой нам предстояло жить. Витя же горячился и придирался ко всем мелочам. Мы решили опять воспользоваться услугами Гринкевича и Берновича. Бернович немедленно приехал по нашей телеграмме. Он с радостью согласился осмотреть для нас имение. Согласен был и Фомич. Но как распределить их роли? Агронома и человека энергичного и свободного, не задавленного заботой о своих домах, как Гринкевич, нам хотелось послать в Веречаты. Там все хозяйство было уже на ходу: винокуренный завод, пятьдесят дойных коров, свой посев, урожай которого уступался нам целиком. Земля пшеничная, хороший лес, а в усадьбе прекрасный дом о четырнадцати комнатах, вполне меблированный, до рояля включительно, хорошие экипажи, лошади. И все это за 150 тысяч, также как Щавры, но в Щаврах хотя и была усадьба, но хозяйства не было никакого, все было отдано в аренду: только больше было земли. Все наши симпатии были, конечно, на стороне Веричат, но вдруг Бернович, сдержано волнуясь, просил не посылать его в Веричаты, потому что Козеля-Поклевский, владелец Веричат, был женат на Галке, а она была кузиной некоего Галки, который разорил его, и он, Бернович, боится за свое при страстие в этом деле, боится не быть справедливым к кузине своего смертельного врага. Такое благородство нас, конечно, тронуло, и мы предложили ему ехать в Щавры. Услыша о Щаврах, Бернович сразу оживился, так как в Вильне много слышал об этом действительно прекрасном имении Лось-Рожковских, но, добавлял он, купить его нельзя из-за бесчисленных на нем запрещений. Каган божился, что бояться нечего: запрещения у старшего нотариуса точно зафиксированы. Правда, Щавры нельзя купить без денег, «с одними комбинациями», как обыкновенно покупают здесь имения, но с наличными в сорок тысяч как же не купить?! Только сорок тысяч и требуется. Сто тысяч Московскому банку и десять тысяч останется под закладную на целый год. Доводы Кагана были убедительны, и Бернович решился ехать.
Восьмого июля он выехал в Щавры, направо от Минска, а Фомич – в Веречаты, налево, к великому неудовольствию Банта. Перед отъездом мы, хотя и с большим трудом, убедили Берновича взять у нас сто рублей на необходимые расходы.
С нетерпением ожидали мы известий и телеграмм от своих посланцев, рассчитывая их самих видеть не раньше трех-четырех дней, но вдруг неожиданно Фомич явился на другой же день! Он уверял, что его смутило то, что ему не дали плана имения, потому что землемер все лето с ним работал и куда-то уехал, что он боится, как бы его без плана не завели в чужой лес, как это практикуется! «Сварливый» старик умолчал, что он на первых же порах вступил со старой панной Козелл в спор: «Я не дам задатка до купчей, – счел он себя вдруг в праве пуститься в подобные рассуждения. – Я еще пришлю оценщика банка». (Веречаты были не заложены, и нам предстояла большая канитель: заложить имение и тогда ссудой банка расплатиться за него.) Старая дама пришла в бешенство и стала на него кричать: «Как?! Не доверять нам задатка?! Вызывать оценщика банка до нашего выезда? До купчей?» И Фомичу была показана дверь.
Немедля, в одиннадцать часов ночи, в проливной дождь он вылетел на станцию к утреннему поезду, а вечером был у нас. Бант пришел в ужас. Он не хотел мириться с подобными результатами: Веречаты пользовались слишком хорошей репутацией первоклассной земли и прекрасного хозяйства. Они продавались исключительно по семейным обстоятельствам. Поэтому он не успокоился, пока не уговорил Витю ехать с ним в Веречаты: сварливый старик умел только портить!
Сообщение Минска с Веречатами оказалось совсем неудобным: пересадка в Вилейске, пересадка в Свецянах, пересадка в Поставах и двадцать верст лошадьми. Это обстоятельство сразу окатило меня холодной водой.
Витя поехал с Бантом. В Поставах их ожидала коляска Козел, четвериком на вынос. Ожидал еще другой экипаж, запряженный парой вороных коней, потому что одновременно с ними высадилось еще три субъекта, которых Бант представил как поверенных генерала Клейгельса, едущих тоже покупать Веречаты. Такая конкуренция нисколько не смутила Витю, тем более что Бант слишком подчеркивал это обстоятельство: слишком было ясно, что это подставные покупатели.
В Веречатах гостей встретили очень радушно: был сервирован прекрасный обед, была подана старка, несколько бочек которой хранилось в погребе (они стояли и в описи имения). Семью Козелл-Поклевских составляли: семидесятилетний старик отец, тип старинного польского помещика-джентльмена, крайне воспитанный, деликатный, в то же время славился в уезде своим хозяйством. Супруга его урожденная Галка, по-видимому, добрая, но гоноровая полька, и дочка, жена помещика Шишко с семилетним сыном. Но она бросила своего мужа и привезла в отцовский дом артиста, из-за которого теперь рушился весь дом и продавалось имение, чтобы она могла уехать с ним за границу, так как Шишко не давал развода и получался большой скандал. Убитые горем родители собирались, обеспечив дочь, от которой отвернулась вся родня, переехать на остатки к оскорбленному своему зятю.
За обедом поверенные генерала Клейгельса забыли свою роль и под влиянием старки горячо стали уговаривать Витю решиться на покупку Веречат. Витя очень любезно им возражал, это еще более их подзадорило, и они совсем забыли, что приехали исключительно ради интересов Банта. Тем не менее Вите очень понравилось все имение. Это было старинное дворянское гнездо, четыреста лет бывшее в одном роду, еще не тронутое «чужими руками» и действительно не бывшее на рынке. Весь строй жизни в нем был патриархальный: Козелл были окружены преданными им людьми, всю жизнь прожившими с ними: старая семидесятилетняя англичанка, воспитавшая на свою голову эту романтическую даму, старики лакеи семидесяти пяти лет, повар. Бог ведает, что они, бедные, теперь переживали, когда из-за дочки их хозяина, артиста, рушилась вся их жизнь их. А что переживали родители, жертвовавшие своим покоем и всем достоянием, чтобы скрыть свою дочь от позора!
За обедом и общим разговором цена в сто пятьдесят тысяч, казавшаяся Вите слишком высокой, была сбита Бантом до ста пяти тысяч (!). Еще торговаться нельзя было, и Витя решился купить! Было сговорено через неделю всем съехаться в Вильне, чтобы писать запродажную с задатком в двенадцать тысяч.
Витя вернулся в Минск пресчастливый. Веречаты, как прекрасное имение, было хорошо известно в Минске: Эрдели и сослуживцы горячо поздравляли его и очень одобряли выбор. Хоть и долго мы искали эту жемчужину, но сумели ее найти! Одновременно с приездом Вити нам подали телеграмму от Берновича: «Слова Кагана вполне оправдались. Еду Могилев навести справки у старшего нотариуса, в крестьянском присутствии в окружном суде». Через день он и сам приехал, проведя в Щаврах целую неделю. Он представил нам очень обстоятельный доклад. По его мнению, в Щаврах легко отпродать две тысячи десятин, а пятьсот десятин оставить себе в центре с усадьбой и красивым парком. И на этой операции еще заработать семьдесят тысяч! Доклад был подробный, обоснованный. Бернович лично объехал каждый фольварк, каждое урочище. Им были взвешены все качества и недостатки, все «возможности» каждого из них, безошибочно. Только о цене в сто пятьдесят тысяч, сообщенной Каганом, нечего было и думать! Узнав о ней, супруги Судомиры (старшая дочь Лось-Рожковских была за инженером Судомиром, который и продавал это имение) были возмущены, уверял Бернович, и сказали, что на порог не пустят к себе Кагана, поэтому ему, Берновичу, стоило большого труда сбить цену на 160 тысяч, цену баснословно дешевую. Судомиры, как поляки, упрекали его даже в измене польским традициям в пользу русских! Берновичу пришлось очень много спорить, убеждать: имение дивное и, конечно, стоит гораздо дороже! А какое сообщение! Четырнадцать верст от магистрали Московской железной дороги, в трех часах езды от Минска!
Витя, считавший, что Веречатами дело уже решенное, не особенно поддавался всем этим прелестям, он слишком увлекался Веречатами. Но я упросила его съездить в Щавры для очистки совести и ради Берновича, который был в отчаянии потерять Щавры.
Двадцать шестого июля Витя выехал в Щавры с почтовым поездом в девять часов утра. В девять часов вечера он был уже обратно. Он провел в Щаврах всего несколько часов, но счел этого достаточно, чтобы вынести, в общем, совсем неприятное впечатление, и еще с дороги, со станции Крупки, он телеграфировал мне условное «нет», что по нашему уговору означало, что имение ему не понравилось. Не понравились ему владельцы, думала я, немного разочарованная рассказами Вити о владельце Щавров Судомире с женой и свояченицей, о которых в Вильне плелись не совсем благоприятные слухи.
Коган прилетел вслед за Витей, очень огорченный, и уверял, что Витя ни на что не смотрел, а когда его водили по парку, он, видимо, мысленно совершенно отсутствовал: да, Вите нравились Веречаты!
На другой день мы перевели в Виленский банк двенадцать тысяч на условленный с Козелл-Поклевским задаток и решили вторично командировать Ивана Фомича в Веречаты. Он должен был там сидеть и составлять все описи, принимать инвентарь и урожай, который ожидался прекрасный, потому что, получив задаток, Поклевские были намерены немедля, первого августа, выехать из имения. Но Витя захотел, чтобы я тоже непременно, до запродажной, съездила посмотреть Веречаты, да непременно с Берновичем, чтобы и его не отстранять, дать ему возможность получить заработок своими «агрономическими» знаниями, на которые мы рассчитывали для ведения у нас хозяйства. Не откладывая, я собралась с Берновичем в путь. Доехали до Лилейска – пересадка. До Новых Свенцян – пересадка и, что хуже, неизбежная ночевка в Новых Свенцянах у сторожа вокзала, потому что только на другое утро в восемь часов отходил единственный в сутки поезд по узкоколейке. Эта узкоколейка, длинною в сто девятнадцать верст, шла от Новых Свенцян, станции Варшавской железной дороги почти прямой линией на восток, к Полоцкой железнодорожной линии, хотя и не доходила до нее четырнадцать верст, обрываясь пока в большом местечке Глубоком. Она была выстроена несколькими владельцами богатых имений, которые она обслуживала: пересекались пшеничные поля и нетронутые мачтовые леса в большом порядке. Вся местность близь Постав, на полдороги, была хорошо известна в военном мире из-за почти ежегодных парфорсных охот. Поезд с маленькими вагонами хотя и летел со всех ног по рельсам, но на станциях так долго стоял для погрузки, что пассажиры и кондукторы по-домашнему уходили в лес за цветами и грибами.