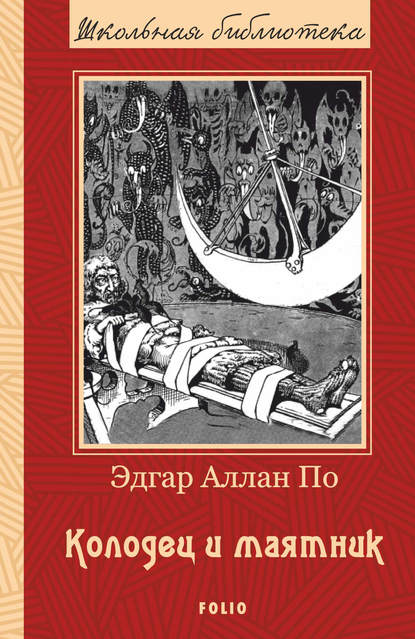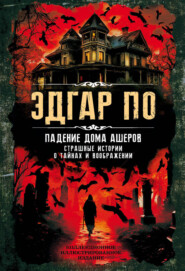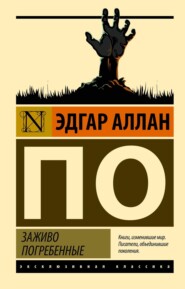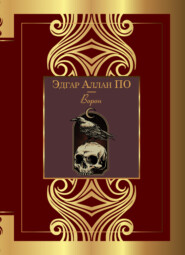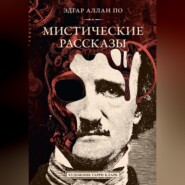По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Колодец и маятник. Рассказы
Автор
Год написания книги
1842
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однако в венгерском суеверии были некоторые пункты, которые быстро перерождались в нелепость. Они, т. е. венгры, расходились очень во многом с восточными авторитетами. Так, например: «Душа, – говорят первые (я привожу слова очень остроумного и умного парижанина), – живет только один раз в осязаемом теле, будь то лошадь, собака, даже человек, впрочем, разница между ними не так уж велика».
Фамилии Берлифитцинг и Метценгерштейн в продолжение многих столетий враждовали между собой. Не было, кажется, примеров такого взаимного озлобления между двумя другими столь знаменитыми семьями. Происхождение такой вражды, по-видимому, находим у пророка: «Страшное падение постигнет высокое имя, когда, подобно всаднику над лошадью, смертность Метценгерштейна восторжествует над бессмертием Берлифитцинга».
Без сомнения, эти слова сами по себе или вовсе не имеют смысла или весьма мало, но известно, что и еще более незначительные причины влекли за собой – и не в давние времена – последствия столь же значительные. К тому же, владения, которые были смежными, долгое время соперничали за влияние на правительство в управлении страной. Кроме того, близкие соседи редко бывают друзьями, и обитатели замка Берлифитцинга могли смотреть со своих высоких башен прямо в окна дворца Метценгерштейнов. Более чем феодальное великолепие, открывавшееся при этом, конечно, вовсе не способствовало смягчению чувства раздражения в менее древних и богатых Берлифитцингах. Стоит ли удивляться, что слов пророчества, хотя и бессмысленных самих по себе, было достаточно, чтобы возбудить и сохранить вражду между двумя семьями, уже подготовленными к ссоре подстрекателями наследственного соперничества? Пророчество как будто предсказывало, если вообще предсказывало что-нибудь, окончательное торжество могущественнейшему дому и поэтому вспоминалось, конечно, с ожесточением более слабым и менее влиятельным.
Вильгельм, граф Берлифитцинг, несмотря на свое высокое происхождение, был во время моего рассказа больным дряхлым стариком, ничем не замечательным, кроме безграничной антипатии к семье своего соперника и такой страстной любви к лошадям и охоте, что ни болезнь, ни старость, ни умственная слабость не могли помешать удержать его от ежедневного участия в опасных охотах. Фридрих же, барон Метценгерштейн, был еще несовершеннолетний. Отец его, министр Г., умер рано. Мать, баронесса Мария, сошла в могилу вскоре за ним. Фридриху в это время пошел восемнадцатый год. В городах восемнадцать лет еще не возраст, но в глуши, такой полной глуши, какую представляло из себя старое дворянское гнездо, удары маятника имеют более глубокое значение.
В силу некоторых обстоятельств, связанных с распоряжением отца, молодой барон вступил во владение своими богатыми поместьями тотчас по смерти родителя. Редко кто из венгерских дворян владел такими богатствами. Замкам барона не было числа; но главным по богатству и обширности считался замок Метценгерштейн. Границы его владений никогда не были точно определены, но главный парк имел пятьдесят миль в окружности. При известном характере молодого человека, получившего такое несметное наследство, почти не существовало сомнения в его будущем. И действительно, уже в первые три дня его подвиги превзошли ожидания его самых восторженных поклонников. Бесстыдный разгул, низкое предательство, неслыханные жестокости быстро показали трепещущим вассалам, что никакая рабская покорность с их стороны не в состоянии оградить их от когтей своенравного Калигулы, совершенно не знавшего совести. В ночь на четвертый день загорелись конюшни Берлифитцинга, и общее мнение внесло поджог в уже отвратительный список преступлений и гнусностей, совершенных молодым бароном.
Во время переполоха, вызванного этим происшествием, молодой человек сидел, по-видимому, погруженный в размышления в одной из больших пустынных зал родового дворца Метценгерштейна. На богатых, хотя и поблекших драпировках, угрюмо свешивавшихся со стены, были изображены туманные и величественные образы знаменитых предков молодого человека. Здесь – духовные особы в мантиях, богато опушенных горностаем, и в кардинальских шапках сидят рядом с властителями и суверенами, накладывают veto на желания земных королей или сдерживают именем папского всемогущества мятежный скипетр князя тьмы. Там – темные высокие фигуры князей Метценгерштейнских, топчущие конями тела павших врагов и способные своим свирепым видом подействовать на самые крепкие нервы. А еще дальше – роскошные лебединые фигуры дам давно прошедших времен, плывущие в призрачном танце под звуки воображаемой музыки.
Прислушиваясь или делая вид, что прислушивается к все возраставшему шуму в берлифитцингских конюшнях, или, может быть, обдумывая какую-нибудь новую, еще более дерзкую проделку, барон не отводил глаз от огромного коня диковинной масти, изображенного на обоях и принадлежавшего якобы сарацину – родоначальнику враждебного рода. Сам конь на переднем плане стоял неподвижно, подобно статуе, между тем как позади него выбитый из седла седок погибал от кинжала Метценгерштейна.
На губах Фридриха появилась злобная улыбка, когда он заметил, по какому направлению смотрели бессознательно его глаза. Однако он не отвел их. Притом он никак не мог отдать себе отчета в каком-то беспокойстве, охватившем его и сковавшем все его чувства. С трудом он мог согласовать свое полусонное, почти бессознательное состояние с уверенностью, что все это наяву. Но чем больше он смотрел, тем сильнее его охватывало очарование, тем невозможнее казалось ему оторвать когда-нибудь глаза от изображения. Между тем шум снаружи усиливался, и барон наконец с неимоверным усилием обратил свое внимание на багровый отсвет горящих конюшен, падавший в окна его комнаты.
Но это было только минутное движение, его внимание снова машинально вернулось к стене. И вдруг, к его крайнему ужасу и изумлению, голова гигантского коня переменила положение. Шея животного перед тем нагнутая как бы с сожалением над раненым хозяином, теперь вытянулась во всю длину по направлению к барону. Глаза, невидимые до того, смотрели теперь с энергическим человеческим выражением, горя необычайным красным огнем, а между раскрытыми губами, видимо, взбесившегося животного выступали его сгнившие, отвратительные зубы.
Молодой магнат в ужасе, шатаясь, направился к двери. Когда он отворил ее, на него пахнуло, проникая далеко в комнату, красное пламя, отражение которого осветило колыхавшиеся обои, и барон вздрогнул, заметив, что оно озарило как раз изображение беспощадного торжествующего убийцы сарацина Берлифитцинга.
Чтобы разогнать напавший на него страх, барон поспешил на свежий воздух. У парадного входа он встретил трех конюхов. С большим трудом и рискуя жизнью, они сдерживали судорожно вырывавшегося и вздымавшегося на дыбы огненно-рыжего коня.
– Чья лошадь? Откуда? – спросил сварливым, сердитым тоном юноша, заметивший сразу это изумительное сходство между таинственным конем на обоях и этим бешеным животным.
– Она ваша, господин, – отвечал один из конюхов, – по крайней мере, никто не заявлял о ней. Мы поймали ее всю в пене и мыле, когда она бешено мчалась от горевших конюшен замка Берлифитцинга. Предполагая, что это одна из заводских лошадей старого графа, мы отвели ее назад. Но конюхи отреклись от нее, и это очень странно, потому что она, видимо, еле выбежала из огня.
– На лбу ясно видны выжженные буквы В. Ф. Б., – перебил другой конюх. – Я предполагал, конечно, что эти начальные буквы значат «Вильгельм фон Берлифитцинг», но в замке все уверяют, что лошадь не их.
– Странно! – проговорил барон задумчиво, очевидно, не сознавая своих слов. – Правда, замечательный, удивительный конь! И видно, действительно, пугливый, неукротимый. Ну, пусть будет моим, – заключил он после паузы, – может быть, такому наезднику, как Фридрих фон Метценгерштейн, удастся укротить самого черта из конюшен Берлифитцинга.
– Нет, господин, вы ошибаетесь; мы ведь докладывали вам, что конь не из берлифитцингской конюшни. Будь он оттуда, не осмелились бы мы представить его кому-либо из вашей семьи.
– Правда! – сухо согласился барон.
И в эту самую минуту из замка выбежал, весь раскрасневшись, постельничий. Он шепнул на ухо барону о внезапном исчезновении куска обоев в одной из комнат и принялся сообщать какие-то подробности. Несмотря на пониженный голос, которым он говорил, ничто не скрылось от возбужденного любопытства конюхов.
Во время этого разговора Фридриха, по-видимому, волновали различные чувства. Однако он скоро овладел собой, и лицо его приняло выражение злобной решимости, когда он приказал немедленно запереть на замок комнату, а ключ отдать ему.
– А слышали вы о несчастье со старым охотником Берлифитцинга? – спросил один из слуг барона, когда, после ухода постельничего, огромный конь, признанный бароном своею собственностью, поскакал с удвоенным бешенством по аллее, которая вела от замка к конюшням Метценгерштейна.
– Нет, – отвечал барон, резко поворачиваясь к говорившему. – Ты говоришь, несчастье?
– Он умер, господин. Думаю, для вас, как члена вашей семьи, известие не самое печальное.
Усмешка скользнула по лицу слушателя.
– Как он умер?
– Стараясь спасти своих любимых лошадей, он сам погиб в огне.
– Вот ка-а-к! – протянул юноша спокойно и вернулся, как ни в чем не бывало, в замок.
С этого дня в поведении распутного барона Фридриха фон Метценгерштейна произошла замечательная перемена. Он, в самом деле, разочаровал ожидание многих маменек, имевших на него вид; а в своих привычках и образе жизни еще больше чем прежде стал расходиться с жизнью соседней аристократии. Он никогда не переступал за пределы своего поместья и жил совершенно одиноко. Разве только таинственный бешеный рыжий конь, на котором он начал постоянно ездить, мог иметь некоторое право называться его другом.
Однако барон получал многочисленные приглашения от соседей.
– «Не почтит ли барон праздник своим присутствием?» – «Не примет ли барон участие в охоте на кабана?»
– «Метценгерштейн не охотится». – «Метценгерштейн не может быть», – гласили лаконичные ответы.
С такими постоянными оскорблениями высокомерная аристократия не могла примириться. Приглашения стали реже и менее любезны и наконец совершенно прекратились. Вдова умершего графа Берлифитцинга даже высказала надежду, «что барон будет дома, когда не захочет быть дома, если он пренебрегает обществом равных себе; и будет ездить, когда не захочет, если предпочитает общество своей лошади».
Это, конечно, была вспышка наследственной неприязни и доказывала только, какую бессмыслицу мы в состоянии сказать, желая проявить особенную энергию.
Люди же более снисходительные приписывали перемену в образе жизни барона естественной печали о безвременно погибших родителях, забывая его жестокости и распутство в короткий период, непосредственно следовавший за этим грустным событием. Нашлись и такие, которые приписывали это чересчур развитому самомнению и гордости. Третьи, между которыми следует упомянуть семью доктора, наконец, намекали на черную меланхолию и нездоровую наследственность; вообще темные слухи подобного рода ходили в обществе.
В самом деле, неестественная привязанность барона к новому приобретению – привязанность, как будто усиливавшаяся с каждой новой вспышкой бешеных наклонностей дьявольского животного, – начала принимать в глазах всех благоразумных людей отвратительный и неестественный характер. В полдневный зной, в глухую ночную пору, здоровый или больной, в тихую погоду или бурю молодой Метценгерштейн казался прикованным к седлу гигантского коня, неукротимый нрав которого так подходил к его собственному характеру.
Но были обстоятельства, которые в связи с событиями последнего времени придали сверхъестественный и чудовищный характер мании наездника и свойствам коня. Скачки? коня тщательно измерялись, и оказалось, что они превзошли даже самые невероятные предположения. Кроме того, барон не дал имени животному, хотя все прочие лошади его конюшни имели имена, характеризовавшие их. Конюшня коня находилась в отдалении от прочих, а что касается конюхов и прочей прислуги, то никто не смел ухаживать за ним или подходить к его стойлу. Ходил за ним сам барон. И даже из тех трех конюхов, которым удалось с помощью узды и аркана из цепи задержать его во время бешеной скачки из Берлифитцинга, ни один не мог сказать, чтоб он действительно коснулся рукой тела животного. Проявление особенного ума в лошади не возбуждали, конечно, особенного внимания; но были обстоятельства, которые невольно бросались в глаза самым флегматичным скептикам, а бывали случаи, когда толпа зевак в ужасе кидалась прочь перед его загадочными порывами, и даже сам Метценгерштейн бледнел и отступал перед пытливым пристальным выражением его человечьего взгляда.
Между всеми окружающими барона никто не сомневался в необыкновенной горячей привязанности молодого дворянина к бешеному коню, никто, кроме одного незначительного и уродливого пажа, безобразие которого всем мозолило глаза и мнение которого, конечно, не имело ни малейшего значения. Он имел смелость, если вообще смел иметь какое-либо мнение, утверждать, что его господин никогда не садится в седло без невольной, хотя почти незаметной дрожи и что каждый раз, по возвращении из продолжительной прогулки верхом, каждый мускул лица его дрожит от злобного торжества.
Однажды ненастной ночью Метценгерштейн, проснувшись от тяжелой полудремоты, выбежал как сумасшедший из комнаты и, вскочив на коня, помчался в лес. Такое обычное событие не привлекло ничьего особенного внимания, но слуги ожидали с беспокойством его возвращения, как вдруг, после нескольких часов его отсутствия, неожиданный пожар отхватил все роскошные здания замка, с треском проникая в самые основания их.
Так как пламя, когда его заметили, уже так распространилось, что попытки спасти какую-либо часть здания были, очевидно, бесполезны, то испуганные соседи стояли кругом, ничего не предпринимая и молча смотря на пылающий огонь. Но скоро новое ужасное зрелище привлекло внимание толпы и доказало, насколько сильнее впечатление, производимое видом человеческого страдания, чем самых ужасных зрелищ разгула стихии.
По длинной аллее из старых дубов, ведущей от леса к главному выезду замка Метценгерштейн, скакал, точно гонимый самим демоном бури, конь с всадником без шляпы и в растерзанной одежде.
Ясно было, что всадник уже не в состоянии управлять конем. Искаженное лицо и судорожные движения показывали сверхъестественные усилия; но всего только один крик вырвался из губ, сжатых ужасом. Минута – и резкий стук копыт заглушил рев пламени и свист ветра; другая – и, перемахнув одним прыжком через площадку, конь взлетел на качающиеся ступени лестницы замка и исчез с всадником в вихре бушующего пламени.
Буря моментально стихла, и наступила мертвая тишина. Белесое пламя, будто саван, все еще обволакивало здание и, высоко поднимаясь в спокойном воздухе, распространяло сверхъестественный свет, между тем как облако дыма тяжело повисло над строениями, приняв явственные очертания гигантской фигуры.
Береника
Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas[2 - Мне говорили собратья, что, если я навещу могилу подруги, горе мое исцелится (лат.).].
Саади
Бывают различные несчастия. Земное горе разнородно; господствуя над обширным горизонтом, как радуга, цвета человеческого страдания так же различны и точно так же слиты, и оно точно так же царит над обширным горизонтом жизни.
Я могу рассказать ужасную историю и охотно умолчал бы о ней, если бы это была хроника чувств, а не фактов.
Мое имя Эгеус, фамилию же свою я не скажу. Нет в стране замка более славного, более древнего, как мое унылое, старинное, наследственное жилище. С давних времен род наш считался ясновидящим, и действительно, из многих поразительных мелочей, из характера постройки нашего замка, из фресок нашей гостиной, из обоев спальни, из лепной работы пилястров оружейной залы, но преимущественно из галереи старинных картин, из внешнего вида библиотеки и, наконец, из характера книг этой библиотеки можно было вывести заключение, подтверждающее это мнение.
Воспоминания первых лет моей жизни связаны с библиотечной залой и ее книгами. Там умерла моя мать; там родился я. Но странно было бы сказать, что я не жил прежде, что у души нет предыдущего существования… Вы не согласны? Не станем об этом спорить. Я же в этом убежден и потому не стану убеждать вас. В человеческой душе живет какое-то воспоминание о призрачных формах, о воображаемых глазах, о мелодических, но грустных звуках, воспоминание, не покидающее нас, – воспоминание, похожее на тень, смутное, изменчивое, неопределенное, трепещущее; и от этой тени мне трудно будет отделаться, пока будет светить хоть один луч моего разума.
В этой комнате я родился, в этой комнате я провел среди книг мое детство и потратил юность в мечтах. Жизненная действительность поражала меня, как видения и только как видения, тогда как безумные мысли мира фантазий составляли не только пищу для моего повседневного существования, но положительно и исключительно мою действительную жизнь.
Береника была моей двоюродной сестрой, и мы выросли вместе в отцовском замке. Но мы росли совершенно по-разному: я – болезненным и вечно преданным меланхолии; она – живой, грациозной и полной энергии; ее дело было бегать по холмам, мое – корпеть над книгами. Я жил сам в себе душой, предаваясь самым упорным и трудным размышлениям, она же беззаботно встречала жизнь, не заботясь ни о тенях на своем пути, ни о молчаливом полете времени с его черными крыльями. Береника! При ее имени черные тени восстают в моей памяти. Образ ее стоит, как живой, передо мною – такой, какой она была в первые дни своего счастья и веселья. Как была она фантастично хороша! А потом, потом наступил полный ужас и мрак и свершилось нечто, неподдающееся рассказу. Болезнь, страшная болезнь обрушилась на нее и на глазах моих изменила ее так, что трудно было узнать ее. Увы, болезнь отходила и снова подходила, но прежняя Береника уже не возвращалась! Настоящую Беренику я не знал или, по крайней мере, не признавал ее за Беренику.
Фамилии Берлифитцинг и Метценгерштейн в продолжение многих столетий враждовали между собой. Не было, кажется, примеров такого взаимного озлобления между двумя другими столь знаменитыми семьями. Происхождение такой вражды, по-видимому, находим у пророка: «Страшное падение постигнет высокое имя, когда, подобно всаднику над лошадью, смертность Метценгерштейна восторжествует над бессмертием Берлифитцинга».
Без сомнения, эти слова сами по себе или вовсе не имеют смысла или весьма мало, но известно, что и еще более незначительные причины влекли за собой – и не в давние времена – последствия столь же значительные. К тому же, владения, которые были смежными, долгое время соперничали за влияние на правительство в управлении страной. Кроме того, близкие соседи редко бывают друзьями, и обитатели замка Берлифитцинга могли смотреть со своих высоких башен прямо в окна дворца Метценгерштейнов. Более чем феодальное великолепие, открывавшееся при этом, конечно, вовсе не способствовало смягчению чувства раздражения в менее древних и богатых Берлифитцингах. Стоит ли удивляться, что слов пророчества, хотя и бессмысленных самих по себе, было достаточно, чтобы возбудить и сохранить вражду между двумя семьями, уже подготовленными к ссоре подстрекателями наследственного соперничества? Пророчество как будто предсказывало, если вообще предсказывало что-нибудь, окончательное торжество могущественнейшему дому и поэтому вспоминалось, конечно, с ожесточением более слабым и менее влиятельным.
Вильгельм, граф Берлифитцинг, несмотря на свое высокое происхождение, был во время моего рассказа больным дряхлым стариком, ничем не замечательным, кроме безграничной антипатии к семье своего соперника и такой страстной любви к лошадям и охоте, что ни болезнь, ни старость, ни умственная слабость не могли помешать удержать его от ежедневного участия в опасных охотах. Фридрих же, барон Метценгерштейн, был еще несовершеннолетний. Отец его, министр Г., умер рано. Мать, баронесса Мария, сошла в могилу вскоре за ним. Фридриху в это время пошел восемнадцатый год. В городах восемнадцать лет еще не возраст, но в глуши, такой полной глуши, какую представляло из себя старое дворянское гнездо, удары маятника имеют более глубокое значение.
В силу некоторых обстоятельств, связанных с распоряжением отца, молодой барон вступил во владение своими богатыми поместьями тотчас по смерти родителя. Редко кто из венгерских дворян владел такими богатствами. Замкам барона не было числа; но главным по богатству и обширности считался замок Метценгерштейн. Границы его владений никогда не были точно определены, но главный парк имел пятьдесят миль в окружности. При известном характере молодого человека, получившего такое несметное наследство, почти не существовало сомнения в его будущем. И действительно, уже в первые три дня его подвиги превзошли ожидания его самых восторженных поклонников. Бесстыдный разгул, низкое предательство, неслыханные жестокости быстро показали трепещущим вассалам, что никакая рабская покорность с их стороны не в состоянии оградить их от когтей своенравного Калигулы, совершенно не знавшего совести. В ночь на четвертый день загорелись конюшни Берлифитцинга, и общее мнение внесло поджог в уже отвратительный список преступлений и гнусностей, совершенных молодым бароном.
Во время переполоха, вызванного этим происшествием, молодой человек сидел, по-видимому, погруженный в размышления в одной из больших пустынных зал родового дворца Метценгерштейна. На богатых, хотя и поблекших драпировках, угрюмо свешивавшихся со стены, были изображены туманные и величественные образы знаменитых предков молодого человека. Здесь – духовные особы в мантиях, богато опушенных горностаем, и в кардинальских шапках сидят рядом с властителями и суверенами, накладывают veto на желания земных королей или сдерживают именем папского всемогущества мятежный скипетр князя тьмы. Там – темные высокие фигуры князей Метценгерштейнских, топчущие конями тела павших врагов и способные своим свирепым видом подействовать на самые крепкие нервы. А еще дальше – роскошные лебединые фигуры дам давно прошедших времен, плывущие в призрачном танце под звуки воображаемой музыки.
Прислушиваясь или делая вид, что прислушивается к все возраставшему шуму в берлифитцингских конюшнях, или, может быть, обдумывая какую-нибудь новую, еще более дерзкую проделку, барон не отводил глаз от огромного коня диковинной масти, изображенного на обоях и принадлежавшего якобы сарацину – родоначальнику враждебного рода. Сам конь на переднем плане стоял неподвижно, подобно статуе, между тем как позади него выбитый из седла седок погибал от кинжала Метценгерштейна.
На губах Фридриха появилась злобная улыбка, когда он заметил, по какому направлению смотрели бессознательно его глаза. Однако он не отвел их. Притом он никак не мог отдать себе отчета в каком-то беспокойстве, охватившем его и сковавшем все его чувства. С трудом он мог согласовать свое полусонное, почти бессознательное состояние с уверенностью, что все это наяву. Но чем больше он смотрел, тем сильнее его охватывало очарование, тем невозможнее казалось ему оторвать когда-нибудь глаза от изображения. Между тем шум снаружи усиливался, и барон наконец с неимоверным усилием обратил свое внимание на багровый отсвет горящих конюшен, падавший в окна его комнаты.
Но это было только минутное движение, его внимание снова машинально вернулось к стене. И вдруг, к его крайнему ужасу и изумлению, голова гигантского коня переменила положение. Шея животного перед тем нагнутая как бы с сожалением над раненым хозяином, теперь вытянулась во всю длину по направлению к барону. Глаза, невидимые до того, смотрели теперь с энергическим человеческим выражением, горя необычайным красным огнем, а между раскрытыми губами, видимо, взбесившегося животного выступали его сгнившие, отвратительные зубы.
Молодой магнат в ужасе, шатаясь, направился к двери. Когда он отворил ее, на него пахнуло, проникая далеко в комнату, красное пламя, отражение которого осветило колыхавшиеся обои, и барон вздрогнул, заметив, что оно озарило как раз изображение беспощадного торжествующего убийцы сарацина Берлифитцинга.
Чтобы разогнать напавший на него страх, барон поспешил на свежий воздух. У парадного входа он встретил трех конюхов. С большим трудом и рискуя жизнью, они сдерживали судорожно вырывавшегося и вздымавшегося на дыбы огненно-рыжего коня.
– Чья лошадь? Откуда? – спросил сварливым, сердитым тоном юноша, заметивший сразу это изумительное сходство между таинственным конем на обоях и этим бешеным животным.
– Она ваша, господин, – отвечал один из конюхов, – по крайней мере, никто не заявлял о ней. Мы поймали ее всю в пене и мыле, когда она бешено мчалась от горевших конюшен замка Берлифитцинга. Предполагая, что это одна из заводских лошадей старого графа, мы отвели ее назад. Но конюхи отреклись от нее, и это очень странно, потому что она, видимо, еле выбежала из огня.
– На лбу ясно видны выжженные буквы В. Ф. Б., – перебил другой конюх. – Я предполагал, конечно, что эти начальные буквы значат «Вильгельм фон Берлифитцинг», но в замке все уверяют, что лошадь не их.
– Странно! – проговорил барон задумчиво, очевидно, не сознавая своих слов. – Правда, замечательный, удивительный конь! И видно, действительно, пугливый, неукротимый. Ну, пусть будет моим, – заключил он после паузы, – может быть, такому наезднику, как Фридрих фон Метценгерштейн, удастся укротить самого черта из конюшен Берлифитцинга.
– Нет, господин, вы ошибаетесь; мы ведь докладывали вам, что конь не из берлифитцингской конюшни. Будь он оттуда, не осмелились бы мы представить его кому-либо из вашей семьи.
– Правда! – сухо согласился барон.
И в эту самую минуту из замка выбежал, весь раскрасневшись, постельничий. Он шепнул на ухо барону о внезапном исчезновении куска обоев в одной из комнат и принялся сообщать какие-то подробности. Несмотря на пониженный голос, которым он говорил, ничто не скрылось от возбужденного любопытства конюхов.
Во время этого разговора Фридриха, по-видимому, волновали различные чувства. Однако он скоро овладел собой, и лицо его приняло выражение злобной решимости, когда он приказал немедленно запереть на замок комнату, а ключ отдать ему.
– А слышали вы о несчастье со старым охотником Берлифитцинга? – спросил один из слуг барона, когда, после ухода постельничего, огромный конь, признанный бароном своею собственностью, поскакал с удвоенным бешенством по аллее, которая вела от замка к конюшням Метценгерштейна.
– Нет, – отвечал барон, резко поворачиваясь к говорившему. – Ты говоришь, несчастье?
– Он умер, господин. Думаю, для вас, как члена вашей семьи, известие не самое печальное.
Усмешка скользнула по лицу слушателя.
– Как он умер?
– Стараясь спасти своих любимых лошадей, он сам погиб в огне.
– Вот ка-а-к! – протянул юноша спокойно и вернулся, как ни в чем не бывало, в замок.
С этого дня в поведении распутного барона Фридриха фон Метценгерштейна произошла замечательная перемена. Он, в самом деле, разочаровал ожидание многих маменек, имевших на него вид; а в своих привычках и образе жизни еще больше чем прежде стал расходиться с жизнью соседней аристократии. Он никогда не переступал за пределы своего поместья и жил совершенно одиноко. Разве только таинственный бешеный рыжий конь, на котором он начал постоянно ездить, мог иметь некоторое право называться его другом.
Однако барон получал многочисленные приглашения от соседей.
– «Не почтит ли барон праздник своим присутствием?» – «Не примет ли барон участие в охоте на кабана?»
– «Метценгерштейн не охотится». – «Метценгерштейн не может быть», – гласили лаконичные ответы.
С такими постоянными оскорблениями высокомерная аристократия не могла примириться. Приглашения стали реже и менее любезны и наконец совершенно прекратились. Вдова умершего графа Берлифитцинга даже высказала надежду, «что барон будет дома, когда не захочет быть дома, если он пренебрегает обществом равных себе; и будет ездить, когда не захочет, если предпочитает общество своей лошади».
Это, конечно, была вспышка наследственной неприязни и доказывала только, какую бессмыслицу мы в состоянии сказать, желая проявить особенную энергию.
Люди же более снисходительные приписывали перемену в образе жизни барона естественной печали о безвременно погибших родителях, забывая его жестокости и распутство в короткий период, непосредственно следовавший за этим грустным событием. Нашлись и такие, которые приписывали это чересчур развитому самомнению и гордости. Третьи, между которыми следует упомянуть семью доктора, наконец, намекали на черную меланхолию и нездоровую наследственность; вообще темные слухи подобного рода ходили в обществе.
В самом деле, неестественная привязанность барона к новому приобретению – привязанность, как будто усиливавшаяся с каждой новой вспышкой бешеных наклонностей дьявольского животного, – начала принимать в глазах всех благоразумных людей отвратительный и неестественный характер. В полдневный зной, в глухую ночную пору, здоровый или больной, в тихую погоду или бурю молодой Метценгерштейн казался прикованным к седлу гигантского коня, неукротимый нрав которого так подходил к его собственному характеру.
Но были обстоятельства, которые в связи с событиями последнего времени придали сверхъестественный и чудовищный характер мании наездника и свойствам коня. Скачки? коня тщательно измерялись, и оказалось, что они превзошли даже самые невероятные предположения. Кроме того, барон не дал имени животному, хотя все прочие лошади его конюшни имели имена, характеризовавшие их. Конюшня коня находилась в отдалении от прочих, а что касается конюхов и прочей прислуги, то никто не смел ухаживать за ним или подходить к его стойлу. Ходил за ним сам барон. И даже из тех трех конюхов, которым удалось с помощью узды и аркана из цепи задержать его во время бешеной скачки из Берлифитцинга, ни один не мог сказать, чтоб он действительно коснулся рукой тела животного. Проявление особенного ума в лошади не возбуждали, конечно, особенного внимания; но были обстоятельства, которые невольно бросались в глаза самым флегматичным скептикам, а бывали случаи, когда толпа зевак в ужасе кидалась прочь перед его загадочными порывами, и даже сам Метценгерштейн бледнел и отступал перед пытливым пристальным выражением его человечьего взгляда.
Между всеми окружающими барона никто не сомневался в необыкновенной горячей привязанности молодого дворянина к бешеному коню, никто, кроме одного незначительного и уродливого пажа, безобразие которого всем мозолило глаза и мнение которого, конечно, не имело ни малейшего значения. Он имел смелость, если вообще смел иметь какое-либо мнение, утверждать, что его господин никогда не садится в седло без невольной, хотя почти незаметной дрожи и что каждый раз, по возвращении из продолжительной прогулки верхом, каждый мускул лица его дрожит от злобного торжества.
Однажды ненастной ночью Метценгерштейн, проснувшись от тяжелой полудремоты, выбежал как сумасшедший из комнаты и, вскочив на коня, помчался в лес. Такое обычное событие не привлекло ничьего особенного внимания, но слуги ожидали с беспокойством его возвращения, как вдруг, после нескольких часов его отсутствия, неожиданный пожар отхватил все роскошные здания замка, с треском проникая в самые основания их.
Так как пламя, когда его заметили, уже так распространилось, что попытки спасти какую-либо часть здания были, очевидно, бесполезны, то испуганные соседи стояли кругом, ничего не предпринимая и молча смотря на пылающий огонь. Но скоро новое ужасное зрелище привлекло внимание толпы и доказало, насколько сильнее впечатление, производимое видом человеческого страдания, чем самых ужасных зрелищ разгула стихии.
По длинной аллее из старых дубов, ведущей от леса к главному выезду замка Метценгерштейн, скакал, точно гонимый самим демоном бури, конь с всадником без шляпы и в растерзанной одежде.
Ясно было, что всадник уже не в состоянии управлять конем. Искаженное лицо и судорожные движения показывали сверхъестественные усилия; но всего только один крик вырвался из губ, сжатых ужасом. Минута – и резкий стук копыт заглушил рев пламени и свист ветра; другая – и, перемахнув одним прыжком через площадку, конь взлетел на качающиеся ступени лестницы замка и исчез с всадником в вихре бушующего пламени.
Буря моментально стихла, и наступила мертвая тишина. Белесое пламя, будто саван, все еще обволакивало здание и, высоко поднимаясь в спокойном воздухе, распространяло сверхъестественный свет, между тем как облако дыма тяжело повисло над строениями, приняв явственные очертания гигантской фигуры.
Береника
Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas[2 - Мне говорили собратья, что, если я навещу могилу подруги, горе мое исцелится (лат.).].
Саади
Бывают различные несчастия. Земное горе разнородно; господствуя над обширным горизонтом, как радуга, цвета человеческого страдания так же различны и точно так же слиты, и оно точно так же царит над обширным горизонтом жизни.
Я могу рассказать ужасную историю и охотно умолчал бы о ней, если бы это была хроника чувств, а не фактов.
Мое имя Эгеус, фамилию же свою я не скажу. Нет в стране замка более славного, более древнего, как мое унылое, старинное, наследственное жилище. С давних времен род наш считался ясновидящим, и действительно, из многих поразительных мелочей, из характера постройки нашего замка, из фресок нашей гостиной, из обоев спальни, из лепной работы пилястров оружейной залы, но преимущественно из галереи старинных картин, из внешнего вида библиотеки и, наконец, из характера книг этой библиотеки можно было вывести заключение, подтверждающее это мнение.
Воспоминания первых лет моей жизни связаны с библиотечной залой и ее книгами. Там умерла моя мать; там родился я. Но странно было бы сказать, что я не жил прежде, что у души нет предыдущего существования… Вы не согласны? Не станем об этом спорить. Я же в этом убежден и потому не стану убеждать вас. В человеческой душе живет какое-то воспоминание о призрачных формах, о воображаемых глазах, о мелодических, но грустных звуках, воспоминание, не покидающее нас, – воспоминание, похожее на тень, смутное, изменчивое, неопределенное, трепещущее; и от этой тени мне трудно будет отделаться, пока будет светить хоть один луч моего разума.
В этой комнате я родился, в этой комнате я провел среди книг мое детство и потратил юность в мечтах. Жизненная действительность поражала меня, как видения и только как видения, тогда как безумные мысли мира фантазий составляли не только пищу для моего повседневного существования, но положительно и исключительно мою действительную жизнь.
Береника была моей двоюродной сестрой, и мы выросли вместе в отцовском замке. Но мы росли совершенно по-разному: я – болезненным и вечно преданным меланхолии; она – живой, грациозной и полной энергии; ее дело было бегать по холмам, мое – корпеть над книгами. Я жил сам в себе душой, предаваясь самым упорным и трудным размышлениям, она же беззаботно встречала жизнь, не заботясь ни о тенях на своем пути, ни о молчаливом полете времени с его черными крыльями. Береника! При ее имени черные тени восстают в моей памяти. Образ ее стоит, как живой, передо мною – такой, какой она была в первые дни своего счастья и веселья. Как была она фантастично хороша! А потом, потом наступил полный ужас и мрак и свершилось нечто, неподдающееся рассказу. Болезнь, страшная болезнь обрушилась на нее и на глазах моих изменила ее так, что трудно было узнать ее. Увы, болезнь отходила и снова подходила, но прежняя Береника уже не возвращалась! Настоящую Беренику я не знал или, по крайней мере, не признавал ее за Беренику.