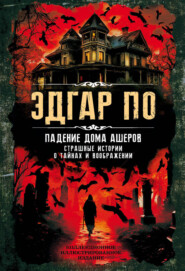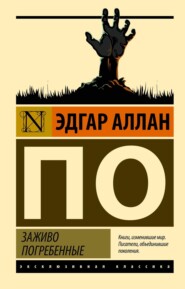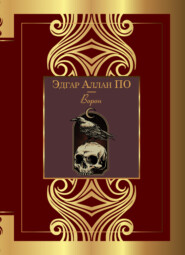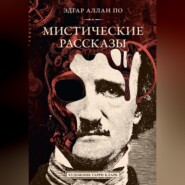По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Золотой жук
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дракона кто убьет – получит славный щит.
Тогда Этельред поднял палицу и ударил дракона по голове так, что тот упал и мгновенно испустил свой нечистый дух с таким ужасным пронзительным воплем, что витязь поскорее заткнул уши, ибо никогда еще не слышал ничего подобного».
Я снова остановился – на этот раз с чувством ужаса и изумления: до меня донесся уже совершенно явственно, хоть я и не мог разобрать откуда, слабый и отдаленный, но резкий, протяжный, визгливый и скребущий звук, подобный неестественному визгу, который почудился моему воображению, когда я читал сцену смерти дракона.
Подавленный при этом вторичном и необычном совпадении наплывом самых разнородных чувств, особенно же изумлением и ужасом, я тем не менее сохранил присутствие духа настолько, что удержался от всяких замечаний, которые могли бы усилить нервное возбуждение моего друга. Я отнюдь не был уверен, что он слышал эти звуки, хотя обнаружил в нем странную и внезапную перемену. Сначала он сидел ко мне лицом, но мало-помалу повернулся к двери, так что я видел только часть его лица, хотя и заметил, что его губы дрожат и как будто что-то беззвучно шепчут. Голова опустилась на грудь, однако он не спал: я видел его профиль – глаз его был широко раскрыт. К тому же он не сидел спокойно, а тихонько покачивался из стороны в сторону. Окинув его беглым взглядом, я продолжал читать рассказ сэра Ланселота:
«Избежав свирепости дракона, витязь хотел овладеть щитом и разрушить чары, тяготевшие над ним, для чего отбросил труп чудовища и смело направился по серебряным плитам к стене, на которой висел щит; но щит не дождался, чтобы витязь подошел, упал и покатился к ногам Этельреда с громким и грозным звоном».
Не успел я произнести эти слова, как раздался отдаленный, но тем не менее явственный звон металла – точно и впрямь в эту минуту медный щит упал на серебряные плиты. Потеряв всякое самообладание, я вскочил на стуле. Я бросился к нему. Он неподвижно уставился в пространство и как будто окоченел. Но, когда я дотронулся до его плеча, сильная дрожь пробежала по всему его телу, жалобная улыбка появилась на губах, и он забормотал что-то торопливым, дрожащим голосом, по-видимому, не замечая моего присутствия. Я наклонился к нему – и понял наконец его безумную речь.
– Слышу ли?.. Да, я слышу… Конечно, слышу… Давным-давно… Много минут, много часов, много дней слышал я это, но не смел – о, горе мне, несчастному!.. – не смел… не смел сказать! Мы похоронили ее живою! Разве я не говорил, что мои чувства изощрены? Теперь говорю вам: я слышал ее первые слабые движения в гробу. Я слышал их… много, много дней тому назад… но не смел… не смел сказать. А теперь… сейчас… Этельред… ха-ха!.. треск двери в келье отшельника, предсмертный вопль дракона, звон щита… скажите лучше – треск гроба, скрежет железной двери и судорожная борьба под медной аркой подвала… О, куда мне бежать? Разве она не явится сейчас? Разве она не спешит сюда, чтобы упрекнуть меня за мою поспешность? Разве я не слышу ее шагов на лестнице? Не различаю тяжелых и страшных ударов ее сердца? Безумец! – Тут он в бешенстве вскочил и крикнул таким ужасным голосом, как будто бы душа его отлетела вместе с этим криком: – Безумец! Говорю вам, она стоит сейчас за дверью.
И словно нечеловеческая сила этих слов имела власть заклинания: высокая старинная дверь медленно разомкнула свои тяжелые черные челюсти. Ее мог распахнуть порыв ветра, – но в дверях стояла высокая, одетая в саван фигура леди Магдалины Эшер. Белая одежда ее была запятнана кровью, на всем ее изможденном теле видны были следы отчаянной борьбы. С минуту она стояла на пороге, дрожа и шатаясь, потом с глухим жалобным криком шагнула в комнату, тяжко рухнула на грудь брата и в судорожной, уже последней агонии увлекла за собою на пол бездыханное тело этой жертвы ужаса, предугаданного заранее.
Я бежал из этой комнаты, из этого дома. Буря свирепствовала по-прежнему, когда я спустился с ветхого крыльца. Вдруг на тропинке мелькнул какой-то странный свет; я обернулся лицом к дому, желая понять, откуда свет мог появиться, так как знал, что дом погружен во мрак. Оказалось, что свет исходил от полной кроваво-красной луны, светившей сквозь трещину, о которой я упоминал, – она шла зигзагом от кровли до основания. На моих глазах трещина быстро расширилась, налетел сильный порыв урагана, полный лунный круг внезапно засверкал мне в глаза, мощные стены распались и рухнули. Раздался протяжный гул, точно от тысячи водопадов, и глубокий черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами Дома Эшеров.
Вильям Вильсон
Что скажет совесть,
Злой призрак на моем пути?
Чемберлен. Фаронида
Позвольте мне на сей раз назваться Вильямом Вильсоном. Нет нужды пятнать своим настоящим именем чистый лист бумаги, что лежит сейчас передо мною. Имя это внушило людям слишком сильное презрение, ужас, ненависть. Ведь негодующие ветры уже разнесли по всему свету молву о неслыханном моем позоре. О, низкий из низких, всеми отринутый! Разве не потерян ты навек для всего сущего, для земных почестей, и цветов, и благородных стремлений? И разве не скрыты от тебя навек небеса бескрайней непроницаемой и мрачной завесой? Я предпочел бы, если можно, не рассказывать здесь сегодня о своей жизни в последние годы, о невыразимом моем несчастье и неслыханном злодеянии. В эту пору моей жизни, в последние эти годы я вдруг особенно преуспел в бесчестье, об истоках которого единственно и хотел здесь поведать. Негодяем человек обычно становится постепенно. С меня же вся добродетель спала в один миг, точно плащ. От сравнительно мелких прегрешений я гигантскими шагами перешел к злодействам, достойным Гелиогабала. Какой же случай, какое событие виной этому недоброму превращению? Вооружись терпением, читатель, я обо всем расскажу своим чередом.
Приближается смерть, и тень ее, неизменная ее предвестница, уже пала на меня и смягчила мою душу. Переходя в долину теней, я жажду людского сочувствия, чуть было не сказал – жалости. О, если бы мне поверили, что в какой-то мере я был рабом обстоятельств, человеку не подвластных. Пусть бы в подробностях, которые я расскажу, в пустыне заблуждений они увидели крохотный оазис рока. Пусть бы они признали, – не могут они этого не признать, – что хотя соблазны, быть может, существовали и прежде, но никогда еще человека так не искушали и, конечно, никогда он не падал так низко. И уж не потому ли никогда он так тяжко не страдал? Разве я не жил как в дурном сне? И разве умираю я не жертвой ужаса, жертвой самого непостижимого, самого безумного из всех подлунных видений?
Я принадлежу к роду, который во все времена отличался пылкостью нрава и силой воображения, и уже в раннем детстве доказал, что полностью унаследовал эти черты. С годами они проявлялись все определеннее, внушая по многим причинам серьезную тревогу моим друзьям и принося безусловный вред мне самому. Я рос своевольным сумасбродом, рабом самых диких прихотей, игрушкой необузданных страстей. Родители мои, люди недалекие и осаждаемые теми же наследственными недугами, что и я, не способны были пресечь мои дурные наклонности. Немногие робкие и неумелые их попытки окончились совершеннейшей неудачей и, разумеется, полным моим торжеством. С тех пор слово мое стало законом для всех в доме, и в том возрасте, когда ребенка обыкновенно еще водят на помочах, я был всецело предоставлен самому себе и всегда и во всем поступал как мне заблагорассудится.
Самые ранние мои школьные воспоминания связаны с большим, несуразно построенным домом времен королевы Елизаветы, в туманном сельском уголке, где росло множество могучих шишковатых деревьев и все дома были очень старые. Почтенное и древнее селение это было местом поистине сказочно мирным и безмятежным. Вот я пишу сейчас о нем и вновь ощущаю свежесть и прохладу его тенистых аллей, вдыхаю аромат цветущего кустарника и вновь трепещу от неизъяснимого восторга, заслышав глухой и низкий звон церковного колокола, что каждый час нежданно и гулко будит тишину и сумрак погруженной в дрему готической резной колокольни.
Я перебираю в памяти мельчайшие подробности школьной жизни, всего, что с ней связано, и воспоминания эти радуют меня, насколько я еще способен радоваться. Погруженному в пучину страдания, страдания, увы! слишком неподдельного, мне простятся поиски утешения, пусть слабого и мимолетного, в случайных беспорядочных подробностях. Подробности эти, хотя и весьма обыденные и даже смешные сами по себе, особенно для меня важны, ибо они связаны с той порою, когда я различил первые неясные предостережения судьбы, что позднее полностью мною завладела, с тем местом, где все это началось. Итак, позвольте мне перейти к воспоминаниям.
Дом, как я уже сказал, был старый и нескладный. Двор – обширный, окруженный со всех сторон высокой и массивной кирпичной оградой, верх которой был утыкан битым стеклом.
Эти совсем тюремные стены ограничивали наши владения, мы выходили за них всего трижды в неделю – по субботам после полудня, когда нам разрешали выйти всем вместе в сопровождении двух наставников на недолгую прогулку по соседним полям, и дважды по воскресеньям, когда нас, также строем, водили к утренней и вечерней службе в сельскую церковь. Священником в этой церкви был директор нашего пансиона. В каком глубоком изумлении, в каком смущении пребывала моя душа, когда с нашей далекой скамьи на хорах я смотрел, как медленно и величественно он поднимается на церковную кафедру! Неужто этот почтенный проповедник, с лицом столь благолепно милостивым, в облачении столь пышном, столь торжественно ниспадающем до полу, – в парике, напудренном столь тщательно, таком большом и внушительном, – неужто это он, только что сердитый и угрюмый, в обсыпанном нюхательным табаком сюртуке, с линейкой в руках, творил суд и расправу по драконовским законам нашего заведения? О, безмерное противоречие, ужасное в своей непостижимости!
Из угла массивной ограды, насупясь, глядели еще более массивные ворота. Они были усажены множеством железных болтов и увенчаны острыми железными зубьями. Какой глубокий благоговейный страх они внушали! Они всегда были на запоре, кроме тех трех наших выходов, о которых уже говорилось, и тогда в каждом скрипе их могучих петель нам чудились всевозможные тайны – мы находили великое множество поводов для сумрачных замечаний и еще более сумрачных раздумий.
Владения наши имели неправильную форму, и там было много уединенных площадок. Три-четыре самые большие предназначались для игр. Они были ровные, посыпаны крупным песком и хорошо утрамбованы. Помню, там не было ни деревьев, ни скамеек, ничего. И располагались они, разумеется, за домом. А перед домом был разбит небольшой цветник, обсаженный вечнозеленым самшитом и другим кустарником, но по этой запретной земле мы проходили только в самых редких случаях – когда впервые приезжали в школу, или навсегда ее покидали, или, быть может, когда за нами заезжали родители или друзья и мы радостно отправлялись под отчий кров на Рождество или на летние вакации.
Но дом! какое же это было причудливое старое здание! Мне он казался поистине заколдованным замком! Сколько там было всевозможных запутанных переходов, сколько самых неожиданных уголков и закоулков. Там никогда нельзя было сказать с уверенностью, на каком из двух этажей вы сейчас находитесь. Чтобы попасть из одной комнаты в другую, надо было непременно подняться или спуститься по двум или трем ступенькам. Коридоров там было великое множество, и они так разветвлялись и петляли, что, сколько ни пытались мы представить себе в точности расположение комнат в нашем доме, представление это получалось не отчетливей, чем наше понятие о бесконечности. За те пять лет, что я провел там, я так и не сумел точно определить, в каком именно отдаленном уголке расположен тесный дортуар, отведенный мне и еще восемнадцати или двадцати делившим его со мной ученикам.
Классная комната была самая большая в здании и, как мне тогда казалось, во всем мире. Она была очень длинная, узкая, с гнетуще низким дубовым потолком и стрельчатыми готическими окнами. В дальнем, внушающем страх углу было отгорожено помещение футов в восемь-десять – кабинет нашего директора, преподобного доктора Брэнсби. И в отсутствие хозяина мы куда охотней погибли бы под самыми страшными пытками, чем переступили бы порог этой комнаты, отделенной от нас массивной дверью. Два других угла были тоже отгорожены, и мы взирали на них с куда меньшим почтением, но, однако же, с благоговейным страхом. В одном пребывал наш преподаватель древних языков и литературы, в другом – учитель английского языка и математики. По всей комнате, вдоль и поперек, в беспорядке стояли многочисленные скамейки и парты – черные, ветхие, заваленные грудами захватанных книг и до того изуродованные инициалами, полными именами, нелепыми фигурами и множеством иных проб перочинного ножа, что они вовсе лишились своего первоначального, хоть сколько-нибудь пристойного вида. В одном конце комнаты стояло огромное ведро с водой, в другом – весьма внушительных размеров часы.
В массивных стенах этого почтенного заведения я провел (притом без скуки и отвращения) третье пятилетие своей жизни. Голова ребенка всегда полна; чтобы занять его или развлечь, вовсе не требуются события внешнего мира, и унылое однообразие школьного бытия было насыщено для меня куда более напряженными волнениями, чем те, какие в юности я черпал из роскоши, а в зрелые годы – из преступления. Однако в моем духовном развитии ранней поры было, по-видимому, что-то необычное, что-то ourtе[21 - Преувеличенное (фр.).]. События самых ранних лет жизни редко оставляют в нашей душе столь заметный след, чтобы он сохранился и в зрелые годы. Они превращаются обычно лишь в серую дымку, в неясное беспорядочное воспоминание – смутное скопище малых радостей и невообразимых страданий. У меня же все по-иному. Должно быть, в детстве мои чувства силою не уступали чувствам взрослого человека, и в памяти моей все события запечатлелись столь же отчетливо, глубоко и прочно, как надписи на карфагенских монетах.
Однако же, с общепринятой точки зрения, как мало во всем этом такого, что стоит помнить! Утреннее пробуждение, ежевечерние призывы ко сну; зубрежка, ответы у доски; праздничные дни; прогулки; площадка для игр – стычки, забавы, обиды и козни; все это, по волшебной и давно уже забытой магии духа, в ту пору порождало множество чувств, богатый событиями мир, вселенную разнообразных переживаний, волнений самых пылких и будоражащих душу. «О le bon temps, que ce si?cle de fer!»[22 - О дивная пора – железный этот век! (фр.)]
И в самом деле, пылкость, восторженность и властность моей натуры вскоре выделили меня среди моих однокашников и неспешно, но с вполне естественной неуклонностью подчинили мне всех, кто был немногим старше меня летами, – всех, за исключением одного. Исключением этим оказался ученик, который, хотя и не состоял со мною в родстве, звался, однако, так же, как и я, – обстоятельство само по себе мало примечательное, ибо, хотя я и происхожу из рода знатного, имя и фамилия у меня самые заурядные, каковые – так уж повелось с незапамятных времен – всегда были достоянием простонародья. Оттого в рассказе моем я назвался Вильямом Вильсоном, – вымышленное это имя очень схоже с моим настоящим. Среди тех, кто, выражаясь школьным языком, входил в «нашу компанию», единственно мой тезка позволял себе соперничать со мною в классе, в играх и стычках на площадке, позволял себе сомневаться в моих суждениях и не подчиняться моей воле – иными словами, во всем, в чем только мог, становился помехой моим деспотическим капризам. Если существует на свете крайняя, неограниченная власть, – это власть сильной личности над более податливыми натурами сверстников в годы отрочества.
Бунтарство Вильсона было для меня источником величайших огорчений; в особенности же оттого, что, хотя на людях я взял себе за правило пренебрегать им и его притязаниями, втайне я его страшился, ибо не мог не думать, что легкость, с какою он оказывался со мною вровень, означала истинное его превосходство, ибо первенство давалось мне нелегко. И, однако, его превосходства или хотя бы равенства не замечал никто, кроме меня; товарищи наши по странной слепоте, казалось, об этом и не подозревали. Соперничество его, противодействие и в особенности дерзкое и упрямое стремление помешать были скрыты от всех глаз и явственны для меня лишь одного. По-видимому, он равно лишен был и честолюбия, которое побуждало меня к действию, и страстного нетерпения ума, которое помогало мне выделиться. Можно было предположить, что соперничество его вызывалось единственно прихотью, желанием перечить мне, поразить меня или уязвить; хотя, случалось, я замечал со смешанным чувством удивления, унижения и досады, что, когда он и прекословил мне, язвил и оскорблял меня, во всем этом сквозила некая совсем уж неуместная и непрошеная нежность. Странность эта проистекала, на мой взгляд, из редкостной самонадеянности, принявшей вид снисходительного покровительства и попечения.
Быть может, именно эта черта в поведении Вильсона вместе с одинаковой фамилией и с простой случайностью, по которой оба мы появились в школе в один и тот же день, навела старший класс нашего заведения на мысль, будто мы братья. Старшие ведь обыкновенно не очень-то вникают в дела младших. Я уже сказал или должен был сказать, что Вильсон не состоял с моим семейством ни в каком родстве, даже самом отдаленном. Но будь мы братья, мы бы, несомненно, должны были быть близнецами; ибо уже после того, как я покинул заведение мистера Брэнсби, я случайно узнал, что тезка мой родился девятнадцатого января 1813 года, – весьма замечательное совпадение, ибо в этот самый день появился на свет и я.
Может показаться странным, что, хотя соперничество Вильсона и присущий ему несносный дух противоречия постоянно мне досаждали, я не мог заставить себя окончательно его возненавидеть. Почти всякий день меж нами вспыхивали ссоры, и, публично вручая мне пальму первенства, он каким-то образом ухитрялся заставить меня почувствовать, что на самом деле она по праву принадлежит ему; но свойственная мне гордость и присущее ему подлинное чувство собственного достоинства способствовали тому, что мы, так сказать, «не раззнакомились», однако же нравом мы во многом были схожи, и это вызывало во мне чувство, которому, быть может, одно только необычное положение наше мешало обратиться в дружбу. Поистине нелегко определить или хотя бы описать чувства, которые я к нему питал. Они составляли пеструю и разнородную смесь: доля раздражительной враждебности, которая еще не стала ненавистью, доля уважения, большая доля почтения, немало страха и бездна тревожного любопытства. Знаток человеческой души и без дополнительных объяснений поймет, что мы с Вильсоном были поистине неразлучны.
Без сомнения, как раз причудливость наших отношений направляла все мои нападки на него (а было их множество – и открытых и завуалированных) в русло подтрунивания или грубоватых шуток (которые разыгрывались словно бы ради забавы, однако все равно больно ранили) и не давала отношениям этим вылиться в открытую враждебность. Но усилия мои отнюдь не всегда увенчивались успехом, даже если и придумано все было наиостроумнейшим образом, ибо моему тезке присуща была та спокойная непритязательная сдержанность, у которой не сыщешь ахиллесовой пяты, и поэтому, радуясь остроте своих собственных шуток, он оставлял мои совершенно без внимания. Мне удалось обнаружить у него лишь одно уязвимое место, но то было особое его свойство, вызванное, вероятно, каким-то органическим заболеванием, и воспользоваться этим мог лишь такой зашедший в тупик противник, как я: у соперника моего были, видимо, слабые голосовые связки, и он не мог говорить громко, а только еле слышным шепотом. И уж я не упускал самого ничтожного случая отыграться на его недостатке.
Вильсон находил множество случаев отплатить мне, но один из его остроумных способов досаждал мне всего более. Как ему удалось угадать, что такой пустяк может меня бесить, ума не приложу; но, однажды поняв это, он пользовался всякою возможностью мне досадить. Я всегда питал неприязнь к моей неизысканной фамилии и к чересчур заурядному, если не плебейскому, имени. Они были ядом для моего слуха, и когда в день моего прибытия в пансион там появился второй Вильям Вильсон, я разозлился на него за то, что он носит это имя, и вдвойне вознегодовал на имя за то, что его носит кто-то еще, отчего его станут повторять вдвое чаще, а тот, кому оно принадлежит, постоянно будет у меня перед глазами, и поступки его, неизбежные и привычные в повседневной школьной жизни, из-за отвратительного этого совпадения будут часто путать с моими.
Порожденная таким образом досада еще усиливалась всякий раз, когда случай явственно показывал внутреннее или внешнее сходство меж моим соперником и мною. В ту пору я еще не обнаружил того примечательного обстоятельства, что мы были с ним одних лет; но я видел, что мы одного роста, и замечал также, что мы на редкость схожи телосложением и чертами лица. К тому же я был уязвлен слухом, будто мы с ним в родстве, который распространился среди учеников старших классов. Коротко говоря, ничто не могло сильней меня задеть (хотя я тщательно это скрывал), нежели любое упоминание о сходстве наших душ, наружности или обстоятельств. Но, сказать по правде, у меня не было причин думать, что сходство это обсуждали или хотя бы замечали мои товарищи; говорили только о нашем родстве. А вот Вильсон явно замечал это во всех проявлениях, и притом столь же ревниво, как я; к тому же он оказался на редкость изобретателен на колкости и насмешки – это свидетельствовало, как я уже говорил, об его удивительной проницательности.
Его тактика состояла в том, чтобы возможно точнее подражать мне и в речах и в поступках; и здесь он достиг совершенства. Скопировать мое платье ничего не стоило; походку мою и манеру держать себя он усвоил без труда; и, несмотря на присущий ему органический недостаток, ему удавалось подражать даже моему голосу. Громко говорить он, разумеется, не мог, но интонация была та же; и сам его своеобразный шепот стал поистине моим эхом.
Какие же муки причинял мне превосходный этот портрет (ибо по справедливости его никак нельзя было назвать карикатурой), мне даже сейчас не описать. Одно только меня утешало, – что подражание это замечал единственно я сам и терпеть мне приходилось многозначительные и странно язвительные улыбки одного только моего тезки. Удовлетворенный тем, что вызвал в душе моей те самые чувства, какие желал, он, казалось, втайне радовался, что причинил мне боль, и решительно не ждал бурных аплодисментов, какие с легкостью мог принести ему его остроумно достигнутый успех. Но долгие беспокойные месяцы для меня оставалось неразрешимой загадкой, как же случилось, что в пансионе никто не понял его намерений, не оценил действий, а стало быть, не глумился с ним вместе. Возможно, постепенность, с которой он подделывался под меня, мешала остальным заметить, что происходит, или – это более вероятно – своею безопасностью я был обязан искусству подражателя, который полностью пренебрег чисто внешним сходством (а только его и замечают в портретах люди туповатые), зато, к немалой моей досаде, мастерски воспроизводил дух оригинала, что видно было мне одному.
Я уже не раз упоминал об отвратительном мне покровительственном тоне, который он взял в отношении меня, и о его частом назойливом вмешательстве в мои дела. Вмешательство его нередко выражалось в непрошеных советах; при этом он не советовал прямо и открыто, но говорил намеками, обиняками. Я выслушивал эти советы с отвращением, которое год от году росло. Однако ныне, в столь далекий от той поры день, я хотел бы отдать должное моему сопернику, признать хотя бы, что ни один его совет не мог бы привести меня к тем ошибкам и глупостям, какие столь свойственны людям молодым и, казалось бы, неопытным; что нравственным чутьем, если не талантливостью натуры и жизненной умудренностью, он, во всяком случае, намного меня превосходил и что, если бы я не так часто отвергал его советы, сообщаемые тем многозначительным шепотом, который тогда я слишком горячо ненавидел и слишком ожесточенно презирал, я, возможно, был бы сегодня лучше, а значит, и счастливей.
Но при том, как все складывалось, под его постылым надзором я в конце концов дошел до крайней степени раздражения и день ото дня все более открыто возмущался его, как мне казалось, несносной самонадеянностью. Я уже говорил, что в первые годы в школе чувство мое к нему легко могло бы перерасти в дружбу; но в последние школьные месяцы, хотя навязчивость его, без сомнения, несколько уменьшилась, чувство мое почти в той же степени приблизилось к настоящей ненависти. Как-то раз он, мне кажется, это заметил и после того стал избегать меня или делал вид, что избегает.
Если память мне не изменяет, примерно в это же самое время мы однажды крупно поспорили, и в пылу гнева он отбросил привычную осторожность и заговорил, и повел себя с несвойственной ему прямотой – и тут я заметил (а может быть, мне почудилось) в его речи, выражении лица, во всем облике нечто такое, что сперва испугало меня, а потом живо заинтересовало, ибо в памяти моей всплыли картины младенчества, – беспорядочно теснящиеся смутные воспоминания той далекой поры, когда сама память еще не родилась. Лучше всего я передам чувство, которое угнетало меня в тот миг, если скажу, что не мог отделаться от ощущения, будто с человеком, который стоял сейчас передо мною, я был уже когда-то знаком, давным-давно, во времена бесконечно далекие. Иллюзия эта, однако, тотчас же рассеялась; и упоминаю я о ней единственно для того, чтобы обозначить день, когда я в последний раз беседовал со своим странным тезкой.
В громадном старом доме, с его бесчисленными помещениями, было несколько смежных больших комнат, где спали почти все воспитанники. Было там, однако (это неизбежно в столь неудобно построенном здании), много каморок, образованных не слишком разумно возведенными стенами и перегородками, изобретательный директор доктор Брэнсби их тоже приспособил под дортуары, хотя первоначально они предназначались под чуланы и каждый мог вместить лишь одного человека. В такой вот спаленке помещался Вильсон.
Однажды ночью, в конце пятого года пребывания в пансионе и сразу после только что описанной ссоры, я дождался, когда все погрузились в сон, встал и с лампой в руке, узкими запутанными переходами прокрался из своей спальни в спальню соперника. Я уже давно замышлял сыграть с ним одну из тех злых и грубых шуток, какие до сих пор мне неизменно не удавались. И вот теперь я решил осуществить свой замысел и дать ему почувствовать всю меру переполнявшей меня злобы. Добравшись до его каморки, я оставил прикрытую колпаком лампу за дверью, а сам бесшумно переступил порог. Я шагнул вперед и прислушался к спокойному дыханию моего тезки. Уверившись, что он спит, я возвратился в коридор, взял лампу и с нею вновь приблизился к постели. Она была завешена плотным пологом, который, следуя своему плану, я потихоньку отодвинул, – лицо спящего залил яркий свет, и я впился в него взором. Я взглянул – и вдруг оцепенел, меня обдало холодом. Грудь моя тяжело вздымалась, колени задрожали, меня объял беспричинный и, однако, нестерпимый ужас. Я перевел дух и поднес лампу еще ближе к его лицу. Неужели это… это лицо Вильяма Вильсона? Я, конечно, видел, что это его лицо, и все же не мог этому поверить, и меня била лихорадочная дрожь. Что же в этом лице так меня поразило? Я смотрел, а в голове моей кружился вихрь беспорядочных мыслей. Когда он бодрствовал, в суете дня, он был не такой, как сейчас, нет, конечно, не такой. То же имя! те же черты! тот же день прибытия в пансион! Да еще упорное и бессмысленное подражание моей походке, голосу, моим привычкам и повадкам! Неужели то, что представилось моему взору, – всего лишь следствие привычных упражнений в язвительном подражании? Охваченный ужасом, я с трепетом погасил лампу, бесшумно выскользнул из каморки и в тот же час покинул стены старого пансиона, чтобы уже никогда туда не возвращаться.
После нескольких месяцев, проведенных дома в совершенной праздности, я был определен в Итон. Короткого этого времени оказалось довольно, чтобы память о событиях, происшедших в пансионе доктора Брэнсби, потускнела, по крайней мере, я вспоминал о них с совсем иными чувствами. Все это больше не казалось таким подлинным и таким трагичным. Я уже способен был усомниться в свидетельстве своих чувств, да и вспоминал все это не часто, и всякий раз удивлялся человеческому легковерию, и с улыбкой думал о том, сколь живое воображение я унаследовал от предков. Характер жизни, которую я вел в Итоне, нисколько не способствовал тому, чтобы у меня поубавилось подобного скептицизма. Водоворот безрассудств и легкомысленных развлечений, в который я кинулся так сразу, очертя голову, мгновенно смыл все, кроме пены последних часов, поглотил все серьезные, устоявшиеся впечатления и оставил в памяти лишь пустые сумасбродства прежнего моего существования.
Я не желаю, однако, описывать шаг за шагом прискорбное распутство, предаваясь которому мы бросали вызов всем законам и ускользали от строгого ока нашего колледжа. Три года безрассудств протекли без пользы, у меня лишь укоренились порочные привычки, да я еще как-то вдруг вырос и стал очень высок ростом; и вот однажды после недели бесшабашного разгула я пригласил к себе на тайную пирушку небольшую компанию самых беспутных своих приятелей. Мы собрались поздним вечером, ибо так уж у нас было заведено, чтобы попойки затягивались до утра. Вино лилось рекой, и в других, быть может более опасных, соблазнах тоже не было недостатка; так что, когда на востоке стал пробиваться хмурый рассвет, сумасбродная наша попойка была еще в самом разгаре. Отчаянно раскрасневшись от карт и вина, я упрямо провозглашал тост, более обыкновенного богохульный, как вдруг внимание мое отвлекла порывисто открывшаяся дверь и встревоженный голос моего слуги. Не входя в комнату, он доложил, что какой-то человек, который очень торопится, желает говорить со мною в прихожей.
Крайне возбужденный выпитым вином, я скорее обрадовался, нежели удивился нежданному гостю. Нетвердыми шагами я тотчас вышел в прихожую. В этом тесном помещении с низким потолком не было лампы; и сейчас сюда не проникал никакой свет, лишь серый свет утра пробивался через полукруглое окно. Едва переступив порог, я увидел юношу примерно моего роста, в белом казимировом сюртуке такого же новомодного покроя, что и тот, как был на мне. Только это я и заметил в полутьме, но лица гостя разглядеть не мог. Когда я вошел, он поспешно шагнул мне навстречу, порывисто и нетерпеливо схватил меня за руку и прошептал мне в самое ухо два слова: «Вильям Вильсон».
Я мигом отрезвел.
В повадке незнакомца, в том, как задрожал у меня перед глазами его поднятый палец, было что-то такое, что безмерно меня удивило, но не это взволновало меня до глубины души. Мрачное предостережение, что таилось в его своеобразном, тихом, шипящем шепоте, а более всего то, как он произнес эти несколько простых и знакомых слогов, его тон, самая интонация, всколыхнувшая в душе моей тысячи бессвязных воспоминаний из давнего прошлого, ударили меня, точно я коснулся гальванической батареи. И еще прежде, чем я пришел в себя, гостя и след простыл.
Хотя случай этот сильно подействовал на мое расстроенное воображение, однако же впечатление от него быстро рассеялось. Правда, первые несколько недель я всерьез наводил справки либо предавался мрачным раздумьям. Я не пытался утаить от себя, что это все та же личность, которая столь упорно мешалась в мои дела и допекала меня своими вкрадчивыми советами. Но кто такой этот Вильсон? Откуда он взялся? Какую преследовал цель? Ни на один вопрос я ответа не нашел, знал лишь, что в вечер того дня, когда я скрылся из заведения доктора Брэнсби, он тоже оттуда уехал, ибо дома у него случилось какое-то несчастье. А вскорости я совсем перестал о нем думать, ибо мое внимание поглотил предполагаемый отъезд в Оксфорд. Туда я скоро и в самом деле отправился, а нерасчетливое тщеславие моих родителей снабдило меня таким гардеробом и годовым содержанием, что я мог купаться в роскоши, столь уже дорогой моему сердцу, – соперничать в расточительстве с высокомернейшими наследниками самых богатых и знатных семейств Великобритании.
Теперь я мог грешить, не зная удержу, необузданно предаваться пороку, и пылкий нрав мой взыграл с удвоенной силой, – с презрением отбросив все приличия, я кинулся в омут разгула. Но нелепо было бы рассказывать здесь в подробностях обо всех моих сумасбродствах. Довольно будет сказать, что я всех превзошел в мотовстве и изобрел множество новых безумств, которые составили немалое дополнение к длинному списку пороков, каковыми славились питомцы этого по всей Европе известного своей распущенностью университета.
Вы с трудом поверите, что здесь я пал столь низко, что свел знакомство с профессиональными игроками, перенял у них самые наиподлейшие приемы и, преуспев в этой презренной науке, стал пользоваться ею как источником увеличения и без того огромного моего дохода за счет доверчивых собутыльников. И, однако же, это правда. Преступление мое против всего, что в человеке мужественно и благородно, было слишком чудовищным – и, может быть, лишь поэтому оставалось безнаказанным. Что и говорить, любой, самый распутный мой сотоварищ скорее усомнился бы в явственных свидетельствах своих чувств, нежели заподозрил в подобных действиях веселого, чистосердечного, щедрого Вильяма Вильсона – самого благородного и самого великодушного студента во всем Оксфорде, чьи безрассудства (как выражались мои прихлебатели) были единственно безрассудствами юности и необузданного воображения, чьи ошибки всего лишь неподражаемая прихоть, чьи самые непростимые пороки не более как беспечное и лихое сумасбродство.
Уже два года я успешно следовал этим путем, когда в университете нашем появился молодой выскочка из новой знати, по имени Гленденнинг, – по слухам, богатый, как сам Ирод Аттик, и столь же легко получивший свое богатство. Скоро я понял, что он не блещет умом, и, разумеется, счел его подходящей для меня добычей. Я часто вовлекал его в игру и, подобно всем нечистым на руку игрокам, позволял ему выигрывать изрядные суммы, чтобы тем вернее заманить в мои сети. Основательно обдумав все до мелочей, я решил, что пора наконец привести в исполнение мой замысел, и мы встретились с ним на квартире нашего общего приятеля-студента (мистера Престона), который, надо признаться, даже и не подозревал о моем намерении. Я хотел придать всему вид самый естественный и потому заранее позаботился, чтобы предложение играть выглядело словно бы случайным и исходило от того самого человека, которого я замыслил обобрать. Не стану распространяться о мерзком этом предмете, скажу только, что в тот вечер не было упущено ни одно из гнусных ухищрений, ставших столь привычными в подобных случаях; право же, непостижимо, как еще находятся простаки, которые становятся их жертвами.
Мы засиделись до глубокой ночи, и мне наконец удалось так все подстроить, что выскочка Гленденнинг оказался единственным моим противником. Притом игра шла моя излюбленная – экарте. Все прочие, заинтересовавшись размахом нашего поединка, побросали карты и столпились вокруг нас. Гленденнинг, который в начале вечера благодаря моим уловкам сильно выпил, теперь тасовал, сдавал и играл в таком неистовом волнении, что это лишь отчасти можно было объяснить воздействием вина. В самом непродолжительном времени он был уже моим должником на круглую сумму, и тут, отпив большой глоток портвейна, он сделал именно то, к чему я хладнокровно вел его весь вечер, – предложил удвоить наши и без того непомерные ставки. С хорошо разыгранной неохотой и только после того, как я дважды отказался и тем заставил его погорячиться, я наконец согласился, всем своим видом давая понять, что лишь уступаю его гневной настойчивости. Жертва моя повела себя в точности так, как я и предвидел: не прошло и часу, как долг Гленденнинга возрос вчетверо. Еще до того с лица его постепенно сходил румянец, сообщенный вином, но тут он, к моему удивлению, страшно побледнел. Я сказал: к моему удивлению. Ибо заранее с пристрастием расспросил всех, кого удалось, и все уверяли, что он безмерно богат, а проигрыш его, хоть и немалый сам по себе, не мог, на мой взгляд, серьезно его огорчить и уж того более – так потрясти. Сперва мне пришло в голову, что всему виною недавно выпитый портвейн. И, скорее желая сохранить свое доброе имя, нежели из иных, менее корыстных видов, я уже хотел прекратить игру, как вдруг чьи-то слова за моею спиной и полный отчаяния возглас Гленденнинга дали мне понять, что я совершенно его разорил, да еще при обстоятельствах, которые, сделав его предметом всеобщего сочувствия, защитили бы и от самого отъявленного злодея.
Тогда Этельред поднял палицу и ударил дракона по голове так, что тот упал и мгновенно испустил свой нечистый дух с таким ужасным пронзительным воплем, что витязь поскорее заткнул уши, ибо никогда еще не слышал ничего подобного».
Я снова остановился – на этот раз с чувством ужаса и изумления: до меня донесся уже совершенно явственно, хоть я и не мог разобрать откуда, слабый и отдаленный, но резкий, протяжный, визгливый и скребущий звук, подобный неестественному визгу, который почудился моему воображению, когда я читал сцену смерти дракона.
Подавленный при этом вторичном и необычном совпадении наплывом самых разнородных чувств, особенно же изумлением и ужасом, я тем не менее сохранил присутствие духа настолько, что удержался от всяких замечаний, которые могли бы усилить нервное возбуждение моего друга. Я отнюдь не был уверен, что он слышал эти звуки, хотя обнаружил в нем странную и внезапную перемену. Сначала он сидел ко мне лицом, но мало-помалу повернулся к двери, так что я видел только часть его лица, хотя и заметил, что его губы дрожат и как будто что-то беззвучно шепчут. Голова опустилась на грудь, однако он не спал: я видел его профиль – глаз его был широко раскрыт. К тому же он не сидел спокойно, а тихонько покачивался из стороны в сторону. Окинув его беглым взглядом, я продолжал читать рассказ сэра Ланселота:
«Избежав свирепости дракона, витязь хотел овладеть щитом и разрушить чары, тяготевшие над ним, для чего отбросил труп чудовища и смело направился по серебряным плитам к стене, на которой висел щит; но щит не дождался, чтобы витязь подошел, упал и покатился к ногам Этельреда с громким и грозным звоном».
Не успел я произнести эти слова, как раздался отдаленный, но тем не менее явственный звон металла – точно и впрямь в эту минуту медный щит упал на серебряные плиты. Потеряв всякое самообладание, я вскочил на стуле. Я бросился к нему. Он неподвижно уставился в пространство и как будто окоченел. Но, когда я дотронулся до его плеча, сильная дрожь пробежала по всему его телу, жалобная улыбка появилась на губах, и он забормотал что-то торопливым, дрожащим голосом, по-видимому, не замечая моего присутствия. Я наклонился к нему – и понял наконец его безумную речь.
– Слышу ли?.. Да, я слышу… Конечно, слышу… Давным-давно… Много минут, много часов, много дней слышал я это, но не смел – о, горе мне, несчастному!.. – не смел… не смел сказать! Мы похоронили ее живою! Разве я не говорил, что мои чувства изощрены? Теперь говорю вам: я слышал ее первые слабые движения в гробу. Я слышал их… много, много дней тому назад… но не смел… не смел сказать. А теперь… сейчас… Этельред… ха-ха!.. треск двери в келье отшельника, предсмертный вопль дракона, звон щита… скажите лучше – треск гроба, скрежет железной двери и судорожная борьба под медной аркой подвала… О, куда мне бежать? Разве она не явится сейчас? Разве она не спешит сюда, чтобы упрекнуть меня за мою поспешность? Разве я не слышу ее шагов на лестнице? Не различаю тяжелых и страшных ударов ее сердца? Безумец! – Тут он в бешенстве вскочил и крикнул таким ужасным голосом, как будто бы душа его отлетела вместе с этим криком: – Безумец! Говорю вам, она стоит сейчас за дверью.
И словно нечеловеческая сила этих слов имела власть заклинания: высокая старинная дверь медленно разомкнула свои тяжелые черные челюсти. Ее мог распахнуть порыв ветра, – но в дверях стояла высокая, одетая в саван фигура леди Магдалины Эшер. Белая одежда ее была запятнана кровью, на всем ее изможденном теле видны были следы отчаянной борьбы. С минуту она стояла на пороге, дрожа и шатаясь, потом с глухим жалобным криком шагнула в комнату, тяжко рухнула на грудь брата и в судорожной, уже последней агонии увлекла за собою на пол бездыханное тело этой жертвы ужаса, предугаданного заранее.
Я бежал из этой комнаты, из этого дома. Буря свирепствовала по-прежнему, когда я спустился с ветхого крыльца. Вдруг на тропинке мелькнул какой-то странный свет; я обернулся лицом к дому, желая понять, откуда свет мог появиться, так как знал, что дом погружен во мрак. Оказалось, что свет исходил от полной кроваво-красной луны, светившей сквозь трещину, о которой я упоминал, – она шла зигзагом от кровли до основания. На моих глазах трещина быстро расширилась, налетел сильный порыв урагана, полный лунный круг внезапно засверкал мне в глаза, мощные стены распались и рухнули. Раздался протяжный гул, точно от тысячи водопадов, и глубокий черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами Дома Эшеров.
Вильям Вильсон
Что скажет совесть,
Злой призрак на моем пути?
Чемберлен. Фаронида
Позвольте мне на сей раз назваться Вильямом Вильсоном. Нет нужды пятнать своим настоящим именем чистый лист бумаги, что лежит сейчас передо мною. Имя это внушило людям слишком сильное презрение, ужас, ненависть. Ведь негодующие ветры уже разнесли по всему свету молву о неслыханном моем позоре. О, низкий из низких, всеми отринутый! Разве не потерян ты навек для всего сущего, для земных почестей, и цветов, и благородных стремлений? И разве не скрыты от тебя навек небеса бескрайней непроницаемой и мрачной завесой? Я предпочел бы, если можно, не рассказывать здесь сегодня о своей жизни в последние годы, о невыразимом моем несчастье и неслыханном злодеянии. В эту пору моей жизни, в последние эти годы я вдруг особенно преуспел в бесчестье, об истоках которого единственно и хотел здесь поведать. Негодяем человек обычно становится постепенно. С меня же вся добродетель спала в один миг, точно плащ. От сравнительно мелких прегрешений я гигантскими шагами перешел к злодействам, достойным Гелиогабала. Какой же случай, какое событие виной этому недоброму превращению? Вооружись терпением, читатель, я обо всем расскажу своим чередом.
Приближается смерть, и тень ее, неизменная ее предвестница, уже пала на меня и смягчила мою душу. Переходя в долину теней, я жажду людского сочувствия, чуть было не сказал – жалости. О, если бы мне поверили, что в какой-то мере я был рабом обстоятельств, человеку не подвластных. Пусть бы в подробностях, которые я расскажу, в пустыне заблуждений они увидели крохотный оазис рока. Пусть бы они признали, – не могут они этого не признать, – что хотя соблазны, быть может, существовали и прежде, но никогда еще человека так не искушали и, конечно, никогда он не падал так низко. И уж не потому ли никогда он так тяжко не страдал? Разве я не жил как в дурном сне? И разве умираю я не жертвой ужаса, жертвой самого непостижимого, самого безумного из всех подлунных видений?
Я принадлежу к роду, который во все времена отличался пылкостью нрава и силой воображения, и уже в раннем детстве доказал, что полностью унаследовал эти черты. С годами они проявлялись все определеннее, внушая по многим причинам серьезную тревогу моим друзьям и принося безусловный вред мне самому. Я рос своевольным сумасбродом, рабом самых диких прихотей, игрушкой необузданных страстей. Родители мои, люди недалекие и осаждаемые теми же наследственными недугами, что и я, не способны были пресечь мои дурные наклонности. Немногие робкие и неумелые их попытки окончились совершеннейшей неудачей и, разумеется, полным моим торжеством. С тех пор слово мое стало законом для всех в доме, и в том возрасте, когда ребенка обыкновенно еще водят на помочах, я был всецело предоставлен самому себе и всегда и во всем поступал как мне заблагорассудится.
Самые ранние мои школьные воспоминания связаны с большим, несуразно построенным домом времен королевы Елизаветы, в туманном сельском уголке, где росло множество могучих шишковатых деревьев и все дома были очень старые. Почтенное и древнее селение это было местом поистине сказочно мирным и безмятежным. Вот я пишу сейчас о нем и вновь ощущаю свежесть и прохладу его тенистых аллей, вдыхаю аромат цветущего кустарника и вновь трепещу от неизъяснимого восторга, заслышав глухой и низкий звон церковного колокола, что каждый час нежданно и гулко будит тишину и сумрак погруженной в дрему готической резной колокольни.
Я перебираю в памяти мельчайшие подробности школьной жизни, всего, что с ней связано, и воспоминания эти радуют меня, насколько я еще способен радоваться. Погруженному в пучину страдания, страдания, увы! слишком неподдельного, мне простятся поиски утешения, пусть слабого и мимолетного, в случайных беспорядочных подробностях. Подробности эти, хотя и весьма обыденные и даже смешные сами по себе, особенно для меня важны, ибо они связаны с той порою, когда я различил первые неясные предостережения судьбы, что позднее полностью мною завладела, с тем местом, где все это началось. Итак, позвольте мне перейти к воспоминаниям.
Дом, как я уже сказал, был старый и нескладный. Двор – обширный, окруженный со всех сторон высокой и массивной кирпичной оградой, верх которой был утыкан битым стеклом.
Эти совсем тюремные стены ограничивали наши владения, мы выходили за них всего трижды в неделю – по субботам после полудня, когда нам разрешали выйти всем вместе в сопровождении двух наставников на недолгую прогулку по соседним полям, и дважды по воскресеньям, когда нас, также строем, водили к утренней и вечерней службе в сельскую церковь. Священником в этой церкви был директор нашего пансиона. В каком глубоком изумлении, в каком смущении пребывала моя душа, когда с нашей далекой скамьи на хорах я смотрел, как медленно и величественно он поднимается на церковную кафедру! Неужто этот почтенный проповедник, с лицом столь благолепно милостивым, в облачении столь пышном, столь торжественно ниспадающем до полу, – в парике, напудренном столь тщательно, таком большом и внушительном, – неужто это он, только что сердитый и угрюмый, в обсыпанном нюхательным табаком сюртуке, с линейкой в руках, творил суд и расправу по драконовским законам нашего заведения? О, безмерное противоречие, ужасное в своей непостижимости!
Из угла массивной ограды, насупясь, глядели еще более массивные ворота. Они были усажены множеством железных болтов и увенчаны острыми железными зубьями. Какой глубокий благоговейный страх они внушали! Они всегда были на запоре, кроме тех трех наших выходов, о которых уже говорилось, и тогда в каждом скрипе их могучих петель нам чудились всевозможные тайны – мы находили великое множество поводов для сумрачных замечаний и еще более сумрачных раздумий.
Владения наши имели неправильную форму, и там было много уединенных площадок. Три-четыре самые большие предназначались для игр. Они были ровные, посыпаны крупным песком и хорошо утрамбованы. Помню, там не было ни деревьев, ни скамеек, ничего. И располагались они, разумеется, за домом. А перед домом был разбит небольшой цветник, обсаженный вечнозеленым самшитом и другим кустарником, но по этой запретной земле мы проходили только в самых редких случаях – когда впервые приезжали в школу, или навсегда ее покидали, или, быть может, когда за нами заезжали родители или друзья и мы радостно отправлялись под отчий кров на Рождество или на летние вакации.
Но дом! какое же это было причудливое старое здание! Мне он казался поистине заколдованным замком! Сколько там было всевозможных запутанных переходов, сколько самых неожиданных уголков и закоулков. Там никогда нельзя было сказать с уверенностью, на каком из двух этажей вы сейчас находитесь. Чтобы попасть из одной комнаты в другую, надо было непременно подняться или спуститься по двум или трем ступенькам. Коридоров там было великое множество, и они так разветвлялись и петляли, что, сколько ни пытались мы представить себе в точности расположение комнат в нашем доме, представление это получалось не отчетливей, чем наше понятие о бесконечности. За те пять лет, что я провел там, я так и не сумел точно определить, в каком именно отдаленном уголке расположен тесный дортуар, отведенный мне и еще восемнадцати или двадцати делившим его со мной ученикам.
Классная комната была самая большая в здании и, как мне тогда казалось, во всем мире. Она была очень длинная, узкая, с гнетуще низким дубовым потолком и стрельчатыми готическими окнами. В дальнем, внушающем страх углу было отгорожено помещение футов в восемь-десять – кабинет нашего директора, преподобного доктора Брэнсби. И в отсутствие хозяина мы куда охотней погибли бы под самыми страшными пытками, чем переступили бы порог этой комнаты, отделенной от нас массивной дверью. Два других угла были тоже отгорожены, и мы взирали на них с куда меньшим почтением, но, однако же, с благоговейным страхом. В одном пребывал наш преподаватель древних языков и литературы, в другом – учитель английского языка и математики. По всей комнате, вдоль и поперек, в беспорядке стояли многочисленные скамейки и парты – черные, ветхие, заваленные грудами захватанных книг и до того изуродованные инициалами, полными именами, нелепыми фигурами и множеством иных проб перочинного ножа, что они вовсе лишились своего первоначального, хоть сколько-нибудь пристойного вида. В одном конце комнаты стояло огромное ведро с водой, в другом – весьма внушительных размеров часы.
В массивных стенах этого почтенного заведения я провел (притом без скуки и отвращения) третье пятилетие своей жизни. Голова ребенка всегда полна; чтобы занять его или развлечь, вовсе не требуются события внешнего мира, и унылое однообразие школьного бытия было насыщено для меня куда более напряженными волнениями, чем те, какие в юности я черпал из роскоши, а в зрелые годы – из преступления. Однако в моем духовном развитии ранней поры было, по-видимому, что-то необычное, что-то ourtе[21 - Преувеличенное (фр.).]. События самых ранних лет жизни редко оставляют в нашей душе столь заметный след, чтобы он сохранился и в зрелые годы. Они превращаются обычно лишь в серую дымку, в неясное беспорядочное воспоминание – смутное скопище малых радостей и невообразимых страданий. У меня же все по-иному. Должно быть, в детстве мои чувства силою не уступали чувствам взрослого человека, и в памяти моей все события запечатлелись столь же отчетливо, глубоко и прочно, как надписи на карфагенских монетах.
Однако же, с общепринятой точки зрения, как мало во всем этом такого, что стоит помнить! Утреннее пробуждение, ежевечерние призывы ко сну; зубрежка, ответы у доски; праздничные дни; прогулки; площадка для игр – стычки, забавы, обиды и козни; все это, по волшебной и давно уже забытой магии духа, в ту пору порождало множество чувств, богатый событиями мир, вселенную разнообразных переживаний, волнений самых пылких и будоражащих душу. «О le bon temps, que ce si?cle de fer!»[22 - О дивная пора – железный этот век! (фр.)]
И в самом деле, пылкость, восторженность и властность моей натуры вскоре выделили меня среди моих однокашников и неспешно, но с вполне естественной неуклонностью подчинили мне всех, кто был немногим старше меня летами, – всех, за исключением одного. Исключением этим оказался ученик, который, хотя и не состоял со мною в родстве, звался, однако, так же, как и я, – обстоятельство само по себе мало примечательное, ибо, хотя я и происхожу из рода знатного, имя и фамилия у меня самые заурядные, каковые – так уж повелось с незапамятных времен – всегда были достоянием простонародья. Оттого в рассказе моем я назвался Вильямом Вильсоном, – вымышленное это имя очень схоже с моим настоящим. Среди тех, кто, выражаясь школьным языком, входил в «нашу компанию», единственно мой тезка позволял себе соперничать со мною в классе, в играх и стычках на площадке, позволял себе сомневаться в моих суждениях и не подчиняться моей воле – иными словами, во всем, в чем только мог, становился помехой моим деспотическим капризам. Если существует на свете крайняя, неограниченная власть, – это власть сильной личности над более податливыми натурами сверстников в годы отрочества.
Бунтарство Вильсона было для меня источником величайших огорчений; в особенности же оттого, что, хотя на людях я взял себе за правило пренебрегать им и его притязаниями, втайне я его страшился, ибо не мог не думать, что легкость, с какою он оказывался со мною вровень, означала истинное его превосходство, ибо первенство давалось мне нелегко. И, однако, его превосходства или хотя бы равенства не замечал никто, кроме меня; товарищи наши по странной слепоте, казалось, об этом и не подозревали. Соперничество его, противодействие и в особенности дерзкое и упрямое стремление помешать были скрыты от всех глаз и явственны для меня лишь одного. По-видимому, он равно лишен был и честолюбия, которое побуждало меня к действию, и страстного нетерпения ума, которое помогало мне выделиться. Можно было предположить, что соперничество его вызывалось единственно прихотью, желанием перечить мне, поразить меня или уязвить; хотя, случалось, я замечал со смешанным чувством удивления, унижения и досады, что, когда он и прекословил мне, язвил и оскорблял меня, во всем этом сквозила некая совсем уж неуместная и непрошеная нежность. Странность эта проистекала, на мой взгляд, из редкостной самонадеянности, принявшей вид снисходительного покровительства и попечения.
Быть может, именно эта черта в поведении Вильсона вместе с одинаковой фамилией и с простой случайностью, по которой оба мы появились в школе в один и тот же день, навела старший класс нашего заведения на мысль, будто мы братья. Старшие ведь обыкновенно не очень-то вникают в дела младших. Я уже сказал или должен был сказать, что Вильсон не состоял с моим семейством ни в каком родстве, даже самом отдаленном. Но будь мы братья, мы бы, несомненно, должны были быть близнецами; ибо уже после того, как я покинул заведение мистера Брэнсби, я случайно узнал, что тезка мой родился девятнадцатого января 1813 года, – весьма замечательное совпадение, ибо в этот самый день появился на свет и я.
Может показаться странным, что, хотя соперничество Вильсона и присущий ему несносный дух противоречия постоянно мне досаждали, я не мог заставить себя окончательно его возненавидеть. Почти всякий день меж нами вспыхивали ссоры, и, публично вручая мне пальму первенства, он каким-то образом ухитрялся заставить меня почувствовать, что на самом деле она по праву принадлежит ему; но свойственная мне гордость и присущее ему подлинное чувство собственного достоинства способствовали тому, что мы, так сказать, «не раззнакомились», однако же нравом мы во многом были схожи, и это вызывало во мне чувство, которому, быть может, одно только необычное положение наше мешало обратиться в дружбу. Поистине нелегко определить или хотя бы описать чувства, которые я к нему питал. Они составляли пеструю и разнородную смесь: доля раздражительной враждебности, которая еще не стала ненавистью, доля уважения, большая доля почтения, немало страха и бездна тревожного любопытства. Знаток человеческой души и без дополнительных объяснений поймет, что мы с Вильсоном были поистине неразлучны.
Без сомнения, как раз причудливость наших отношений направляла все мои нападки на него (а было их множество – и открытых и завуалированных) в русло подтрунивания или грубоватых шуток (которые разыгрывались словно бы ради забавы, однако все равно больно ранили) и не давала отношениям этим вылиться в открытую враждебность. Но усилия мои отнюдь не всегда увенчивались успехом, даже если и придумано все было наиостроумнейшим образом, ибо моему тезке присуща была та спокойная непритязательная сдержанность, у которой не сыщешь ахиллесовой пяты, и поэтому, радуясь остроте своих собственных шуток, он оставлял мои совершенно без внимания. Мне удалось обнаружить у него лишь одно уязвимое место, но то было особое его свойство, вызванное, вероятно, каким-то органическим заболеванием, и воспользоваться этим мог лишь такой зашедший в тупик противник, как я: у соперника моего были, видимо, слабые голосовые связки, и он не мог говорить громко, а только еле слышным шепотом. И уж я не упускал самого ничтожного случая отыграться на его недостатке.
Вильсон находил множество случаев отплатить мне, но один из его остроумных способов досаждал мне всего более. Как ему удалось угадать, что такой пустяк может меня бесить, ума не приложу; но, однажды поняв это, он пользовался всякою возможностью мне досадить. Я всегда питал неприязнь к моей неизысканной фамилии и к чересчур заурядному, если не плебейскому, имени. Они были ядом для моего слуха, и когда в день моего прибытия в пансион там появился второй Вильям Вильсон, я разозлился на него за то, что он носит это имя, и вдвойне вознегодовал на имя за то, что его носит кто-то еще, отчего его станут повторять вдвое чаще, а тот, кому оно принадлежит, постоянно будет у меня перед глазами, и поступки его, неизбежные и привычные в повседневной школьной жизни, из-за отвратительного этого совпадения будут часто путать с моими.
Порожденная таким образом досада еще усиливалась всякий раз, когда случай явственно показывал внутреннее или внешнее сходство меж моим соперником и мною. В ту пору я еще не обнаружил того примечательного обстоятельства, что мы были с ним одних лет; но я видел, что мы одного роста, и замечал также, что мы на редкость схожи телосложением и чертами лица. К тому же я был уязвлен слухом, будто мы с ним в родстве, который распространился среди учеников старших классов. Коротко говоря, ничто не могло сильней меня задеть (хотя я тщательно это скрывал), нежели любое упоминание о сходстве наших душ, наружности или обстоятельств. Но, сказать по правде, у меня не было причин думать, что сходство это обсуждали или хотя бы замечали мои товарищи; говорили только о нашем родстве. А вот Вильсон явно замечал это во всех проявлениях, и притом столь же ревниво, как я; к тому же он оказался на редкость изобретателен на колкости и насмешки – это свидетельствовало, как я уже говорил, об его удивительной проницательности.
Его тактика состояла в том, чтобы возможно точнее подражать мне и в речах и в поступках; и здесь он достиг совершенства. Скопировать мое платье ничего не стоило; походку мою и манеру держать себя он усвоил без труда; и, несмотря на присущий ему органический недостаток, ему удавалось подражать даже моему голосу. Громко говорить он, разумеется, не мог, но интонация была та же; и сам его своеобразный шепот стал поистине моим эхом.
Какие же муки причинял мне превосходный этот портрет (ибо по справедливости его никак нельзя было назвать карикатурой), мне даже сейчас не описать. Одно только меня утешало, – что подражание это замечал единственно я сам и терпеть мне приходилось многозначительные и странно язвительные улыбки одного только моего тезки. Удовлетворенный тем, что вызвал в душе моей те самые чувства, какие желал, он, казалось, втайне радовался, что причинил мне боль, и решительно не ждал бурных аплодисментов, какие с легкостью мог принести ему его остроумно достигнутый успех. Но долгие беспокойные месяцы для меня оставалось неразрешимой загадкой, как же случилось, что в пансионе никто не понял его намерений, не оценил действий, а стало быть, не глумился с ним вместе. Возможно, постепенность, с которой он подделывался под меня, мешала остальным заметить, что происходит, или – это более вероятно – своею безопасностью я был обязан искусству подражателя, который полностью пренебрег чисто внешним сходством (а только его и замечают в портретах люди туповатые), зато, к немалой моей досаде, мастерски воспроизводил дух оригинала, что видно было мне одному.
Я уже не раз упоминал об отвратительном мне покровительственном тоне, который он взял в отношении меня, и о его частом назойливом вмешательстве в мои дела. Вмешательство его нередко выражалось в непрошеных советах; при этом он не советовал прямо и открыто, но говорил намеками, обиняками. Я выслушивал эти советы с отвращением, которое год от году росло. Однако ныне, в столь далекий от той поры день, я хотел бы отдать должное моему сопернику, признать хотя бы, что ни один его совет не мог бы привести меня к тем ошибкам и глупостям, какие столь свойственны людям молодым и, казалось бы, неопытным; что нравственным чутьем, если не талантливостью натуры и жизненной умудренностью, он, во всяком случае, намного меня превосходил и что, если бы я не так часто отвергал его советы, сообщаемые тем многозначительным шепотом, который тогда я слишком горячо ненавидел и слишком ожесточенно презирал, я, возможно, был бы сегодня лучше, а значит, и счастливей.
Но при том, как все складывалось, под его постылым надзором я в конце концов дошел до крайней степени раздражения и день ото дня все более открыто возмущался его, как мне казалось, несносной самонадеянностью. Я уже говорил, что в первые годы в школе чувство мое к нему легко могло бы перерасти в дружбу; но в последние школьные месяцы, хотя навязчивость его, без сомнения, несколько уменьшилась, чувство мое почти в той же степени приблизилось к настоящей ненависти. Как-то раз он, мне кажется, это заметил и после того стал избегать меня или делал вид, что избегает.
Если память мне не изменяет, примерно в это же самое время мы однажды крупно поспорили, и в пылу гнева он отбросил привычную осторожность и заговорил, и повел себя с несвойственной ему прямотой – и тут я заметил (а может быть, мне почудилось) в его речи, выражении лица, во всем облике нечто такое, что сперва испугало меня, а потом живо заинтересовало, ибо в памяти моей всплыли картины младенчества, – беспорядочно теснящиеся смутные воспоминания той далекой поры, когда сама память еще не родилась. Лучше всего я передам чувство, которое угнетало меня в тот миг, если скажу, что не мог отделаться от ощущения, будто с человеком, который стоял сейчас передо мною, я был уже когда-то знаком, давным-давно, во времена бесконечно далекие. Иллюзия эта, однако, тотчас же рассеялась; и упоминаю я о ней единственно для того, чтобы обозначить день, когда я в последний раз беседовал со своим странным тезкой.
В громадном старом доме, с его бесчисленными помещениями, было несколько смежных больших комнат, где спали почти все воспитанники. Было там, однако (это неизбежно в столь неудобно построенном здании), много каморок, образованных не слишком разумно возведенными стенами и перегородками, изобретательный директор доктор Брэнсби их тоже приспособил под дортуары, хотя первоначально они предназначались под чуланы и каждый мог вместить лишь одного человека. В такой вот спаленке помещался Вильсон.
Однажды ночью, в конце пятого года пребывания в пансионе и сразу после только что описанной ссоры, я дождался, когда все погрузились в сон, встал и с лампой в руке, узкими запутанными переходами прокрался из своей спальни в спальню соперника. Я уже давно замышлял сыграть с ним одну из тех злых и грубых шуток, какие до сих пор мне неизменно не удавались. И вот теперь я решил осуществить свой замысел и дать ему почувствовать всю меру переполнявшей меня злобы. Добравшись до его каморки, я оставил прикрытую колпаком лампу за дверью, а сам бесшумно переступил порог. Я шагнул вперед и прислушался к спокойному дыханию моего тезки. Уверившись, что он спит, я возвратился в коридор, взял лампу и с нею вновь приблизился к постели. Она была завешена плотным пологом, который, следуя своему плану, я потихоньку отодвинул, – лицо спящего залил яркий свет, и я впился в него взором. Я взглянул – и вдруг оцепенел, меня обдало холодом. Грудь моя тяжело вздымалась, колени задрожали, меня объял беспричинный и, однако, нестерпимый ужас. Я перевел дух и поднес лампу еще ближе к его лицу. Неужели это… это лицо Вильяма Вильсона? Я, конечно, видел, что это его лицо, и все же не мог этому поверить, и меня била лихорадочная дрожь. Что же в этом лице так меня поразило? Я смотрел, а в голове моей кружился вихрь беспорядочных мыслей. Когда он бодрствовал, в суете дня, он был не такой, как сейчас, нет, конечно, не такой. То же имя! те же черты! тот же день прибытия в пансион! Да еще упорное и бессмысленное подражание моей походке, голосу, моим привычкам и повадкам! Неужели то, что представилось моему взору, – всего лишь следствие привычных упражнений в язвительном подражании? Охваченный ужасом, я с трепетом погасил лампу, бесшумно выскользнул из каморки и в тот же час покинул стены старого пансиона, чтобы уже никогда туда не возвращаться.
После нескольких месяцев, проведенных дома в совершенной праздности, я был определен в Итон. Короткого этого времени оказалось довольно, чтобы память о событиях, происшедших в пансионе доктора Брэнсби, потускнела, по крайней мере, я вспоминал о них с совсем иными чувствами. Все это больше не казалось таким подлинным и таким трагичным. Я уже способен был усомниться в свидетельстве своих чувств, да и вспоминал все это не часто, и всякий раз удивлялся человеческому легковерию, и с улыбкой думал о том, сколь живое воображение я унаследовал от предков. Характер жизни, которую я вел в Итоне, нисколько не способствовал тому, чтобы у меня поубавилось подобного скептицизма. Водоворот безрассудств и легкомысленных развлечений, в который я кинулся так сразу, очертя голову, мгновенно смыл все, кроме пены последних часов, поглотил все серьезные, устоявшиеся впечатления и оставил в памяти лишь пустые сумасбродства прежнего моего существования.
Я не желаю, однако, описывать шаг за шагом прискорбное распутство, предаваясь которому мы бросали вызов всем законам и ускользали от строгого ока нашего колледжа. Три года безрассудств протекли без пользы, у меня лишь укоренились порочные привычки, да я еще как-то вдруг вырос и стал очень высок ростом; и вот однажды после недели бесшабашного разгула я пригласил к себе на тайную пирушку небольшую компанию самых беспутных своих приятелей. Мы собрались поздним вечером, ибо так уж у нас было заведено, чтобы попойки затягивались до утра. Вино лилось рекой, и в других, быть может более опасных, соблазнах тоже не было недостатка; так что, когда на востоке стал пробиваться хмурый рассвет, сумасбродная наша попойка была еще в самом разгаре. Отчаянно раскрасневшись от карт и вина, я упрямо провозглашал тост, более обыкновенного богохульный, как вдруг внимание мое отвлекла порывисто открывшаяся дверь и встревоженный голос моего слуги. Не входя в комнату, он доложил, что какой-то человек, который очень торопится, желает говорить со мною в прихожей.
Крайне возбужденный выпитым вином, я скорее обрадовался, нежели удивился нежданному гостю. Нетвердыми шагами я тотчас вышел в прихожую. В этом тесном помещении с низким потолком не было лампы; и сейчас сюда не проникал никакой свет, лишь серый свет утра пробивался через полукруглое окно. Едва переступив порог, я увидел юношу примерно моего роста, в белом казимировом сюртуке такого же новомодного покроя, что и тот, как был на мне. Только это я и заметил в полутьме, но лица гостя разглядеть не мог. Когда я вошел, он поспешно шагнул мне навстречу, порывисто и нетерпеливо схватил меня за руку и прошептал мне в самое ухо два слова: «Вильям Вильсон».
Я мигом отрезвел.
В повадке незнакомца, в том, как задрожал у меня перед глазами его поднятый палец, было что-то такое, что безмерно меня удивило, но не это взволновало меня до глубины души. Мрачное предостережение, что таилось в его своеобразном, тихом, шипящем шепоте, а более всего то, как он произнес эти несколько простых и знакомых слогов, его тон, самая интонация, всколыхнувшая в душе моей тысячи бессвязных воспоминаний из давнего прошлого, ударили меня, точно я коснулся гальванической батареи. И еще прежде, чем я пришел в себя, гостя и след простыл.
Хотя случай этот сильно подействовал на мое расстроенное воображение, однако же впечатление от него быстро рассеялось. Правда, первые несколько недель я всерьез наводил справки либо предавался мрачным раздумьям. Я не пытался утаить от себя, что это все та же личность, которая столь упорно мешалась в мои дела и допекала меня своими вкрадчивыми советами. Но кто такой этот Вильсон? Откуда он взялся? Какую преследовал цель? Ни на один вопрос я ответа не нашел, знал лишь, что в вечер того дня, когда я скрылся из заведения доктора Брэнсби, он тоже оттуда уехал, ибо дома у него случилось какое-то несчастье. А вскорости я совсем перестал о нем думать, ибо мое внимание поглотил предполагаемый отъезд в Оксфорд. Туда я скоро и в самом деле отправился, а нерасчетливое тщеславие моих родителей снабдило меня таким гардеробом и годовым содержанием, что я мог купаться в роскоши, столь уже дорогой моему сердцу, – соперничать в расточительстве с высокомернейшими наследниками самых богатых и знатных семейств Великобритании.
Теперь я мог грешить, не зная удержу, необузданно предаваться пороку, и пылкий нрав мой взыграл с удвоенной силой, – с презрением отбросив все приличия, я кинулся в омут разгула. Но нелепо было бы рассказывать здесь в подробностях обо всех моих сумасбродствах. Довольно будет сказать, что я всех превзошел в мотовстве и изобрел множество новых безумств, которые составили немалое дополнение к длинному списку пороков, каковыми славились питомцы этого по всей Европе известного своей распущенностью университета.
Вы с трудом поверите, что здесь я пал столь низко, что свел знакомство с профессиональными игроками, перенял у них самые наиподлейшие приемы и, преуспев в этой презренной науке, стал пользоваться ею как источником увеличения и без того огромного моего дохода за счет доверчивых собутыльников. И, однако же, это правда. Преступление мое против всего, что в человеке мужественно и благородно, было слишком чудовищным – и, может быть, лишь поэтому оставалось безнаказанным. Что и говорить, любой, самый распутный мой сотоварищ скорее усомнился бы в явственных свидетельствах своих чувств, нежели заподозрил в подобных действиях веселого, чистосердечного, щедрого Вильяма Вильсона – самого благородного и самого великодушного студента во всем Оксфорде, чьи безрассудства (как выражались мои прихлебатели) были единственно безрассудствами юности и необузданного воображения, чьи ошибки всего лишь неподражаемая прихоть, чьи самые непростимые пороки не более как беспечное и лихое сумасбродство.
Уже два года я успешно следовал этим путем, когда в университете нашем появился молодой выскочка из новой знати, по имени Гленденнинг, – по слухам, богатый, как сам Ирод Аттик, и столь же легко получивший свое богатство. Скоро я понял, что он не блещет умом, и, разумеется, счел его подходящей для меня добычей. Я часто вовлекал его в игру и, подобно всем нечистым на руку игрокам, позволял ему выигрывать изрядные суммы, чтобы тем вернее заманить в мои сети. Основательно обдумав все до мелочей, я решил, что пора наконец привести в исполнение мой замысел, и мы встретились с ним на квартире нашего общего приятеля-студента (мистера Престона), который, надо признаться, даже и не подозревал о моем намерении. Я хотел придать всему вид самый естественный и потому заранее позаботился, чтобы предложение играть выглядело словно бы случайным и исходило от того самого человека, которого я замыслил обобрать. Не стану распространяться о мерзком этом предмете, скажу только, что в тот вечер не было упущено ни одно из гнусных ухищрений, ставших столь привычными в подобных случаях; право же, непостижимо, как еще находятся простаки, которые становятся их жертвами.
Мы засиделись до глубокой ночи, и мне наконец удалось так все подстроить, что выскочка Гленденнинг оказался единственным моим противником. Притом игра шла моя излюбленная – экарте. Все прочие, заинтересовавшись размахом нашего поединка, побросали карты и столпились вокруг нас. Гленденнинг, который в начале вечера благодаря моим уловкам сильно выпил, теперь тасовал, сдавал и играл в таком неистовом волнении, что это лишь отчасти можно было объяснить воздействием вина. В самом непродолжительном времени он был уже моим должником на круглую сумму, и тут, отпив большой глоток портвейна, он сделал именно то, к чему я хладнокровно вел его весь вечер, – предложил удвоить наши и без того непомерные ставки. С хорошо разыгранной неохотой и только после того, как я дважды отказался и тем заставил его погорячиться, я наконец согласился, всем своим видом давая понять, что лишь уступаю его гневной настойчивости. Жертва моя повела себя в точности так, как я и предвидел: не прошло и часу, как долг Гленденнинга возрос вчетверо. Еще до того с лица его постепенно сходил румянец, сообщенный вином, но тут он, к моему удивлению, страшно побледнел. Я сказал: к моему удивлению. Ибо заранее с пристрастием расспросил всех, кого удалось, и все уверяли, что он безмерно богат, а проигрыш его, хоть и немалый сам по себе, не мог, на мой взгляд, серьезно его огорчить и уж того более – так потрясти. Сперва мне пришло в голову, что всему виною недавно выпитый портвейн. И, скорее желая сохранить свое доброе имя, нежели из иных, менее корыстных видов, я уже хотел прекратить игру, как вдруг чьи-то слова за моею спиной и полный отчаяния возглас Гленденнинга дали мне понять, что я совершенно его разорил, да еще при обстоятельствах, которые, сделав его предметом всеобщего сочувствия, защитили бы и от самого отъявленного злодея.