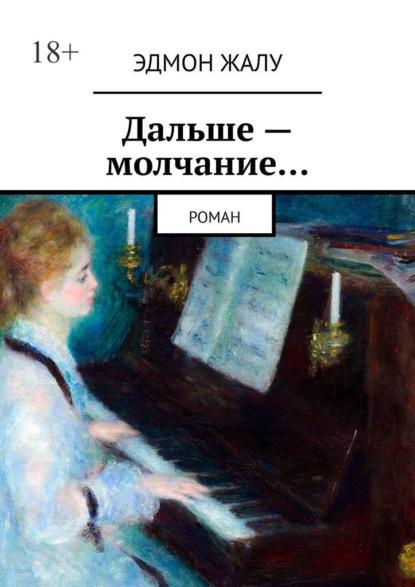По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дальше – молчание… Роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А Жанна? Чем она сегодня занята? Она не с вами?
Папа объяснил, что его жена почувствовала себя плохо и не пошла гулять.
Ирма покачала головой с выражением человека, который хотел бы вас утешить, но может только пожалеть. Для меня из книжного шкафа достали огромную книгу по зоологии, посвященную рыбам и украшенную большими цветными вставками. Мне очень нравилось проникать в тайны океанической жизни, они одни только и были доступны моему юному возрасту.
Пока я был поглощен разглядыванием страшных скорпен и колючих рыб-ежей, солнце-рыб и луна-рыб, голотурий и тубулярий, отец и тетка Ирма, сидя в углу возле нетопленого камина, тихонько беседовали.
Он часто жестикулировал и будто что-то объяснял, она сохраняла на своей физиономии соболезнующее и притворное выражение. На мгновение я услышал, как теткин грубый голос возвысился; она говорила покровительственным тоном, полным коварной снисходительности:
– Я всегда тебе твердила об этом, Жозеф, ты не захотел ко мне прислушаться. Она очень молода для тебя, понимаешь, очень молода…
Когда мы вернулись домой, мама, вытянувшись в шезлонге, казалось, мечтала. Она вяло расспросила нас о нашей прогулке и выслушала с безучастным и меланхоличным видом. Она сказала нам, что правильно сделала, что не пошла гулять, и что ей получше, но все-таки не совсем хорошо.
– Что же с тобой? – проворчал отец.
– Мигрень, – пробормотала она с такой тонкой улыбкой, что он ее не заметил.
– Мне кажется, она у тебя случается очень часто…
– Мне тоже так кажется…
Мать была очень аккуратной, но ее шляпка все еще лежала здесь, на кровати, как будто мать, поспешно вернувшись домой, не успела положить ее на место. И почему, черт возьми, если она никуда не выходила, на ней были ее самые красивые ботиночки, совсем новенькие бродекены[6 - Дамские полусапожки со шнуровкой.], которые утром, когда мы ходили к мессе, она не надевала? Наверное, чтобы понемногу привыкнуть к ним. Да, наверное… Но почему на их кожаных лаковых кончиках был легкий налет пыли, словно немножко пудры?.. Мать просыпала ее, занимаясь своим туалетом? Да, может быть…
II
На следующий день ручьями лил дождь – один из тех проливных осенних дождей, о которых думаешь, что они никогда не закончатся. Мама никуда не выходила. Она была беспокойной и усталой; она немного почитала, повышивала, поиграла на пианино, но все это отрывисто, нерешительно и бессвязно. К вечеру затяжной ливень прекратился. Из-за закрывавших небо черных туч триумфально вышло солнце. Золотое, почти лимонное. Его светло-желтые лучи так ярко ударили в стекла, что было удивительно, как они не зазвенели.
– Хочешь, пойдем к папе? – спросила мама, складывая свою работу с нескрываемым чувством облегчения.
Я охотно согласился с этим неожиданным предложением, позволявшим мне выйти на прогулку. Отцу доставляло радость, когда мы приходили к нему в контору. Он с большой гордостью показывал нас, элегантных и изящных, своим неотесанным служащим, и в этом присутствовал своего рода эксгибиционизм, сильно не нравившийся маме.
И мы вышли на залитые дождем улицы, по которым растекались лужи грязи. Мокрые тротуары, грязные мостовые, сверкающие крышки люков, сияющие рельсы, – все отражало теплый цвет неба, так что казалось, будто идешь по растопленному золоту. Под конец дня, словно распустив свои сети, город наполнялся людьми. Вдоль красных баров поднимался и разносился запах абсента, смешиваясь с затхлым запахом тины, которым тянуло в сыром воздухе, и с ароматами парфюмерии, остававшимися за запоздалыми и спешащими женщинами. Со стороны порта, между расплывчатыми массивами домов, медленно поднимались бесконечно разраставшиеся завесы тумана, по цвету и консистенции напоминавшие молоко и по краям словно с золотящимися ранами, с прорезями от зажигавшихся газовых фонарей.
Контора моего отца располагалась на берегу стоячего канала, тяжелая вода которого казалась зеленой, в месте уединенном и тихом, хотя и находилось оно в глубине самого густонаселенного и шумного квартала.
Вдоль причала рядами выстроились бочки: одни лежали, другие стояли, и все лаково сияли золотом на заходящем солнце. На липкой и мутной волне, в равномерном, танцующем ритме то расширялись, то стягивались широкие бронзовые переливы. Мягко покачивались барки. У некоторых были скрещены мачты. И старые и новые, изъеденные морскими волнами и покрытые лаком, с черными, красными, белыми или зелеными горизонтальными полосами, они сливались со своими зыбкими отражениями, составляя с ними как бы одно целое. Некоторые были свалены как попало на промасленные плиты вместе с отцепленными тележками и необтесанными балками.
Улицу замыкали большие желтые и черные дома с высокими трубами. Дым растворялся в небе, смешиваясь с облаками, чуть тронутыми оранжевым и серно-желтым цветом. Фасады, все одинаково неприветливые, старые, мрачные, пестрели развешенным на окнах бельем. В нижних этажах, служивших магазинами, были коричневые круглые двери со ржавыми молоточками. Через зеленоватые стекла виднелись огромные, пустые или загроможденные бочками, помещения. Все имело заброшенный, пустынный, обветшалый и печальный вид, как будто торговля велась здесь только с мертвецами или с тенями.
Мы перешли через канал по старинному горбатому деревянному мосту, стойки которого оканчивались перекладинами в форме буквы «Т», цеплявшимися за настил толстыми цепями. Мне очень нравился этот квартал невидимой работы и тишины, может быть, из-за дремлющей воды, застаивавшейся между каменными набережными, а может быть, из-за этих двух фантастического вида мостов, тревоживших меня своей таинственной формой и высившихся в вечернем тумане призрачными эшафотами, словно чтобы казнить последние золотые лучи, с трепетом ложившиеся на крыши.
Мы нашли отца в его маленьком застекленном кабинете, возвышавшемся слева от двери над уходящими вглубь ангарами, откуда пахло пряностями. Он выглядел грустным и озабоченным. Когда он поднял голову и заметил нас, лицо его просияло.
Он поспешно вышел, расцеловал нас и принялся восторженно рассказывать, какую радость мы ему доставили.
– Пойдемте поздороваетесь со служащими! – произнес он торжественно.
Мать от этого предложения обычно отказывалась, но на этот раз согласилась без возражений. Мы прошли в другую комнату, где перегородки из дерева и матового стекла отделяли приказчиков от покупателей. На наш голос они один за другим вышли из своей берлоги. Их было трое, не считая Селестена – мальчишки-посыльного. Между ними был старичок, невероятно разговорчивый, с грубым красным лицом, с торчащими усами и прилизанными редкими волосами. Он нравился мне, потому что часто дарил мне монетку в десять су, когда мы заходили его поприветствовать, но мама побаивалась его нелепых комплиментов и его бесконечных историй, и в том числе рассказа об одном сражении в семьдесят первом году, в котором он проявил себя героем и о котором рассказывал нам каждый раз. Теперь этот герой занимался копированием бумаг и ожесточенно наваливался на пресс с такой яростью, словно ему приходилось давить какого-нибудь вооруженного с головы до ног пруссака или баварца.
Позади него стоял мрачный длинноносый детина, одно из тех нелепых существ и страдальцев, у кого жизнь не удалась и кто смешон даже в своем несчастии. О нем говорили обиняками, в домашней жизни у него случились какие-то неприятности, жил он один. Он был жалко некрасив, застенчив, нескладен, неловок, и никто не мог определить его возраст. Третий служащий походил на добродушного барана с округлой бородой; все в его облике повторяло один и тот же мягкий и робкий изгиб: нос, подбородок, спина. Когда он смеялся, все складки его лица поднимались вверх ко лбу и смеялись и рот, и ноздри, и морщины, и веки, и брови. На самом деле он был отличным малым: простым, преданным своему делу и искренним. У Селестена был хитрый и порочный вид не по годам развитого прохвоста.
– Свидетельствую вам мое почтение, сударыня! – говорил старик чересчур бойким тоном. – Ах, в гостях у вас дама, которая вам делает большую честь, г-н Мейссирель, а я вам приношу с ней мои поздравления!
Отец рассмеялся, мать сделала недовольную гримасу.
Несчастный что-то невнятно бормотал; баран долго кивал начальнику, как китайские болванчики с качающейся головой, безостановочно поддакивающие вам с добрую четверть часа, Селестен поглядывал на меня тем же взглядом, какой бывал у кузенов Тремла, когда они затевали надо мной какую-нибудь забавную выходку.
– Вот сын! – радостно воскликнул отец, положив мне на плечо крепкую руку.
– Ох! – отвечал старый вояка. – Он все время растет. Скоро перерастет отца с матерью. Нужно есть суп, дружок! Чтобы стать солдатом, нужно есть суп! Вот если бы я не ел суп, великий Боже, что бы я делал в семьдесят первом году, когда…
Для него все средства были хороши, чтобы вернуться к своему героизму.
– Да-да, мы знаем, – говорила мать, – мы наслышаны о вашем доблестном поступке, г-н Годферно…
Герой рассыпался в поклонах.
– Сударыня мне льстит, сударыня мне льстит…
Мы обменялись еще несколькими словами, и на этом представление закончилось. Разгорячившийся и вдохновившийся растревожившими его кавалерийскими мечтами, г-н Годферно пошел успокаивать свою ярость на копировальном прессе, несчастный вернулся к безысходности своих зеленых папок, а баран к верстаку с чернилами и бланками. Селестен всегда исчезал в мгновение ока, и ничто не разубедило бы меня в том, что он проскользнул на лестницу в надежде подкараулить меня и, когда я буду спускаться, схватить за ногу, чтобы я скатился вниз. Однако эти печальные предчувствия ни разу не сбылись.
Как далеко они теперь, сослуживцы моего отца! Г-н Годферно умер нищим, так и не отомстив пруссакам. Его единственная дочь вышла замуж за менялу. Несколько лет спустя, в увлечении своей профессией, этот меняла наменял деньги клиентов на хорошую сумму, которую предпочел потратить не в родном краю, а в другом месте и с особой более веселой, чем жена. И г-н Годферно, отдав кредиторам все свои сбережения на возмещение убытков, умер от нищеты и отчаяния. Неудачник погиб так же жалко и нелепо, как жил. В один дождливый день его задавил катафалк. Баран женился на овце своей породы и произвел на свет множество маленьких ягнят. Что до Селестена, то надеюсь, он не умер на эшафоте, как я предполагал в том наивном возрасте, но должен сказать, что об этом мне ничего не известно…
И втроем мы вышли на улицу. Стояла почти совершенная ночь, и на небе ясно проступили звезды. Мы снова перешли через мост: отражения газовых фонарей накладывались на отражения их бесконечно изломанных золотых лучей, и казалось, что они танцуют на конце эластичной нити. На улицах стало тише и малолюднее. Я размышлял о том, не поселились ли в бочках духи восточных сказок в ожидании часа, когда можно будет ворваться в дома квартала и рассказать его бедным обитателям о существовании неведомых кладов.
Папа предложил руку маме, а мама взяла за руку меня. Так мы и пошли мимо ярко освещенных магазинов, по более оживленным улицам, прочь от этих сонных и пустынных набережных.
Отец был весел и рассказывал не знаю о чем, наверное, о своих делах, о сестре, о г-не Годферно; он жил в своей маленькой вселенной, как мышь из басни в своем сыре[7 - Лафонтен «Мышь, удалившаяся от света».], вся она для него заключалась в торговле. Между тем для его ума существовали две бесконечные отдушины: его служащие и Ирма. Что до нас, то мы, разумеется, составляли сердцевину его маленького мирка. Думаю, пока он рассуждал, мама его не слушала. Разве не знала она давным-давно все, что он мог ей сказать?
Вдруг на углу улицы рука мамы слегка дрогнула в моей. Мимо нас очень быстро прошла какая-то тень. Мама обернулась, и я увидел, как она поспешно улыбнулась… Кому? Я машинально оглянулся назад. По мостовой, держась за руки и смеясь, шли три работницы. Навстречу им шагал пожилой господин. По тротуару удалялась худощавая фигура молодого человека. Напрасно я искал – никого знакомого я не заметил… Чтобы отблагодарить жену за визит, отец захотел подарить ей цветы. Она их обожала. Мы зашли в цветочный магазин. Там стоял полумрак и прохлада – та прохлада, какая бывает ночью в садах, и так же пахло сырой землей и ветками. В глянцевых глубинах переплетались зеленые кустарники, образуя в миниатюре девственный лес и выбрасывая вверх пальмовые ветви и листья: пятнистые, как пантеры, мохнатые, как гусеницы, или сверкавшие ярче клинков. В больших, тяжелых, слегка потрескавшихся вазах стояли букеты. Отец купил разных хризантем: белоснежных, бордовых, оранжевых, – взъерошенных, как рассерженные коты, или рассыпающихся, как переливающиеся макушки фонтанов. Некоторые из них были лишь пучком вьющихся волосков, тускло-золотым или бледно-розовым пухом на кончике хрупкого стержня…
Повеселевшие, втроем мы вернулись домой. Этот трофей из венчиков с триумфом нес я…
На другое утро мама вышла на прогулку одна и вернулась с букетиком фиалок на корсаже. Она поставила его в венецианское стекло напротив вчерашнего большого букета.
Через несколько дней все цветы завяли. Хризантемы мать выбросила без сожаления, но когда настал черед фиалок, она заботливо высушила их, протерла ватой и заперла в маленькую продолговатую черную лаковую шкатулку – одну из тех японских шкатулок, в которых хранят перчатки и с которых улыбается дородная японочка под золотой сосной с рельефными сучками на стройном стволе и с иголочками тоньше волоска…
На прошлой неделе я нашел его в ящике, этот старый букетик. Ни цветов, ни листьев на нем было уже не различить. От него осталось нечто жалкое, пожелтевшее, бесполезное, засохшее, съежившееся, пахнущее пылью. Как-нибудь вечером я сожгу его.
III
…На мгновение я прекратил писать, я закрыл глаза, чтобы воскресить в памяти все подробности прошлого, которое переношу для себя на бумагу, словно, придавая ему форму, переживаю его заново. Как трудно мне представить мою мать такой, какой она была в то время! Мне нужно приложить усилие, сконцентрировать волю, и тогда на сплошном черном фоне, на котором рождаются и исчезают смутные фосфоресценции, я вижу, как потихоньку проступает чрезвычайно нежный образ, детское выражение лица с большими ясными глазами, всегда такими мечтательными, что кажется, они смотрят на вас откуда-то издалека, и густые каштановые волосы, взбитые надо лбом. На мгновение я различаю тонкую, гибкую, пластичную фигуру, волнообразную и необыкновенно ритмичную походку, – но это лишь короткая вспышка, и снова все расплывается и сливается… Мужчины запечатлеваются в памяти лучше, может быть потому, что черты лица их резче и грубее, а может быть и потому, что мы меньше о них думаем и образ их не стирается от слишком частых припоминаний. Мой отец, высокий и грузный, с чересчур большим животом, с длинной редкой бородой, с виду казался суровым, но его строгой наружности противоречили добрые собачьи глаза. Он был апатичный и слабохарактерный и часто кричал, чтобы скрыть отсутствие воли. Но что можно скрыть от женщины или от ребенка? Его сестра оказывала на него самое неблагоприятное влияние, и это влияние, как я уже говорил, осуществлялось в ущерб нам.
У матери родных не осталось, если не считать нескольких дальних родственников, живших в другом городе. Мать она потеряла вскоре после своего рождения, и ее взяла на воспитание единственная тетка по отцовской линии. Ее отец тогда стал жить вместе с сестрой, но вдруг влюбился в какую-то актрису, уехал вслед за ней, и больше его не видели. Много лет спустя он умер в Александрии в нищете. Мать отзывалась о нем с симпатией; он был неплохим человеком, но легкомысленным, слабым, беспечным и безумно любил удовольствия. Как только у него появлялось немного денег, он бежал покупать шампанское и сладости. Он любил повторять, что хорошее вино человеку нужнее, чем мясо. Он не выносил скуки, что было причиной его несчастий, и думаю, моя мать была в этом на него похожа, а может быть, и во многом другом тоже…
Так она и осталась одна, с мадемуазель Белеуди – особой весьма занятной, очень порядочной, но романтической и с головой, забитой всяким вздором, историями про любовь и спрятанные клады, усердной читательницей драматических фельетонов и, несмотря на ее очень скромные средства, имеющей тягу к роскоши и расточительству и безумную любовь к театру, особой, в сущности, очень рассудительной, но воспитавшей племянницу в странном сочетании здравомыслия и безрассудства.
Она была намного старше брата, и, когда моей матери исполнилось двадцать лет, боясь умереть прежде, чем мать будет устроена, начала хлопотать, чтобы выдать ее замуж. Как обычно, посредничать вызвались подруги, священники, старые девы. Кокетливая и сентиментальная, мадемуазель Белеуди была еще и набожна, но в Бога она верила так же, как делала вообще все, то есть с большой страстью и не видя в религии ничего, кроме явлений святых, особой благодати и чудес.