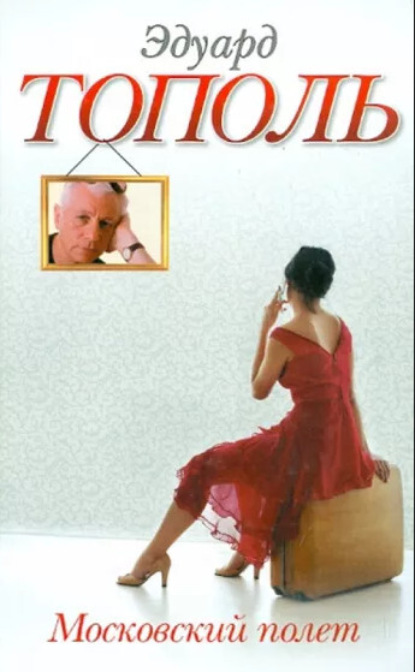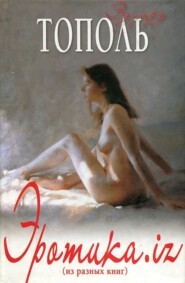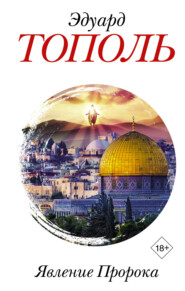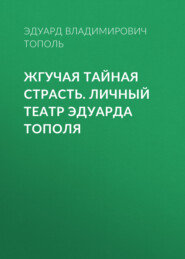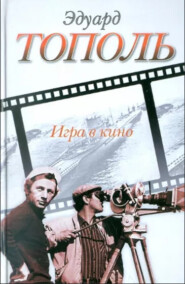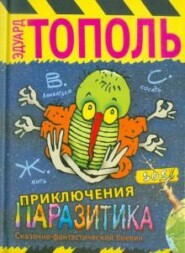По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Московский полет
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Последние метры советской земли побежали за иллюминатором, съедаемые скоростью. Тяжелый, как гусь, «Ту-124», казалось, еле отрывался от щербатой бетонки взлетной полосы. А мы, сидя в креслах, мысленно подталкивали его вверх: «Ну! Ну! Ну же!..» И вдруг – тряска кончилась, мы – взлетели!
– Ур-р-ра! – заорал мужчина, у которого отняли вилки, и обнял свою жену.
– Ура! – подхватили мы, а я подумал: Господи, ведь мы и вправду уже улетаем от них! От ГУЛАГа, погромов, психбольниц, допросов КГБ, доносов в парткомы, прописок, пятого пункта, процентной нормы, принудительного распределения на работу, профсоюзных, комсомольских и партийных поручений, «добровольных» субботников, подписки на «Правду», уборки картошки за колхозников, изучения брежневских речей и «Морального кодекса строителя коммунизма». Теперь от всего этого набора позади нас оставались всего-навсего девять граммов свинца под мышкой у этого гэбэшника! Да плевать нам на это – мы взлетели, ВЗЛЕТЕЛИ!
И тут все, даже мужчина, у которого отняли серебряные вилки, стали громко шутить и еще громче хохотать, вспоминая шереметьевских таможенников, изображая их в лицах, как в пьесе. Даже отец умирающего сварщика показал, как я взбесился, когда Алеша сломал первую клавишу у моей пишущей машинки. «Я решил – все, золотые клавиши, сейчас рейс задержат! – сказал он. – А оказалось! Да я вам их в Вене на спичках припаяю!..» Мужчина-задира вдруг сам стал хохмить по поводу своих пропавших вилок: «Вообще-то это тещины вилки, а она мне никогда не приносила счастья! Так что даже хорошо, что тещино несчастье осталось!
Сейчас, вспоминая эти шутки, я не нахожу в них ничего смешного. Но я хорошо помню, что там, в самолете, мы смеялись так, словно накурились марихуаны. А может, мы и вправду были пьяны свободой, как зеки, удачно бежавшие из тюрьмы. Мы хохотали, хлопали друг друга по плечам, делились бутербродами и настойчиво угощали австрийцев шоколадом «Аленка» и конфетами «Мишка косолапый», которые все-таки удалось пронести в самолет. При этом мы с нелепой гордостью говорили австрийцам: «Русские конфеты! Russian чоколадо!» – по советской привычке считая, что русский шоколад самый лучший в мире.
Австрийцы вежливо откусывали подтаявшую, в мятой обертке «Аленку», с интересом посматривали на нашу актрису, сидящую у окна, и уже через полчаса полета уговорили командира самолета радировать в Вену, чтобы прямо в аэропорту, у трапа, нас встречала ambulance с аппаратом переливания крови. При этом все мы вызывающе демонстративно игнорировали теперь этого гэбэшника в конце салона. После двух суток совместного пребывания в шереметьевском аэропорту мы, совершенно незнакомые люди, вдруг стали одной семьей. Ведь мы уже все знали друг о друге: кто откуда, с кем прощался, куда летит, в Америку или в Израиль, и что каждый везет в своих чемоданах, – мы даже видели нижнее белье нашей актрисы! Два инвалида – парализованная старушка и умирающий сварщик – стали теперь нашими общими родственниками, а двое детей – грудной ребенок сварщика и Ася-скрипачка – нашими общими детьми. Мы поминутно смотрели на них: младенец спал на руках матери, а Ася – уронив голову набок, на свою белую кроличью шубку. Оба дышали глубоко и спокойно, губы были полуоткрыты. И видя этих сладко спящих детей, мы гордо переглядывались, как бы говоря: да, все-таки мы добились своего, главного – мы вывезли с этой гибельной земли юные еврейские корни! Конечно, там, на Западе, их ждут проблемы роста – мы знаем, мы читали в газетах про наркотики и все прочее. Но мы верили, что никто там не станет внушать нашим детям любовь к дедушке Ленину, никто не заставит их доносить на родителей, не бросит в ГУЛАГ или в психбольницу и не будет всю жизнь держать их затылки под прицелом холодных гэбэшных глаз.
Кажется, даже врачи-австрийцы поняли, о чем мы думаем, глядя на наших детей.
– Мазл тов, – вдруг сказал нам один из австрийцев, и мы дружно расхохотались, и я еще раз и с удовольствием попробовал на языке это давно забытое еврейское слово, которое слышал только в далеком детстве, от дедушки: мазл тов, счастливчик…
В Вене, в аэропорту, едва к самолету подали трап, наш охранник первым пошел к выходу – его миссия закончилась! Он пробежал вниз по трапу и вошел в пустой австрийский автобус, сияющий чистотой, как концертный рояль. Но не мог уехать сразу, потому что этот автобус ждал нас, а не его. И теперь этот гэбэшник был вынужден наблюдать, как мы выходим из самолета в новый мир.
Здесь, в этом новом мире, было удивительно тепло и солнечно, словно мы перелетели на другую планету. Только значительно позже я сообразил, что Вена просто много южнее Москвы. А в те минуты я лишь изумлялся.
Здравствуй, новый мир! Какой ты?
Поодаль от самолета, метрах в двухстах, виднелось стеклобетонное здание аэропорта с надписью «Вена». А под самолетом рядом с автобусом стояли белые машины «скорой помощи», и два санитара с носилками уже бежали по трапу, чтобы забрать нашего умирающего.
И мы, все еще ощущая себя одной семьей, первым делом вынесли из самолета наших детей и старуху. Я помог шатенке спустить разморенную сном скрипачку из самолета в автобус и, полный знобяще-веселого возбуждения, тут же – навстречу красивой актрисе – взбежал обратно в самолет, поднял там на руки парализованную старушку и понес вниз по трапу. Старушка обняла меня за шею – она была легче перышка. А может быть, это Бог дал мне тогда силы даже не почувствовать ее тяжести. Я посадил старушку на кресло в автобусе и опять побежал вверх по трапу, но внезапно ощутил какой-то холодок в затылке.
Я оглянулся и встретил холодные, светлые гэбэшные глаза. О, это были еще те глаза! Теперь наконец в них появилось выражение – выражение чистой, как шведская водка «Абсолют», ненависти. С каким удовольствием, нет, с наслаждением, он вытащил бы сейчас свой теплый пистолет и разрядил в меня всю обойму! Почему? Да потому, что я таки ушел от их власти, да еще помогаю теперь уходить другим, и открыто, победоносно радуюсь свободе!
Я прочел его взгляд, улыбнулся ему и побежал вверх по трапу с новой энергией.
Внутри самолета санитары укладывали гиганта-сварщика на высокую тележку-носилки. Его отец и мать молча стояли рядом, а толстая жена рыдала в своем кресле, держа проснувшегося младенца на животе.
Я взял, а точнее, выхватил у нее ребенка и сказал жестко:
– Пошли!
Когда женщины плачут, необходим строгий повелительный тон. Она встала и послушно пошла за мной к выходу, уронив с колен детскую соску и запасную пару крохотных белых детских ботиночек.
Я вышел из самолета, держа на руках еврейского младенца. И уже сам нашел взглядом этого гэбэшника. Я демонстративно выносил еще одного ребенка с советской территории, как выносят из радиоактивной зоны, и не было в тот момент на земле мужчины сильней и счастливей меня! Я чувствовал себя сионистом, солдатом, бойцом, гранитным памятником в Трептов-парке! Если бы этот гэбэшник поднял сейчас пистолет, я с ликующим криком прикрыл бы этого ребенка своей грудью. Да, есть вещи, о которых люди пишут с гордостью, а есть – о которых умалчивают от скромности. Я же горжусь, что в тот момент чувствовал себя стопроцентным евреем и стопроцентным мужчиной.
Я шел по трапу с ребенком на руках и смотрел этому гэбэшнику прямо в глаза. И было такое напряжение в нашей молчаливой дуэли, что все обратили на это внимание и замолчали на миг, а мать девочки-скрипачки сказала мне:
– Умоляю, не дразните его!
– Почему? – улыбнулся я и, не отводя взгляда от светло-голубых глаз гэбэшника, передал жене сварщика ее грудного ребенка.
И тут гэбэшник отвернулся.
Он отвернулся с полным безразличием на лице, но мы-то с ним уже поняли друг друга!
Он отвернулся, вышел из автобуса и направился к служебному мини-автобусу, который прикатил за советским экипажем – пилотами и стюардессами.
Он присоединился к ним, к советской команде, и мини-автобус повез их куда-то в глубину аэропорта. Но в самый последний миг, когда автобус уже сворачивал за угол аэровокзала, гэбэшник вскинул глаза и глянул на меня с таким прищуром – именно прищуром! – с каким смотрят сквозь прицел снайперской винтовки.
* * *
Тут с Бродвея ворвалась в окно очередная не то полицейская, не то медицинская сирена. Я посмотрел на телефонную трубку в руке, она уже давно пищала короткими гудками. Я вспомнил, что советское посольство выдало мне визу на поездку в СССР. Мне, единственному из всей делегации.
Я дал отбой, прокашлялся и потом медленно набрал на телефонном диске бостонский код 617 и номер своего адвоката.
– Attorney Breslaw’s office (Офис адвоката Бреслава), – тут же отозвался молодой звонкий женский голос.
– May I talk to Mr. Breslaw [Господина Бреслава, пожалуйста], – сказал я, все еще представляя себе глаза того гэбэшника.
– Who is calling, please [Кто спрашивает]?..
– Vadim Plotkin.
– Just a second [Секундочку], – почти пропела секретарша, и в трубке тут же зазвучал мужской голос:
– Hallo, Mister Plotkin! What can I do for you [Алло, мистер Плоткин. Чем могу быть вам полезен]?..
– I want to draw up a will, – сказал я. – How much would it cost [Я хочу составить завещание. Сколько это будет стоить]?
7
– Если меня убьют в Москве, – сказал я в Бостоне тому самому адвокату, который оформлял наше с Лизой соглашение о разводе, – то скандал подтолкнет издателей переиздать мои книги. Но я не хочу, чтобы Лиза растранжирила мой гонорар на шмотки и рестораны. Я хочу, чтобы Хана получила эти деньги в день своего совершеннолетия…
Подписав завещание, я вышел на раскаленную улицу и как-то по-новому, будто в перископ, увидел свою новую родину.
Раскаленный и душный воздух плыл над Chesthut Hill, два потока машин медленно двигались в этой сауне.
Ровно десять лет назад в Нью-Йорке, за окнами кабинета кинопродюсера Лео Алтмана, стояла такая же жара, а по стенам кабинета бродили гигантские летающие муравьи – огромные, как крокодилы, – именно такими они были изображены на афишах – крылатые муравьи-динозавры, налетевшие на Нью-Йорк, – которыми были обклеены стены кабинета. Я никогда не видел этот фильм, но слышал, что он имел кассовый успех. Правда, судя по тому, что афиши изрядно выцвели, после «Муравьев» независимая кинокомпания «Алтман продакшн, инк.» значительных успехов в кино не имела. Может быть, поэтому мистер Алтман согласился принять советского эмигранта-режиссера, у которого «есть замечательная идея для фильма». А может быть, мисс Санди Копелевич, моя ведущая в HIAS[4 - Международная еврейская организация (англ.).], была его родственницей. Не знаю. Знаю только, что тогда, летом 1979 года, у меня произошла небольшая «война» с этой мисс Копелевич. Потому что еврейская организация HIAS, получая от United Jewish Appeal[5 - «Международный еврейский призыв» (англ.).] и от американского конгресса деньги на устройство еврейских беженцев, считает себя не только опекуном, но и рабовладельцем.
– Америке не нужны режиссеры! – раздраженно сказала мне мисс Копелевич, молодая худенькая брюнетка с манерами капризной восточной принцессы. И бросила через стол рекламную страницу «Нью-Йорк таймс». – Смотрите! Здесь нет ни одного объявления про режиссеров! Видите? Америке нужны механики, токари, сантехники, чертежники и банковские кассиры. А вы даже для этой работы не годитесь! Поэтому вам придется начинать на фабрике конвертов, четыре доллара в час. Между прочим, мой дедушка тоже начинал с четырех долларов, когда приехал сюда из Германии. Только ему платили четыре доллара не за час, а за день! Вот адрес этой фабрики, запишите!
– У меня есть замечательная идея для фильма, и я хотел бы встретиться с каким-нибудь продюсером, – сказал я, покрываясь испариной от собственной настойчивости.
– Мистер Плоткин! – Мисс Копелевич откинулась в кресле, на ее лице появилась гримаса великомученицы, словно она разговаривает с дебилом. – Только в этом месяце у меня было шесть режиссеров, восемь кинооператоров, четырнадцать артистов, сорок журналистов и тридцать семь художников! Are you crazy [Вы что – сумасшедшие]? Зачем вы все сюда едете? Или вы думаете, что мы тут живем без кино, без театров, без искусства? Возьмите адрес этой фабрики – это лучшее, что я могу вам предложить!
Я встал со стула.
– Спасибо. «Нью-Йорк таймс» я могу и сам посмотреть в библиотеке.
Она презрительно фыркнула:
– Вы же не умеете читать по-английски!
– Я прочту со словарем…