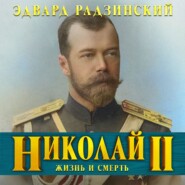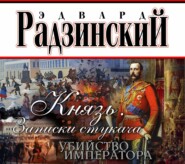По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Моя театральная жизнь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И уже в январе 30-го года Тарле был арестован. На инспирированном процессе Промпартии он фигурировал как будущий министр иностранных дел в правительстве заговорщиков… Но это была лишь «проба пера» будущих кровавых процессов Большого террора. Тарле посадили. Но сидел он всего полтора года в знаменитых «Крестах», после чего отделался высылкой. Сталин с недоверием относился к врагам Тарле – историкам-марксистам, как правило, почитателям Троцкого и прочих вождей революции. Уничтоживший их всех впоследствии, Сталин быстро вернул Тарле из ссылки. Более того, в разгар террора Тарле вернули звание академика. Сталин, смиритель нашей революции, благосклонно отнесся к его «Наполеону» – смирителю революции французской.
Теперь Тарле жил в знаменитом «Доме на набережной», большинство прежних обитателей которого лежали в бездонной могиле в Донском монастыре.
В этот дом и привел меня Зильберштейн.
Тарле шел восьмой десяток, и он был пугающе похож на Наполеона в старости. Он, конечно, это знал.
Во всяком случае, помню, он сидел под огромной гравюрой Наполеона.
Посещение меня разочаровало. Тарле как-то холодно выслушал мои восторги Наполеоном. И вообще, о Наполеоне, к моему разочарованию, в этот вечер он совсем не говорил. Вместо этого он долго и нудно рассказывал о классовых выступлениях французских рабочих в XIX веке. После чего они с Зильберштейном заговорили о письмах Герцена, выкупленных Зильберштейном за границей. Экземпляра «Наполеона» у Тарле почему-то тоже не оказалось. Вместо желанного «Наполеона» он подарил мне свою книгу «Жерминаль и Прериаль». Книга оказалась все о тех же французских рабочих и показалась мне невероятно скучной. Но главное – там не было Наполеона.
Отец выслушал с улыбкой мои разочарования и промолчал. Он не посмел мне объяснить: увенчанный славой старый академик попросту испугался. Испугался мальчишеских восторгов Наполеоном, как бы порожденных его книгой. Ведь Бонапарт был врагом России. И к тому же душителем революции. «Бонапартизм» – одно из страшных обвинений во время сталинских процессов. И старый Тарле поспешил подарить мне «правильную книгу» – о классовой борьбе французских трудящихся.
Друзьями отца были Виктор Шкловский и Сергей Эйзенштейн. У меня долго хранилось чудом уцелевшее раблезианское письмо Эйзенштейна к отцу с весьма откровенными рисунками. (Его украли из моего дома.)
Вообще, от отца осталось мало его личных вещей. Слишком много его знакомых отправились на тот свет, слишком много писем и фотографий ему пришлось уничтожить.
Отец окончил знаменитую одесскую Ришельевскую гимназию. Остались великолепные тома Шекспира и Алексея Толстого, которыми награждали лучших ришельевцев «за благонравие и отличные успехи».
И осталась фотография. На ней – шестеро гимназистов, трое из них погибли в Гражданской войне, сражаясь на стороне белых.
«История не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом»
Но один из бывших гимназистов-ришельевцев жил тогда в соседнем парадном. И часто навещал отца.
Его звали Юрий Карлович Олеша.
Я до сих пор его вижу… Он идет по весенней Москве, коренастый, в длинном, когда-то белом плаще.
И этот видавший виды грязноватый плащ почти волочится по асфальту. И шарф как-то щегольски намотан на шею. И шляпа – широкая, тоже видавшая виды, с опущенными полями. Из-под этих полей – его хищный нос, седые усы и беспощадный взгляд нашего писателя в несчастье…
Он входит в букинистический магазин. Букинист почтительно предлагает ему, видно, редкие книги. Стоя у прилавка, он листает страницы. Точнее – ласкает страницы… гладит, нежно переворачивает. А потом с какой-то яростной усмешкой возвращает книгу.
И старый букинист, понимающе покачав головой, ставит книгу на место.
У Олеши нет лишних денег. У него вообще нет денег.
Ибо он пьет.
В 20-30-х годах он гремел. Его повесть «Зависть» была не просто знаменита. Ее начало – эпатажная фраза: «По утрам он пел в клозете», – стала паролем тогдашней «крутой» интеллигенции. Но сейчас, в 50-е годы, его почти не печатают, о нем забыли, и Юрий Карлович Олеша – выпускник Ришельевской гимназии – приходит в наш дом к моему отцу, другому выпускнику той же знаменитой гимназии – поговорить.
Они разговаривают, а я стою под дверью и подслушиваю. Здесь, под дверью, я и получаю уроки Всемирной истории от Юрия Карловича. Я слушаю его бесконечный монолог.
Олеша: «Станислав, порядочный человек не может жить долго. Мы с тобой уже засиделись. Как любил говорить Ильф: «Можно уходить – нового нам здесь уже ничего не покажут…» Хотя я знаю, ты по-прежнему надеешься на мало предсказуемый бег нашей птицы-тройки. Вообще история очень печальная вещь. Шведский король Густав, почти сверстник твоего отрока, очень боялся вступить на трон, и мудрый канцлер его успокаивал. Он говорил: «Ваше Величество! Если б Вы знали, каким малым количеством мудрости управляется этот мир!»
«Тс-с-с!..» – говорит отец.
«Ты думаешь, отрок подслушивает? Это не пугает.
В последнее время мне не хватает аудитории… Так я продолжу мысль, Станислав, цитатой из стихотворения:
Я тебе расскажу о таких дураках,
Кто судьбу человечества держит в руках!
Я тебе расскажу о таких подлецах,
Кто уходит в историю в белых венцах!
Или еще лучше: «История не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом».
И он хохочет. А несчастный отец боится, что я перескажу эти стихи в школе. Он хорошо знает мою опасную память, тренированную память. Ибо каждый день он заставляет меня учить 14 строк из «Евгения Онегина».
«У Монтеня есть замечательное понятие – «бродяжничество мысли», – продолжает Олеша. – К старости выдумывать какой-то сюжет почему-то стыдно… Все, что мне приходит в голову, я попросту записываю на листочках, и они и должны составить книгу… и это интересно, потому что там нет вранья, ибо нет сюжета!».
И начинается «бродяжничество мысли». Он как-то сладострастно рассказывает, как разыграл Булгакова…
«1-е апреля, но по старому стилю, – очень удобный день для розыгрышей. Никто к ним не готов. Булгаков написал тогда письмо Сталину с просьбой его выслать или дать работу. Все ждали ужасного. Но я знал – обойдется. Потому что письмо присоветовал ему написать этот стукач… о котором, помнишь, были чьи-то вирши:
Он идет неизвестно откуда,
Он идет неизвестно куда,
Но идет он, наверно, оттуда
И идет он, конечно, туда…
И 1-го апреля, но по старому стилю, я позвонил Мише (с грузинским акцентом): «С вами будет говорить товарищ Сталин». Он тотчас узнал меня, послал к черту. И наверняка лег спать – он всегда спал после обеда. Но тут его разбудил новый телефонный звонок. В трубке сказали: «Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин». Он выматерился, бросил трубку, понял, что я не унимаюсь. Но тут же звонок последовал вновь, и раздался очень и очень строгий голос: «Не бросайте трубку, товарищ Булгаков, надеюсь, вам понятно?» И тотчас другой голос, с грузинским акцентом, начал сразу: «Что, мы вам очень надоели, товарищ Булгаков?»
«Бродяжничество мысли» продолжается:
«Ты знаешь, Станислав, мир спасет метафора. Вот я никогда не мог запомнить ни одной даты из истории, потому что как только читал дату, я ее уже забывал.
Но если все это прикрыть метафорой?.. Давай вдвоем писать Историю. К примеру: «Скифы с усами, седыми, как дым, жили в каком-то веке». Я буду писать «седыми, как дым», а ты, как не пьющий, будешь уточнять, в каком это было веке. Ты делаешь две ошибки в жизни, Станислав. Первая – ты не пьешь. И вторая – у тебя нет усов. Понимаешь, усы очень важны в нашем климате. Вот Чехов очень ценил усы, он написал: «Мужчина без усов, что женщина с усами». Но Монтень, он первый понял главное предназначение усов. Дело в том, что на усах мы приносим запахи женских поцелуев… О поцелуях читай у Боккаччо. Он писал, что, к сожалению, мужья никак не могут понять, как важно, когда их жен целует другой. Ведь от чужих поцелуев губы их жен… обновляются! Ты знаешь, Станислав, эротическая литература…»
И тут они переходят на французский! Которого я не знаю! На французский – в самом интересном месте! Перемежая французский изречениями на латыни! Которую я не знаю тоже!
Что делать, они были учениками царской, классической гимназии, а я – ученик нашей школы, которая справедливо называется «средней». Я – дитя проекта, который начался с лозунга, достойного героя «Бесов»: «Организованное понижение культуры». И придумал его интеллектуал Бухарин! И продолжился сей проект знаменитым изгнанием. По ленинскому приказу полтораста ученых – цвет общественной мысли России – были выброшены из страны. И они брели по городу Штеттину, под руку со своими женами, толкая перед собой фуры с жалким скарбом. В этой знаменитой нищей процессии шли вместе: Бердяев, Ильин, Лосский, Кизеветтер, князь Трубецкой… кого там только не было! И все это закономерно заканчивалось в 50-х правительством, во главе которого стоял недоучившийся семинарист; рядом с ним были вчерашний сапожник Каганович, вчерашний луганский слесарь Клим Ворошилов и символ интеллигентности, «русский Талейран», человек в пенсне, Молотов, едва закончивший реальное училище. Я был из страны, где необразованность стала синонимом лояльности.
Обычно конец их бесед был для меня опасен: «Дорогой Станислав! – говорил Олеша. – Не пора ли нам немного позабавиться? Призовем отрока, которому надоело ничего не понимать за дверью».
Я вхожу в комнату.
– Правда ли, ты учишь наизусть каждый день 14 строк Пушкина? Представляю, как ты должен его ненавидеть.
– Не обижай. Он разнообразен. Сейчас вместо Пушкина он учит речи Цицерона.
(В борьбе с моей необразованностью отец заставлял меня учить наизусть речи Цицерона. Речи мне понравились. И еще больше жизнь Цицерона. И уже вскоре в сочинении на тему «Кем ты собираешься стать?» я написал, что буду оратором. Изумленная учительница справедливо объяснила мне, что такой профессии у нас нет.
Она, правда, не объяснила мне, что ее нет и не будет.)
– Скажи мне, отрок, кто убил Пушкина? Только не вздумай отвечать, что это сделал Дантес! – начинает Олеша.
Он, улыбаясь, глядит на мои мучения и наконец сообщает: