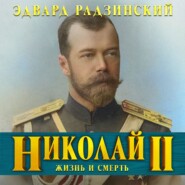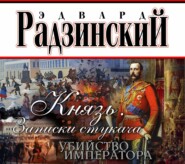По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Моя театральная жизнь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На этом спектакле Театр Ленинского комсомола (редкий тогда случай!) был полон.
«Здорово, Островский»
Я был обременен семьей, и строка: «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать», – звучала для меня очень насущно. Я очень хотел побыстрее получить деньги, которые театр должен был заплатить за пьесу.
Но в Театре Ленинского комсомола был настоящий директор. Настоящий директор отличается от просто директора тем, что платить деньги молодому драматургу он физически не может. Поэтому каждый раз, когда я подходил к нему с вопросом: «Когда?», – он весело спрашивал:
– На хлеб с маслом есть?
– Есть! – растерянно отвечал я.
– Ну, вот и хорошо, – и, поощрительно хлопнув меня по плечу, исчезал в кабинете.
Его кабинет был рядом с великолепной мраморной лестницей театра.
Здесь, у лестницы, я и караулил его. Он сбегал с лестницы, возвращаясь в кабинет после очередной репетиции. Но я не успевал раскрыть рот… Весело ударив меня по плечику, с возгласом: «Здорово, Островский!» – он стремительно исчезал в кабинете.
В следующий раз было: «Здорово, Грибоедов!» И он также исчезал в кабинете, куда мне дорогу тотчас преграждала секретарша:
– У Анатолия Андреевича важное совещание.
Я был Сухово-Кобылиным, я был Бомарше, я был даже Шекспиром… Но денег он не платил.
Однажды я не выдержал и в гневе бросился за ним, секретарша не успела меня остановить. Я влетел в кабинет, но там… никого не было!
Запомните: настоящий директор театра может все – даже исчезнуть!
Остров
Все это время мы с Вульфовичем придумывали сценарий. Я был городской человек и потому ветер странствий меня манил. Я придумал сюжет о некоем парне с какого-то далекого острова. Он приезжает завоевывать Москву. Поступает… здесь сомнений не было… поступает в легендарный Физтех (Физико-технический институт).
Оставалось найти остров. В Ленинской библиотеке я нашел в какой-то книге некий остров в Каспийском море. Там с конца XVII века жили беглые староверы. Они летом рыбачили, зимой били тюленей.
Там я решил поселить своего героя.
И мы с Вульфовичем отправились на этот остров.
И началось путешествие. Мы приехали в Махачкалу. От Махачкалы до берега Каспия вез автобус, где в невероятной духоте ехали вместе люди, птицы, животные – козы и куры, но окна нельзя было открывать – летел песок.
С островом я не ошибся – остров оказался великолепен.
Старинные дома… В домах – бронзовые складни XVIII века, старинные иконы староверов и рукописные Библии в горницах – в красном углу.
Дома стояли высоко, на насыпном фундаменте. Великолепные резные деревянные «севрюги»-флюгера ворочались под ветром. Каждый вечер бабы влезали на крыши домов – высматривать возвращавшихся с лова своих мужиков.
Когда-то море плескалось у окон домов, и прибой подходил к заборам. Но уже давно море ушло, и, чтобы теперь дойти до него, нужно было пересечь пустую, растрескавшуюся землю. И каждый раз, возвращаясь по этой земле домой, неся с собой тяжелые багры и сети, рыбаки кляли море за то, что оно ушло, за то, что оставило им никчемную землю, по которой так тяжко ступать уставшими ногами.
Я никогда не забуду бескрайнее небо над островом – «открылась бездна, звезд полна…».
На необитаемой стороне острова жил табун диких лошадей, одичавших после войны. Там жил и единственный волк. Всех волков истребили, а вот этого, одного, оставили. Волк жил в камышах и боялся людей и лошадей. Оттого пришлось ему научиться питаться рыбой. На рассвете он шел к морю, заходил по щиколотку в воду и на меляке ловил рыбу. Он бил ее лапой, выбрасывал на берег, раздирал – песок вокруг был залит холодной рыбьей кровью. И горько выл.
Здесь же стояли вытащенные на берег старые, отслужившие сейнеры. Кладбище кораблей, ржавевших на берегу… И когда мимо проходили катера – сквозь стрекотание мотора становился различим тонкий, дрожащий звук-стон. Это резонировала обшивка мертвых кораблей.
После каждой зимы кого-то из рыбаков уносило на льдине… Но море обязательно возвращало свои жертвы. Оно выбрасывало утопленников вечерним прибоем на пустынные дальние отмели. Они лежали там, под стынущим вечерним небом, вместе с досками разбитых лодок, бревнами сплавного леса и чересчур игривыми тюленями, запутавшимися в сетях. И так же белели их тела под вечерним небом, как доски, бревна и мертвые тюлени. Каждое воскресенье родственники брали в колхозе грузовик и объезжали остров по кругу, высматривая своих.
Единственным центром веселья на острове был клуб. Здесь по вечерам были танцы, и каждый танцевал то, что умел: кто польку, кто вальс, кто танго. По выходным показывали кино.
В выходные на остров порой заходила флотилия Гослова. Молодые ребята в расклешенных брюках приходили в клуб, неся на плечах подвыпивших товарищей – пусть тоже посмотрят кино… Товарищи мирно лежали у стены, и, когда в зал кто-то входил, его вежливо просили: «Не наступи!»
… Ночь на острове. Тишина. Море лежит неподвижно, и дорожка луны на воде не беспокоится, не мерцает, стынет голубым огнем…
В бухте, прямо на палубах фелюг, раскинув руки, спят приехавшие рыбаки. Жирно блестят намазанные лица – мазь от комаров, а то сожрет их ночью комар. Тяжело ступая по доскам, кто-то пробирается с фелюги на фелюгу, прочеркнула темноту брошенная сигаретка. Потом смех и приглушенный счастливый женский голос:
– У, медведь! Руки-то шершавые… как терки…
– Да, после наших рук хоть ежа за пазуху суй…
Рассвет… Бабочка слетела с рубки и ударила в лицо. Огни фелюг в море холодно догорают, а на небе отходит последняя звезда-зарница…
И там, вдали, где небо сливалось с морем, где в детстве был край его, радостно дымился неясный свет…
А за ним уже кипел пожар. Длинное облако приняло невидимые лучи, побагровело. Всюду задрожал красный отблеск… Все сдвинулось, заходило. Краски падали, умирали, обновлялись. И с непостижимой быстротой оттуда, из-за моря-океана, вставал пламенный шар. Вот уже показалось его темя, вот уже поднялся крестец. Вот уже он оторвался и пошел гулять над горизонтом. Встало солнце.
И я написал с Вульфовичем сценарий.
Там были не очень принятые по тем временам монологи. А поэтому началась обычная редакторская чистка.
Вульфович почти мальчиком ушел на фронт, прошел всю войну и остался жив. Он был бесстрашен. Он бился, ругался последними словами. Но все равно монологи погибли при цензурных исправлениях. Остались отдельные слова: «Идем вперед и рушим прежних кумиров. И все мы отдадим жизнь какой-то идее. А потом кто-то докажет, что мы ошибались. И это здорово. Наука – это вечный голод мысли».
Сценарий приняли на «Ленфильме». Впервые в жизни я получил «киношные деньги» – огромные по тем временам.
Я стоял у кассы, и кассирша говорила:
– Зачем вам, такому молодому, такие деньги?
Тогда молодые больших денег не имели.
В тот же день мы с Вульфовичем уезжали в Москву – на обсуждение принятого сценария. В Ленинграде меня поселили в дешевой гостинице далеко от вокзала. Добирался до Московского вокзала со множеством пересадок. И чуть не опоздал на поезд.
Нервно расхаживавший по перрону Вульфович был зол. Я был еще злее. На странный вопрос: «Что случилось?», – я злобно начал перечислять все виды транспорта, на которых добирался.
– А такси, чертов богач, ты взять не мог? – спросил он.
Я… забыл о существовании такси. Слишком долго они ко мне не имели никакого отношения.
Но уже вскоре я привык – и к такси, и к другой жизни.
Большие деньги
«Здорово, Островский»
Я был обременен семьей, и строка: «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать», – звучала для меня очень насущно. Я очень хотел побыстрее получить деньги, которые театр должен был заплатить за пьесу.
Но в Театре Ленинского комсомола был настоящий директор. Настоящий директор отличается от просто директора тем, что платить деньги молодому драматургу он физически не может. Поэтому каждый раз, когда я подходил к нему с вопросом: «Когда?», – он весело спрашивал:
– На хлеб с маслом есть?
– Есть! – растерянно отвечал я.
– Ну, вот и хорошо, – и, поощрительно хлопнув меня по плечу, исчезал в кабинете.
Его кабинет был рядом с великолепной мраморной лестницей театра.
Здесь, у лестницы, я и караулил его. Он сбегал с лестницы, возвращаясь в кабинет после очередной репетиции. Но я не успевал раскрыть рот… Весело ударив меня по плечику, с возгласом: «Здорово, Островский!» – он стремительно исчезал в кабинете.
В следующий раз было: «Здорово, Грибоедов!» И он также исчезал в кабинете, куда мне дорогу тотчас преграждала секретарша:
– У Анатолия Андреевича важное совещание.
Я был Сухово-Кобылиным, я был Бомарше, я был даже Шекспиром… Но денег он не платил.
Однажды я не выдержал и в гневе бросился за ним, секретарша не успела меня остановить. Я влетел в кабинет, но там… никого не было!
Запомните: настоящий директор театра может все – даже исчезнуть!
Остров
Все это время мы с Вульфовичем придумывали сценарий. Я был городской человек и потому ветер странствий меня манил. Я придумал сюжет о некоем парне с какого-то далекого острова. Он приезжает завоевывать Москву. Поступает… здесь сомнений не было… поступает в легендарный Физтех (Физико-технический институт).
Оставалось найти остров. В Ленинской библиотеке я нашел в какой-то книге некий остров в Каспийском море. Там с конца XVII века жили беглые староверы. Они летом рыбачили, зимой били тюленей.
Там я решил поселить своего героя.
И мы с Вульфовичем отправились на этот остров.
И началось путешествие. Мы приехали в Махачкалу. От Махачкалы до берега Каспия вез автобус, где в невероятной духоте ехали вместе люди, птицы, животные – козы и куры, но окна нельзя было открывать – летел песок.
С островом я не ошибся – остров оказался великолепен.
Старинные дома… В домах – бронзовые складни XVIII века, старинные иконы староверов и рукописные Библии в горницах – в красном углу.
Дома стояли высоко, на насыпном фундаменте. Великолепные резные деревянные «севрюги»-флюгера ворочались под ветром. Каждый вечер бабы влезали на крыши домов – высматривать возвращавшихся с лова своих мужиков.
Когда-то море плескалось у окон домов, и прибой подходил к заборам. Но уже давно море ушло, и, чтобы теперь дойти до него, нужно было пересечь пустую, растрескавшуюся землю. И каждый раз, возвращаясь по этой земле домой, неся с собой тяжелые багры и сети, рыбаки кляли море за то, что оно ушло, за то, что оставило им никчемную землю, по которой так тяжко ступать уставшими ногами.
Я никогда не забуду бескрайнее небо над островом – «открылась бездна, звезд полна…».
На необитаемой стороне острова жил табун диких лошадей, одичавших после войны. Там жил и единственный волк. Всех волков истребили, а вот этого, одного, оставили. Волк жил в камышах и боялся людей и лошадей. Оттого пришлось ему научиться питаться рыбой. На рассвете он шел к морю, заходил по щиколотку в воду и на меляке ловил рыбу. Он бил ее лапой, выбрасывал на берег, раздирал – песок вокруг был залит холодной рыбьей кровью. И горько выл.
Здесь же стояли вытащенные на берег старые, отслужившие сейнеры. Кладбище кораблей, ржавевших на берегу… И когда мимо проходили катера – сквозь стрекотание мотора становился различим тонкий, дрожащий звук-стон. Это резонировала обшивка мертвых кораблей.
После каждой зимы кого-то из рыбаков уносило на льдине… Но море обязательно возвращало свои жертвы. Оно выбрасывало утопленников вечерним прибоем на пустынные дальние отмели. Они лежали там, под стынущим вечерним небом, вместе с досками разбитых лодок, бревнами сплавного леса и чересчур игривыми тюленями, запутавшимися в сетях. И так же белели их тела под вечерним небом, как доски, бревна и мертвые тюлени. Каждое воскресенье родственники брали в колхозе грузовик и объезжали остров по кругу, высматривая своих.
Единственным центром веселья на острове был клуб. Здесь по вечерам были танцы, и каждый танцевал то, что умел: кто польку, кто вальс, кто танго. По выходным показывали кино.
В выходные на остров порой заходила флотилия Гослова. Молодые ребята в расклешенных брюках приходили в клуб, неся на плечах подвыпивших товарищей – пусть тоже посмотрят кино… Товарищи мирно лежали у стены, и, когда в зал кто-то входил, его вежливо просили: «Не наступи!»
… Ночь на острове. Тишина. Море лежит неподвижно, и дорожка луны на воде не беспокоится, не мерцает, стынет голубым огнем…
В бухте, прямо на палубах фелюг, раскинув руки, спят приехавшие рыбаки. Жирно блестят намазанные лица – мазь от комаров, а то сожрет их ночью комар. Тяжело ступая по доскам, кто-то пробирается с фелюги на фелюгу, прочеркнула темноту брошенная сигаретка. Потом смех и приглушенный счастливый женский голос:
– У, медведь! Руки-то шершавые… как терки…
– Да, после наших рук хоть ежа за пазуху суй…
Рассвет… Бабочка слетела с рубки и ударила в лицо. Огни фелюг в море холодно догорают, а на небе отходит последняя звезда-зарница…
И там, вдали, где небо сливалось с морем, где в детстве был край его, радостно дымился неясный свет…
А за ним уже кипел пожар. Длинное облако приняло невидимые лучи, побагровело. Всюду задрожал красный отблеск… Все сдвинулось, заходило. Краски падали, умирали, обновлялись. И с непостижимой быстротой оттуда, из-за моря-океана, вставал пламенный шар. Вот уже показалось его темя, вот уже поднялся крестец. Вот уже он оторвался и пошел гулять над горизонтом. Встало солнце.
И я написал с Вульфовичем сценарий.
Там были не очень принятые по тем временам монологи. А поэтому началась обычная редакторская чистка.
Вульфович почти мальчиком ушел на фронт, прошел всю войну и остался жив. Он был бесстрашен. Он бился, ругался последними словами. Но все равно монологи погибли при цензурных исправлениях. Остались отдельные слова: «Идем вперед и рушим прежних кумиров. И все мы отдадим жизнь какой-то идее. А потом кто-то докажет, что мы ошибались. И это здорово. Наука – это вечный голод мысли».
Сценарий приняли на «Ленфильме». Впервые в жизни я получил «киношные деньги» – огромные по тем временам.
Я стоял у кассы, и кассирша говорила:
– Зачем вам, такому молодому, такие деньги?
Тогда молодые больших денег не имели.
В тот же день мы с Вульфовичем уезжали в Москву – на обсуждение принятого сценария. В Ленинграде меня поселили в дешевой гостинице далеко от вокзала. Добирался до Московского вокзала со множеством пересадок. И чуть не опоздал на поезд.
Нервно расхаживавший по перрону Вульфович был зол. Я был еще злее. На странный вопрос: «Что случилось?», – я злобно начал перечислять все виды транспорта, на которых добирался.
– А такси, чертов богач, ты взять не мог? – спросил он.
Я… забыл о существовании такси. Слишком долго они ко мне не имели никакого отношения.
Но уже вскоре я привык – и к такси, и к другой жизни.
Большие деньги