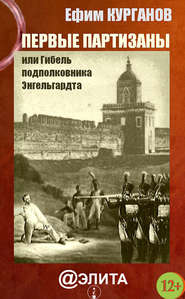По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Забытые генералы 1812 года. Книга вторая. Генерал-шпион, или Жизнь графа Витта
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но вот что особенно интересно.
Полковник о тебе открыто отзывался с большим и нескрываемым почтением, которое на всех присутствовавших произвело впечатление самой несомненной искренности. Однако это не всё.
К концу вечера Пестель подошёл вдруг ко мне, наклонился, что заставило ревнивого Олизара вздрогнуть, и шепнул мне на ушко, так чтобы никто не слышал: «Прелестная Каролина, имейте в виду: я очень рассчитываю на графа Ивана Осиповича и его кавалерийский корпус».
Я так и обомлела, милый, но виду не подала. Ясное дело, он сказал мне это для передачи самолично тебе. Вот и передаю, родной мой.
Да, как я успела увидеть, сей граф Олизар с Пестелем очень даже хороши, а он ведь (то бишь Олизар) есть член польского Патриотического общества, хоть и не из самых главных заправил. Зато граф даёт деньги на заговор, ежели только верить собственному его признанию, которое он сделал мне.
Не прихвастнул ли? Может быть, и так. Но что некоторые польские магнаты, являющиеся верноподданными российского императора, дают деньги на заговор, и немалые, сие несомненно, я думаю.
Милый, выводов не делаю – это ведь твоя прямая прерогатива. Я лишь сообщаю то, непосредственной свидетельницей или слушательницей чего вдруг – или совсем не вдруг – оказываюсь.
То, что Олизар и Пестель приятельствуют – видела и слышала собственными глазами и ушами, у себя же в салоне. Но только не думаю, что граф способен оказывать на полковника сколько-нибудь существенное влияние: Пестель слишком уж высокого мнения о себе самом, чуть ли не Бонапартом себя почитает (надо же!), и поляку, да ещё стихотворцу при этом, ни за что не поддастся.
Да что это я объясняю тебе – прости, милый! Заболталась я что-то. Ты же и сам всё это понимаешь, а Пестеля-то знаешь ещё поболе меня.
В общем, Пестель и Олизар, заговорщик русский и заговорщик польский, – явные и несомненные приятели. Сие есть факт совершенно очевидный. Имей это в виду.
Приезжай, родной мой. Я соскучилась по тебе просто ужасно, немыслимо. Хоть чуть забудь о поселениях, вспомни и обо мне, столь страждущей без тебя.
Нахожусь вся в ожидании невероятных твоих ласок и несказанной нежности твоей.
Неизменно обожающая тебя,
бесконечно преданная тебе,
верная, любящая…
И вообще твоя
К.
Февраль 1823 года
Одесса
* * *
Милый,
спешу сообщить тебе: касательно литератора Александра Пушкина волноваться ничуть не стоит На самом деле он вполне безопасен и даже может быть очень даже полезен.
Это, Слава Господу, болтун, сплетник, клеветник (ради красного словца не пожалеет буквально никого), и ещё, к совершенно особому счастью для нас, он является личностью совершенно безответственной.
Я уверена: ни в какое тайное общество его просто не возьмут. Имей в виду, родной: Пушкину глубоко не доверяют как русские, так и польские заговорщики; в особенности последние, ибо Пушкин очень настроен супротив поляков, хоть и позорно тает пред польскими женщинами (на последнем обстоятельстве я как раз и пробую сыграть).
Но самое главное вот что: заговорщики (и русские и шляхтичи) в большинстве своём неопровержимо уверены, что он способен выболтать совершенно любую тайну, что не существует тайны, которую он способен удержать. Милый, верь – это так. Так именно и думают, и говорят. Слышала уже неоднократно. И знаю, что ещё не раз услышу.
Стишки же Пушкина – хочу признаться тебе, родной – настолько же популярны, насколько его самого тут… в общем, побаиваются его язычка, не очень чистого, а точнее, довольно-таки грязноватого. Но стихи идут именно что на «ура», чистотой своей совершенно отделяясь от малоприличной личности автора.
Во всяком случае, милый, большинство посетителей моего салона каждое появление Пушкина встречают с крайней настороженностию, ожидая с его стороны какой-нибудь дурацкой выходки и боясь при этом слово лишнее сказать, что. правда, далеко не всегда удаётся им.
Должна сказать, степень исключительной ненадёжности сей личности такова, что к разговорам Пушкина стоит постоянно прислушиваться, что я и делаю – сама и ещё поручаю своей камер-фрау. Полагаю, ты помнишь её, родной. Она-то тебя точно помнит. Говорит о тебе с неизменным и даже с неутихающим восторгом.
Дело всё в том, что Пушкин является большим поклонником её, и в самом деле очаровательных попки и грудок, и по сей весьма уважительной причине поэт любит частенько с нею поболтать. Вернее говоря, ради того, чтобы та дозволила ему ущипнуть её хотя бы за одну из её пикантнейших выпуклостей, он готов, кажется, поведать буквально всё, что угодно. Ей-Богу!
Так что с одной стороны, с поэтами, действительно, очень не просто, а с другой стороны, очень даже легко, как в случае с Пушкиным.
Пестеля, например, или Олизара, или здешнего поэта Туманского, грудкой и попкой моей камер-фрау не проймёшь. А вот Пушкин на её вопрос, что он думает об моих собраниях, тут же, вожделенно взглянув на неё, ляпнул: «да это же самый настоящий великосветский бордель».
Да, камер-фрау моя (а она девица в высшей степени смышлёная, и, кроме пышных форм своих, имеет ещё ряд несомненных достоинств) очень даже сгодилась.
Но, конечно, прежде всего Пушкин представляет для нас интерес во время взбрыков своих, и особливо во время приступов бешенства, весьма частых, между прочим. Хочу сказать, милый – тут-то его как раз и надобно навострить ушки и слушать, что я и делаю, изо всех сил своих пряча брезгливость и омерзение свои как можно дальше внутрь.
Я рассчитываю, что он не догадывается об истинном моём отношении к нему, хотя, вослед Мицкевичу, продолжает кричать на каждом углу о моём жестоком кокетстве и неизбывном коварстве.
Родной, избранною мною планида относительно Пушкина остаётся совершенно прежней, ведь она показала уже свою полную результативность: страстно привлекать и одновременно как бы нерешительно, но при этом неуклонно, отталкивать.
Главное – довести его до отчаяния и терпеливо ждать взрыва, сопровождаемого обычно самыми разнообразными откровениями, иногда совсем небесполезными для нас. Чего только человек не выскажет в бешенстве своём, а особенно такой умница, как Пушкин.
Вся целиком и безоглядно твоя
К.,
нежная и тоскующая,
готовая исполнить любое желание возлюбленного жениха своего.
Январь 1824 года
Одесса
* * *
Родной мой Янек!
По совету твоему стала я привечать Мицкевича, и теперь он буквально готов проглотить меня. О, с самыми лучшими намерениями, но мне-то каково!
Смотрит на меня своими громадными печальными жидовскими глазами, навообразил себе Бог знает чего! Как же мне отделаться теперь от него? Просто ума не приложу.
Когда он рядышком, мне как-то невмоготу совсем. Боюсь, как бы не стошнило. Крещёный жид – всё равно ведь жид, и никуда от этого не деться. Но дурачок, как видно, не чует, как тяжело мне с ним, не чует, что одно только выражение его тоскующих глаз вызывает у меня удушливую волну отвращения.
Знаешь, он всё время крутится вокруг меня, глядит на меня с преклонением, и это вселяет в меня самый настоящий ужас, хотя я совсем не робкого десятка. Да и не боюсь я его вовсе – дело же не в этом.
А приставучий он – Бог ты мой! Это тоже, видать, жидовское в нём: они ведь всасываются, как клещи, и кровушку выпивают, и ещё вливают своего яду.
Веришь ли, Мицкевич постоянно уверяет меня в коварстве моём и жестокости, и кричит с остервенением, что ежели я не отдадусь ему, то он непременно ославит меня на весь свет как холодную, безжалостную кокетку.
Полковник о тебе открыто отзывался с большим и нескрываемым почтением, которое на всех присутствовавших произвело впечатление самой несомненной искренности. Однако это не всё.
К концу вечера Пестель подошёл вдруг ко мне, наклонился, что заставило ревнивого Олизара вздрогнуть, и шепнул мне на ушко, так чтобы никто не слышал: «Прелестная Каролина, имейте в виду: я очень рассчитываю на графа Ивана Осиповича и его кавалерийский корпус».
Я так и обомлела, милый, но виду не подала. Ясное дело, он сказал мне это для передачи самолично тебе. Вот и передаю, родной мой.
Да, как я успела увидеть, сей граф Олизар с Пестелем очень даже хороши, а он ведь (то бишь Олизар) есть член польского Патриотического общества, хоть и не из самых главных заправил. Зато граф даёт деньги на заговор, ежели только верить собственному его признанию, которое он сделал мне.
Не прихвастнул ли? Может быть, и так. Но что некоторые польские магнаты, являющиеся верноподданными российского императора, дают деньги на заговор, и немалые, сие несомненно, я думаю.
Милый, выводов не делаю – это ведь твоя прямая прерогатива. Я лишь сообщаю то, непосредственной свидетельницей или слушательницей чего вдруг – или совсем не вдруг – оказываюсь.
То, что Олизар и Пестель приятельствуют – видела и слышала собственными глазами и ушами, у себя же в салоне. Но только не думаю, что граф способен оказывать на полковника сколько-нибудь существенное влияние: Пестель слишком уж высокого мнения о себе самом, чуть ли не Бонапартом себя почитает (надо же!), и поляку, да ещё стихотворцу при этом, ни за что не поддастся.
Да что это я объясняю тебе – прости, милый! Заболталась я что-то. Ты же и сам всё это понимаешь, а Пестеля-то знаешь ещё поболе меня.
В общем, Пестель и Олизар, заговорщик русский и заговорщик польский, – явные и несомненные приятели. Сие есть факт совершенно очевидный. Имей это в виду.
Приезжай, родной мой. Я соскучилась по тебе просто ужасно, немыслимо. Хоть чуть забудь о поселениях, вспомни и обо мне, столь страждущей без тебя.
Нахожусь вся в ожидании невероятных твоих ласок и несказанной нежности твоей.
Неизменно обожающая тебя,
бесконечно преданная тебе,
верная, любящая…
И вообще твоя
К.
Февраль 1823 года
Одесса
* * *
Милый,
спешу сообщить тебе: касательно литератора Александра Пушкина волноваться ничуть не стоит На самом деле он вполне безопасен и даже может быть очень даже полезен.
Это, Слава Господу, болтун, сплетник, клеветник (ради красного словца не пожалеет буквально никого), и ещё, к совершенно особому счастью для нас, он является личностью совершенно безответственной.
Я уверена: ни в какое тайное общество его просто не возьмут. Имей в виду, родной: Пушкину глубоко не доверяют как русские, так и польские заговорщики; в особенности последние, ибо Пушкин очень настроен супротив поляков, хоть и позорно тает пред польскими женщинами (на последнем обстоятельстве я как раз и пробую сыграть).
Но самое главное вот что: заговорщики (и русские и шляхтичи) в большинстве своём неопровержимо уверены, что он способен выболтать совершенно любую тайну, что не существует тайны, которую он способен удержать. Милый, верь – это так. Так именно и думают, и говорят. Слышала уже неоднократно. И знаю, что ещё не раз услышу.
Стишки же Пушкина – хочу признаться тебе, родной – настолько же популярны, насколько его самого тут… в общем, побаиваются его язычка, не очень чистого, а точнее, довольно-таки грязноватого. Но стихи идут именно что на «ура», чистотой своей совершенно отделяясь от малоприличной личности автора.
Во всяком случае, милый, большинство посетителей моего салона каждое появление Пушкина встречают с крайней настороженностию, ожидая с его стороны какой-нибудь дурацкой выходки и боясь при этом слово лишнее сказать, что. правда, далеко не всегда удаётся им.
Должна сказать, степень исключительной ненадёжности сей личности такова, что к разговорам Пушкина стоит постоянно прислушиваться, что я и делаю – сама и ещё поручаю своей камер-фрау. Полагаю, ты помнишь её, родной. Она-то тебя точно помнит. Говорит о тебе с неизменным и даже с неутихающим восторгом.
Дело всё в том, что Пушкин является большим поклонником её, и в самом деле очаровательных попки и грудок, и по сей весьма уважительной причине поэт любит частенько с нею поболтать. Вернее говоря, ради того, чтобы та дозволила ему ущипнуть её хотя бы за одну из её пикантнейших выпуклостей, он готов, кажется, поведать буквально всё, что угодно. Ей-Богу!
Так что с одной стороны, с поэтами, действительно, очень не просто, а с другой стороны, очень даже легко, как в случае с Пушкиным.
Пестеля, например, или Олизара, или здешнего поэта Туманского, грудкой и попкой моей камер-фрау не проймёшь. А вот Пушкин на её вопрос, что он думает об моих собраниях, тут же, вожделенно взглянув на неё, ляпнул: «да это же самый настоящий великосветский бордель».
Да, камер-фрау моя (а она девица в высшей степени смышлёная, и, кроме пышных форм своих, имеет ещё ряд несомненных достоинств) очень даже сгодилась.
Но, конечно, прежде всего Пушкин представляет для нас интерес во время взбрыков своих, и особливо во время приступов бешенства, весьма частых, между прочим. Хочу сказать, милый – тут-то его как раз и надобно навострить ушки и слушать, что я и делаю, изо всех сил своих пряча брезгливость и омерзение свои как можно дальше внутрь.
Я рассчитываю, что он не догадывается об истинном моём отношении к нему, хотя, вослед Мицкевичу, продолжает кричать на каждом углу о моём жестоком кокетстве и неизбывном коварстве.
Родной, избранною мною планида относительно Пушкина остаётся совершенно прежней, ведь она показала уже свою полную результативность: страстно привлекать и одновременно как бы нерешительно, но при этом неуклонно, отталкивать.
Главное – довести его до отчаяния и терпеливо ждать взрыва, сопровождаемого обычно самыми разнообразными откровениями, иногда совсем небесполезными для нас. Чего только человек не выскажет в бешенстве своём, а особенно такой умница, как Пушкин.
Вся целиком и безоглядно твоя
К.,
нежная и тоскующая,
готовая исполнить любое желание возлюбленного жениха своего.
Январь 1824 года
Одесса
* * *
Родной мой Янек!
По совету твоему стала я привечать Мицкевича, и теперь он буквально готов проглотить меня. О, с самыми лучшими намерениями, но мне-то каково!
Смотрит на меня своими громадными печальными жидовскими глазами, навообразил себе Бог знает чего! Как же мне отделаться теперь от него? Просто ума не приложу.
Когда он рядышком, мне как-то невмоготу совсем. Боюсь, как бы не стошнило. Крещёный жид – всё равно ведь жид, и никуда от этого не деться. Но дурачок, как видно, не чует, как тяжело мне с ним, не чует, что одно только выражение его тоскующих глаз вызывает у меня удушливую волну отвращения.
Знаешь, он всё время крутится вокруг меня, глядит на меня с преклонением, и это вселяет в меня самый настоящий ужас, хотя я совсем не робкого десятка. Да и не боюсь я его вовсе – дело же не в этом.
А приставучий он – Бог ты мой! Это тоже, видать, жидовское в нём: они ведь всасываются, как клещи, и кровушку выпивают, и ещё вливают своего яду.
Веришь ли, Мицкевич постоянно уверяет меня в коварстве моём и жестокости, и кричит с остервенением, что ежели я не отдадусь ему, то он непременно ославит меня на весь свет как холодную, безжалостную кокетку.