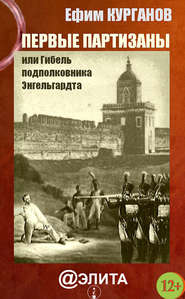По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Забытые генералы 1812 года. Книга вторая. Генерал-шпион, или Жизнь графа Витта
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Да будет мне всё же дозволено, генерал, раскрыть вам сердце по этому поводу и сказать вам, до какой степени я преисполнена страданий, не столько даже от распоряжения, которое Его Величеству угодно было в отношении меня вынести, сколько от ужасной мысли, что мои правила, мой характер, и моя любовь к моему повелителю были так жестоко судимы, так недостойно искажены.
Взываю к вам, генерал, к вам, с которым я говорила так откровенно, которому я писала так искренно, до ужасов, волновавших страну, и во время них. Благоволите окинуть взором прошлое; это уже даст возможность меня оправдать. Смею сказать, что никогда женщине не приходилось проявить больше преданности, больше рвения, больше деятельности в служении своему монарху, чем проявленные мною часто с риском погубить себя, ибо вы не можете не знать, генерал, что письмо, которое я писала вам из Одессы, было перехвачено повстанцами Подолии и вселило в сердца всех, ознакомившихся с ним, ненависть и месть против меня.
Взгляды, всегда исповедовавшиеся моей семьёй, опасность, которой подвергалась моя мать во время восстания в Киевской губернии, поведение моих братьев, узы, соединяющие меня в течение 13 лет с человеком, самые дорогие интересы которого сосредоточены вокруг интересов его государя, глубокое презрение, испытываемое мною к стране, к которой я имею несчастье принадлежать, всё, наконец, я смела думать, должно было меня поставить выше подозрений, жертвой которых я теперь оказалась.
Я не буду вам говорить о прошлом, генерал, мне нужно остановить ваше внимание на настоящем моменте.
Когда я приехала в Варшаву в прошлом году, только что был разрешён большой вопрос. Война была блестяще закончена, и якобинцы были приведены к молчанию, к бездействию. Это был перелом, счастливо начатый, но он не был завершён, он был только отсрочен (я говорю о Европе).
Полька по имени, я естественно была объектом, на который здесь возлагались надежды тех, кто, преступные по намерениям и презренные по характеру, хотели спасти себя ценой отречения от своих взглядов и предательства тех, кто их разделял. Я увидела в этом обстоятельстве нить, которая могла вывести из лабиринта, из которого ещё не было найдено выхода.
Я поговорила об этом с Виттом, который предложил мне не пренебрегать этой возможностию и использовать её, чтобы следовать по извилистым и тёмным тропинкам, образованным духом зла.
Вам известно, генерал, что у меня в мире больше нет ни имени, ни существования; жизнь моя смята, она кончена, если говорить о свете. Все интересы моей жизни связаны, значит, только с Виттом, а его интересами всегда является слава его страны и его государя. Это соображение, властвовавшее надо мною, заставило меня быть полезной ему; не значило ли это быть полезной моему государю, которого моё сердце чтит как властителя, и любит как отца, следящего за всеми нашими судьбами…
Витт вам расскажет о всех сделанных нами открытиях. В это время была решена моя поездка в Дрезден, и Витт дал мне указания, какие сведения я должна была привезти оттуда.
Всё это происходило между мною и им – мог ли он запятнать моё имя, запятнать привязанность, которую он ко мне испытывал, до того, чтобы сообщить господину Шрёдеру о поручении, которое он мне доверил. Он счёл, однако, нужным добавить в рекомендательном письме, которое он мне к нему дал, что он отвечает за мои убеждения.
Я понимаю, что господин Шрёдер, не уловив смысла этой фразы, был введён в заблуждение тем, что он видел, и, хотя я должна сказать, что есть преувеличение в том. что он утверждает, я должна ему, однако, отдать справедливость, что, не зная о наших отношениях с Виттом, он должен выполнить, как он это и сделал, долг, предписываемый ему его должностью.
Господин Шрёдер жаловался в своих депешах наместнику, что ему не удалось проникнуть в то, что от него хотели здесь узнать. Я могла, может быть, преодолеть это затруднение, и я попыталась это сделать Предполагая, что я по своему положению и по своим связям выше подозрений, я думала, что могу действовать так, как я это понимала.
Я увидела, таким образом, поляков: я принимала даже некоторых из них, внушавших мне отвращение при моём характере. Мне всё же не удалось приблизить тех, общение с которыми производило на меня впечатление слюны бешеной собаки. Я никогда не сумела побороть этого отвращения, и, сознаюсь, пренебрегала может быть важными открытиями, дабы не подвергать себя встречам с существами, которые вызывали во мне омерзение.
Витт посылал его сиятельству наместнику письма, которые я ему писала; он посылал копии с них в своих донесениях; они помогали ему делать важные разоблачения.
Моё общество составляли семья Сапега, в которую должна была вступить моя дочь, князь Любомирский и некий Красиньский. Этот последний, имевший раньше портфель министра иностранных дел, стоявший во главе польского комитета в Дрездене, находившийся в постоянных сношениях с князем Адамом Чарторыйским и всеми польскими агентами, был, конечно. ценным знакомым.
Так как он был ограничен и честолюбив, я легко могла захватить его доверие. Я узнала заговоры, которые замышлялись, тайную связь, поддерживавшуюся с Россией. Словом, мир ужасов открылся мне, и я увидела, сколь связи, которые были пущены в ход, могли оказаться мрачными.
Все эти данные были, однако, неопределёнными, так как признания были неполными; лишь врасплох удавалось мне узнавать то, что мне хотелось. Пытаясь захватить и углубить сведения, я поддавалась также потребности дать узнать и полюбить страну, которую я возлюбила, монарха, которого я чтила. Доказательством этого служит, что не было ни одного поляка, переступившего порог моего дома, который не выказал бы своего повиновения, пока я находилась в Дрездене. Наименее расположенные к раскаянию кончили тем, что признали свои заблуждения и милосердие, которое благоволило простить столь большие преступления.
Этот факт неоспорим, и господин Шрёдер не сможет отрицать его. Единственным устоявшим был Александр Потоцкий; интерес, который по многим причинам к нему проявляла, побуждал меня его часто видеть; впрочем, господин Шрёдер сам побудил меня говорить с ним и предложить ему обратиться к великодушию его величества государя.
Вот моя история, генерал, во всей достоверности. И вот я поражена в самое сердце! Я не чувствую унижения, я не жалуюсь на то, что должна уехать, страдающая душой и телом. Я падаю лишь под бременем мысли, что гнев его величества хоть на минуту остановился на той, второй религией которой на этой земле были преданность и любовь к монарху!
Я не знаю, генерал, применения, которое вы сделаете из моего письма; смею надеяться, что ваша честность и справедливость побудят вас повергнуть его содержание к стопам его величества.
Я ничего не прошу, мне нечего желать, так как, повторяю ещё раз, всё для меня на этой земле окончено. Но да будет мне, по крайней мере, дозволено просить не быть неправильно судимой там, где моё сердце выполняет дорогой и священный долг.
Не зная, в какую сторону обратить шаги мои, я начала с того, что направилась к одной из сестёр моих, в Минскую губернию. Здесь я ожидаю ответа, который вашему превосходительству будет угодно мне дать.
Смею просить его от вас, как от человека чести, человека справедливого, слишком религиозного, чтобы мне в нём отказать.
Я более чем несправедливо обвинена, и это несчастие не в первый раз со мной случается. Высказав и доказав этот факт, я думаю, что могу молить об ответе. Будет ли он хорошим или плохим, благоволите, генерал, его мне без промедления сообщить.
Вы знаете, что я порвала все связи, и что дорожу в мире лишь Виттом. Мои привязанности, моё благополучие, моё существование – всё в нём, всё зависит от него.
Если пребывание в Варшаве мне воспрещено, да побудит вас милосердие сообщить мне об этом положительно, чтобы я могла позаботиться обеспечить себе приют. Расстроенное здоровье и положение, грозящее стать неисправимым, делают это убежище необходимым.
Я вас прошу об этом ответе, генерал, во имя чести, во имя религии!
С чувством глубокого уважения, вашего превосходительства смиреннейшая и покорная слуга
Каролина Собаньская, рождённая графиня Ржевусская.
* * *
Да, граф Бенкендорф, увы, не пожелал принимать к сведению то, что я сообщила ему. А может, и попробовал раскрыть императору глаза на то, чем я в действительности занималась в Дрездене и Варшаве, но натолкнулся на истинно петербургский гранит: разумею известное всем феноменальное упрямство Николая Павловича.
Строгий, но не справедливый и не благодарный – к сожалению, вынуждена это констатировать – государь так и остался при своём мнении относительно меня.
Итак, Николая Павловича или не смогли, или не захотели, или просто не решились переубедить. И Витт, увы, не поведал Его Величеству обо всех сделанных нами открытиях касательно тайного польского движения; во всяком случае, не раскрыли степени моего действительного участия.
Утешает меня только одно: в том. что планам бунтовщиков не дано было осуществиться, есть изрядная толика и моей заслуги. Но вот Витту его неблагодарности ко мне я никак не могу простить.
Когда мы окончательно расставались, он со смехом сказал мне: «Каролина, любимая, обожаемая, ты совершенство, но у тебя есть один существенный недостаток – ты идеальный агент, а это не могло окончиться добром. Ежели бы не данное прискорбное обстоятельство, наше совместное счастие вполне было бы возможно».
Что мне оставалось делать? Я влепила графу Витту пощёчину, и ушла. Навсегда. Вскорости я соединилась брачными узами с его бывшим адъютантом Степаном Христофоровичем Чирковичем, давно и беззаветно в меня влюблённом.
Поразительно всё-таки. Ценою громадных внутренних усилий, самоотречения, столь трудно дававшейся мне актёрской игры, я положила всю себя на служение российской короне. И что же? Моя жертва не была принята и не была принята именно по легкомыслию и глупости. А ведь поляки всё не успокаивались и продолжали строить козни. Я ещё могла бы пригодиться. Обидно до слёз.
Со мною поступили не просто несправедливо, а ещё и глупо – причём, буквально во вред себе. А Витт, только для того, чтобы сохранить расположение к себе государя, отказался и от меня, и от моих услуг, хотя они вполне ещё пригодились бы и ему, и России. И Витт ведь всё это понимал, и всё же он оставил меня. Понимал, что будет хуже, но решил любою ценою сохранить расположение государя.
Позднейшая приписка, сделанная автором записок: Post Scriptum.
Что скрывать – от меня неизменно сходили с ума потрясающие мужчины (и более всего поэты, начиная от Пушкина и Мицкевича, и кончая нынешним мужем моим Жюлем Лакруа), но они, в основном, были бедны, как церковные мыши. Один лишь только граф Витт изо всех моих кавалеров был всегда при деньгах, и даже при очень больших деньгах. Жил он по-царски, не очень как будто сообразуясь с наличными средствами.
Но в отношениях своих с графом я и в самом деле, видимо, допустила определённый просчёт, неожиданный, но просчёт: слишком уж истово перевоплощалась, настолько истово, настолько безупречно, что император, маниакальный до тупости, поверил в мою игру и заподозрил меня в настоящей измене.
Но вот что поистине ужасно, что до сих пор доставляет мне неизгладимые мучения.
Витт бросил меня, хоть и знал отличнейшим образом, что измены никакой не было, что служение моё российской короне всегда было абсолютно безупречно. Бросил, ибо выше всего на свете ценил расположение государя.
Меня погубила неблагодарность моего избранника и моё природное актёрское дарование, плюс та совершенно потрясающая выучка, что прошла я в юности своей при замечательной тётушке моей Розалии Ржевусской. Иначе говоря, получилось так, что несомненные как будто достоинства принесли один лишь вред.
Признаюсь, что такой исход дела меня крайне изумил, а потом пришлось принять и смириться. Однако поделиться некоторыми соображениями по данному случаю всё же считаю, теперь, на склоне лет моих, нужным и даже необходимым.
Думаю, что ежели бы моим главным патроном был бы не Николай Павлович, а его старший брат, Александр Павлович, этого бы всего не произошло. Тот был поразительно умён, даже слишком, пожалуй, а главное, хитро-умён. И провести его было, кажется, было просто невозможно.
Но Господь, однако, судил иначе, отправив меня на служение к Николаю Павловичу, который был прямолинеен до невозможности, ограничен и ничего не понимал в каверзах, ни житейских, ни политических.
Будь он прирождённым интриганом, как его братец, судьба моя, не сомневаюсь, сложилась бы гораздо счастливее.
Сколько я знаю, Александр Павлович и ценил и жаловал интриганов, понимая, что ими-то, собственно, и делается история. Более того, он знал в интриганах толк и понимал, что по-настоящему верная, преданная служба монарху просто невозможна, ибо в сердцевине личности всегда находятся корыстные мотивы.
Именно поэтому Александра Павловича устраивали откровенные интриганы, имеющие способности или хотя бы наклонности, а не бездарности, «играющие» в верность и маскирующие свои личные интересы под личиной преданности.
Взываю к вам, генерал, к вам, с которым я говорила так откровенно, которому я писала так искренно, до ужасов, волновавших страну, и во время них. Благоволите окинуть взором прошлое; это уже даст возможность меня оправдать. Смею сказать, что никогда женщине не приходилось проявить больше преданности, больше рвения, больше деятельности в служении своему монарху, чем проявленные мною часто с риском погубить себя, ибо вы не можете не знать, генерал, что письмо, которое я писала вам из Одессы, было перехвачено повстанцами Подолии и вселило в сердца всех, ознакомившихся с ним, ненависть и месть против меня.
Взгляды, всегда исповедовавшиеся моей семьёй, опасность, которой подвергалась моя мать во время восстания в Киевской губернии, поведение моих братьев, узы, соединяющие меня в течение 13 лет с человеком, самые дорогие интересы которого сосредоточены вокруг интересов его государя, глубокое презрение, испытываемое мною к стране, к которой я имею несчастье принадлежать, всё, наконец, я смела думать, должно было меня поставить выше подозрений, жертвой которых я теперь оказалась.
Я не буду вам говорить о прошлом, генерал, мне нужно остановить ваше внимание на настоящем моменте.
Когда я приехала в Варшаву в прошлом году, только что был разрешён большой вопрос. Война была блестяще закончена, и якобинцы были приведены к молчанию, к бездействию. Это был перелом, счастливо начатый, но он не был завершён, он был только отсрочен (я говорю о Европе).
Полька по имени, я естественно была объектом, на который здесь возлагались надежды тех, кто, преступные по намерениям и презренные по характеру, хотели спасти себя ценой отречения от своих взглядов и предательства тех, кто их разделял. Я увидела в этом обстоятельстве нить, которая могла вывести из лабиринта, из которого ещё не было найдено выхода.
Я поговорила об этом с Виттом, который предложил мне не пренебрегать этой возможностию и использовать её, чтобы следовать по извилистым и тёмным тропинкам, образованным духом зла.
Вам известно, генерал, что у меня в мире больше нет ни имени, ни существования; жизнь моя смята, она кончена, если говорить о свете. Все интересы моей жизни связаны, значит, только с Виттом, а его интересами всегда является слава его страны и его государя. Это соображение, властвовавшее надо мною, заставило меня быть полезной ему; не значило ли это быть полезной моему государю, которого моё сердце чтит как властителя, и любит как отца, следящего за всеми нашими судьбами…
Витт вам расскажет о всех сделанных нами открытиях. В это время была решена моя поездка в Дрезден, и Витт дал мне указания, какие сведения я должна была привезти оттуда.
Всё это происходило между мною и им – мог ли он запятнать моё имя, запятнать привязанность, которую он ко мне испытывал, до того, чтобы сообщить господину Шрёдеру о поручении, которое он мне доверил. Он счёл, однако, нужным добавить в рекомендательном письме, которое он мне к нему дал, что он отвечает за мои убеждения.
Я понимаю, что господин Шрёдер, не уловив смысла этой фразы, был введён в заблуждение тем, что он видел, и, хотя я должна сказать, что есть преувеличение в том. что он утверждает, я должна ему, однако, отдать справедливость, что, не зная о наших отношениях с Виттом, он должен выполнить, как он это и сделал, долг, предписываемый ему его должностью.
Господин Шрёдер жаловался в своих депешах наместнику, что ему не удалось проникнуть в то, что от него хотели здесь узнать. Я могла, может быть, преодолеть это затруднение, и я попыталась это сделать Предполагая, что я по своему положению и по своим связям выше подозрений, я думала, что могу действовать так, как я это понимала.
Я увидела, таким образом, поляков: я принимала даже некоторых из них, внушавших мне отвращение при моём характере. Мне всё же не удалось приблизить тех, общение с которыми производило на меня впечатление слюны бешеной собаки. Я никогда не сумела побороть этого отвращения, и, сознаюсь, пренебрегала может быть важными открытиями, дабы не подвергать себя встречам с существами, которые вызывали во мне омерзение.
Витт посылал его сиятельству наместнику письма, которые я ему писала; он посылал копии с них в своих донесениях; они помогали ему делать важные разоблачения.
Моё общество составляли семья Сапега, в которую должна была вступить моя дочь, князь Любомирский и некий Красиньский. Этот последний, имевший раньше портфель министра иностранных дел, стоявший во главе польского комитета в Дрездене, находившийся в постоянных сношениях с князем Адамом Чарторыйским и всеми польскими агентами, был, конечно. ценным знакомым.
Так как он был ограничен и честолюбив, я легко могла захватить его доверие. Я узнала заговоры, которые замышлялись, тайную связь, поддерживавшуюся с Россией. Словом, мир ужасов открылся мне, и я увидела, сколь связи, которые были пущены в ход, могли оказаться мрачными.
Все эти данные были, однако, неопределёнными, так как признания были неполными; лишь врасплох удавалось мне узнавать то, что мне хотелось. Пытаясь захватить и углубить сведения, я поддавалась также потребности дать узнать и полюбить страну, которую я возлюбила, монарха, которого я чтила. Доказательством этого служит, что не было ни одного поляка, переступившего порог моего дома, который не выказал бы своего повиновения, пока я находилась в Дрездене. Наименее расположенные к раскаянию кончили тем, что признали свои заблуждения и милосердие, которое благоволило простить столь большие преступления.
Этот факт неоспорим, и господин Шрёдер не сможет отрицать его. Единственным устоявшим был Александр Потоцкий; интерес, который по многим причинам к нему проявляла, побуждал меня его часто видеть; впрочем, господин Шрёдер сам побудил меня говорить с ним и предложить ему обратиться к великодушию его величества государя.
Вот моя история, генерал, во всей достоверности. И вот я поражена в самое сердце! Я не чувствую унижения, я не жалуюсь на то, что должна уехать, страдающая душой и телом. Я падаю лишь под бременем мысли, что гнев его величества хоть на минуту остановился на той, второй религией которой на этой земле были преданность и любовь к монарху!
Я не знаю, генерал, применения, которое вы сделаете из моего письма; смею надеяться, что ваша честность и справедливость побудят вас повергнуть его содержание к стопам его величества.
Я ничего не прошу, мне нечего желать, так как, повторяю ещё раз, всё для меня на этой земле окончено. Но да будет мне, по крайней мере, дозволено просить не быть неправильно судимой там, где моё сердце выполняет дорогой и священный долг.
Не зная, в какую сторону обратить шаги мои, я начала с того, что направилась к одной из сестёр моих, в Минскую губернию. Здесь я ожидаю ответа, который вашему превосходительству будет угодно мне дать.
Смею просить его от вас, как от человека чести, человека справедливого, слишком религиозного, чтобы мне в нём отказать.
Я более чем несправедливо обвинена, и это несчастие не в первый раз со мной случается. Высказав и доказав этот факт, я думаю, что могу молить об ответе. Будет ли он хорошим или плохим, благоволите, генерал, его мне без промедления сообщить.
Вы знаете, что я порвала все связи, и что дорожу в мире лишь Виттом. Мои привязанности, моё благополучие, моё существование – всё в нём, всё зависит от него.
Если пребывание в Варшаве мне воспрещено, да побудит вас милосердие сообщить мне об этом положительно, чтобы я могла позаботиться обеспечить себе приют. Расстроенное здоровье и положение, грозящее стать неисправимым, делают это убежище необходимым.
Я вас прошу об этом ответе, генерал, во имя чести, во имя религии!
С чувством глубокого уважения, вашего превосходительства смиреннейшая и покорная слуга
Каролина Собаньская, рождённая графиня Ржевусская.
* * *
Да, граф Бенкендорф, увы, не пожелал принимать к сведению то, что я сообщила ему. А может, и попробовал раскрыть императору глаза на то, чем я в действительности занималась в Дрездене и Варшаве, но натолкнулся на истинно петербургский гранит: разумею известное всем феноменальное упрямство Николая Павловича.
Строгий, но не справедливый и не благодарный – к сожалению, вынуждена это констатировать – государь так и остался при своём мнении относительно меня.
Итак, Николая Павловича или не смогли, или не захотели, или просто не решились переубедить. И Витт, увы, не поведал Его Величеству обо всех сделанных нами открытиях касательно тайного польского движения; во всяком случае, не раскрыли степени моего действительного участия.
Утешает меня только одно: в том. что планам бунтовщиков не дано было осуществиться, есть изрядная толика и моей заслуги. Но вот Витту его неблагодарности ко мне я никак не могу простить.
Когда мы окончательно расставались, он со смехом сказал мне: «Каролина, любимая, обожаемая, ты совершенство, но у тебя есть один существенный недостаток – ты идеальный агент, а это не могло окончиться добром. Ежели бы не данное прискорбное обстоятельство, наше совместное счастие вполне было бы возможно».
Что мне оставалось делать? Я влепила графу Витту пощёчину, и ушла. Навсегда. Вскорости я соединилась брачными узами с его бывшим адъютантом Степаном Христофоровичем Чирковичем, давно и беззаветно в меня влюблённом.
Поразительно всё-таки. Ценою громадных внутренних усилий, самоотречения, столь трудно дававшейся мне актёрской игры, я положила всю себя на служение российской короне. И что же? Моя жертва не была принята и не была принята именно по легкомыслию и глупости. А ведь поляки всё не успокаивались и продолжали строить козни. Я ещё могла бы пригодиться. Обидно до слёз.
Со мною поступили не просто несправедливо, а ещё и глупо – причём, буквально во вред себе. А Витт, только для того, чтобы сохранить расположение к себе государя, отказался и от меня, и от моих услуг, хотя они вполне ещё пригодились бы и ему, и России. И Витт ведь всё это понимал, и всё же он оставил меня. Понимал, что будет хуже, но решил любою ценою сохранить расположение государя.
Позднейшая приписка, сделанная автором записок: Post Scriptum.
Что скрывать – от меня неизменно сходили с ума потрясающие мужчины (и более всего поэты, начиная от Пушкина и Мицкевича, и кончая нынешним мужем моим Жюлем Лакруа), но они, в основном, были бедны, как церковные мыши. Один лишь только граф Витт изо всех моих кавалеров был всегда при деньгах, и даже при очень больших деньгах. Жил он по-царски, не очень как будто сообразуясь с наличными средствами.
Но в отношениях своих с графом я и в самом деле, видимо, допустила определённый просчёт, неожиданный, но просчёт: слишком уж истово перевоплощалась, настолько истово, настолько безупречно, что император, маниакальный до тупости, поверил в мою игру и заподозрил меня в настоящей измене.
Но вот что поистине ужасно, что до сих пор доставляет мне неизгладимые мучения.
Витт бросил меня, хоть и знал отличнейшим образом, что измены никакой не было, что служение моё российской короне всегда было абсолютно безупречно. Бросил, ибо выше всего на свете ценил расположение государя.
Меня погубила неблагодарность моего избранника и моё природное актёрское дарование, плюс та совершенно потрясающая выучка, что прошла я в юности своей при замечательной тётушке моей Розалии Ржевусской. Иначе говоря, получилось так, что несомненные как будто достоинства принесли один лишь вред.
Признаюсь, что такой исход дела меня крайне изумил, а потом пришлось принять и смириться. Однако поделиться некоторыми соображениями по данному случаю всё же считаю, теперь, на склоне лет моих, нужным и даже необходимым.
Думаю, что ежели бы моим главным патроном был бы не Николай Павлович, а его старший брат, Александр Павлович, этого бы всего не произошло. Тот был поразительно умён, даже слишком, пожалуй, а главное, хитро-умён. И провести его было, кажется, было просто невозможно.
Но Господь, однако, судил иначе, отправив меня на служение к Николаю Павловичу, который был прямолинеен до невозможности, ограничен и ничего не понимал в каверзах, ни житейских, ни политических.
Будь он прирождённым интриганом, как его братец, судьба моя, не сомневаюсь, сложилась бы гораздо счастливее.
Сколько я знаю, Александр Павлович и ценил и жаловал интриганов, понимая, что ими-то, собственно, и делается история. Более того, он знал в интриганах толк и понимал, что по-настоящему верная, преданная служба монарху просто невозможна, ибо в сердцевине личности всегда находятся корыстные мотивы.
Именно поэтому Александра Павловича устраивали откровенные интриганы, имеющие способности или хотя бы наклонности, а не бездарности, «играющие» в верность и маскирующие свои личные интересы под личиной преданности.