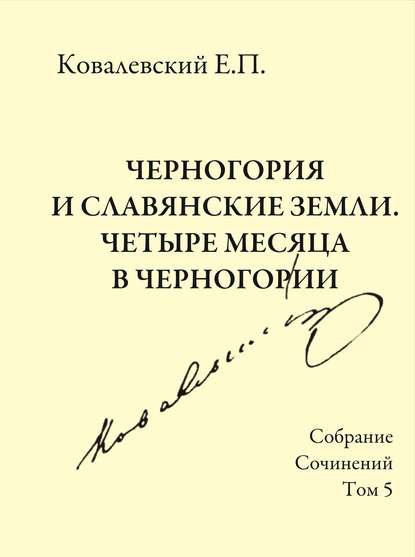По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собрание сочинений. Том 5. Черногория и славянские земли. Четыре месяца в Черногории.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да перекрести хоть лоб, окаянный! – воскликнул я, раздосадованный его невниманием, – слышишь, колокол сзывает православных людей к вечерне!
– Так.
– Теперь, когда молитва сделала тебя добрее и веселей, скажи мне, не турецкий ли то корабль?
– Есть!
– А сколько на нем пушек?
Попе, осенив рукой глаза и пристально поглядев вдаль, обратился к другим с полувопросом: то не самый большой? – и потом продолжал: – На нем четыре пушки!
– А что хочет делать этот урод? Видишь, зашевелились на нем люди!
– Дьявол! Он завидел нас и убирается назад.
– А разве нам мало пути, и мы не разъедемся на нем?
– А разве месяц идет навстречу солнцу, когда его завидит.
– Бога ми и Св. Петра, есть! – произнес другой, подкрепляя столь убедительную логику.
– Куда ж поползла эта шутиха? – спросил я, указывая на гальот самого дурного устройства.
– Думаю, в Жабляк!
– Бога ми, не! Наши пушки не допустят его далее этого места, – сказал переник.
– А где ваши пушки? – спросил я с изумлением, оглядываясь кругом и не видя ничего похожего на укрепление.
– На этой башне! – произнес он с гордостью, указывая влево. – Действительно, на небольшом утесе, составляющем остров Лисандр и заслоняющем собой вход в устье Черноевич, выглядывало из-за груды камней серенькое, круглое зданьице, – как бы назвать его, чтоб быть ближе к истине, – ну, да назовем башней; разве редко случается, что вещи называются не принадлежащими им именами. В башне было на ту пору пять человек гарнизона и две пушки, небольшие, но очень красивые и в исправном состоянии, с орлом между цапфами. Думали ли эти орлы, носясь за победоносными племенами Наполеона, свить гнездо свое, подобно обыкновенным воронам, на голом утесе Черногории. Но не такой ли утес скрыл и путевую звезду их?
Подобных башенок находится несколько в Черногории; все они расположены на границах турецких, и вполне удовлетворяют своему назначению, как сторожевые пикеты. В случае нападений, которые пограничные турки стараются делать большей частью врасплох, черногорцы запираются в этих башнях, и нередко, в числе 50 (более не может поместить каждая из них), отражают неприятельские силы, в 20 раз их превосходящие числом, пока собравшиеся однородны не подоспеют к ним на выручку. Только одна лисандровская башенка имеет пушки; другие укрепления снабжены старыми мортирами или другим нашедшимся оружием большего размера, которое, обыкновенно, после двух-трех выстрелов делается негодным; но самая лучшая для них оборона, это ружье, это грудь черногорца, которому скажите: ступай защищать эту башню, чтобы только задержать неприятеля на пути, умри, не сдаваясь, как следует «истому» черногорцу, и он не колеблясь идет на смерть.
И так, этого рода укрепление черногорцы противопоставили турецкой силе на Скутарском озере, состоявшей, прежде, из двух гальотов и двух малых судов, на которых находилось до десятка разнородных орудий, но ныне, благодаря заботливости турок, один гальот сгнил.
Мы было уже забыли о Жабляке, как вдруг, раздавшийся с его укреплений выстрел напомнил о нем: неужели это ответ на выстрелы черногорцев? В таком случае бесполезная угроза, потому что ядра не могли долетать и на полпути до нас. Впрочем, я обязан благодарностью Г. Гакиму, коменданту крепости, за этот выстрел: он навел моих спутников на весьма занимательный рассказ о взятии Жабляка 20-ю черногорцами.
Лет пять тому назад, одна из важнейших и опаснейших для черногорцев турецких крепостей, Подгорица, и соседственная с нею нахия Кучи, утомленная непрестанными неприятельскими действиями, основанными на взаимном опустошении и грабеже, заключили меду собою союз, или, по-здешнему: «хватили веру» на целый месяц. В припадке великодушия, или может быть уже храня злой умысел, подгоричане распространили влияние мира на все одушевленное и неодушевленное. Это значило, что не только овцы и женщины, но лошади и мужчины – последние с оружием и без оружия – могли свободно входить в город и посещать зависящие от него племена; словом, это был мир в обширном смысле слова. Большая часть кучан еще не были от рождения в Подгорице, несмотря на то, что некоторые жили за два ружейных выстрела от нее: мудрено ли, что все спешили воспользоваться случаем побывать в городе. Между соседями завелись связи, кумовство христиан с магометанами, столь уважаемое последними, пиры, веселье… Не долго, однако, пировали новые друзья. Черногорцы, верные своему слову, как ружью, и не думали подозревать измены; они были в Подгорице так же беззаботны, как у себя, в Кучи, и дорого заплатили за свою доверенность. Семнадцать человек из них, безоружные и беззащитные, были схвачены, зарезаны и головы их – трофеи измены – выставлены на стенах крепости. Такой постыдный поступок взволновал всю Черногорию и требовал особенного мщения. Взять Подгорицу, снабженную сильным гарнизоном и пушками, хорошо укрепленную, – взять ее с одними ружьями было нелегко, тем более, что подгоричане ожидали возмездия и были на стороже. Решили взять другую крепость – Жабляк.
Жабляк отстоит за три часа пути от Скутари, местопребывания албанского визиря, и может получать от него помощь во всякое время, сухим путем и озером. Крепость его не из значительных; она стоит на возвышении, имеет, или, правильнее, имела в то время четыре пушки и несколько военных запасов, но главнейшую оборону составляет река Морача, обвивающая ее словно поясом; укрепление господствует над окрестностью; чтобы завладеть городом, надобно было прежде сбить или захватить укрепление, но и это было сделать нелегко открытою силой, без артиллерии. Прибегли к хитрости: до 20 человек черногорцев, под предводительством Тома Давидовича и еще одного попа, в глухую ночь переплыли рукав Морачи, отделявший их от Жабляка, тайком и ползком подкрались к крепости, – и пробужденный на утро город увидел врагов над своей головой. Тщетно старались их выгнать из крепости; они держались на месте, пока не подоспели к ним собравшиеся в значительном числе черногорцы; часть из них пробилась в крепость, через город, другая – заняла сам город; каждый дом брали приступом; сражались толпами и поодиночке. Это была сеча между людьми, воспаленными взаимною враждой и мщением, растравленными жаждой крови, и не было пощады никому и ничему…
Два дня черногорцы властвовали в городе и в крепости, на третий, по приказанию Владыки, оставили их «как царскую собственность», взяв с собою пушки и все, что могли увезти или унести и предав остальное огню и мечу.
В тот же день, к вечеру, пришел в Жабляк паша с войском из Скутари; он провел здесь два дня в размышлении, потом потянулся к Подгорице, вдоль черногорской границы, высматривая место, где бы мог удобнее напасть на нее, прожил несколько времени в Подгорице, и, ни на что не решившись, возвратился наконец назад, возбудив негодование своих и насмешки черногорцев.
Взятие Жабляка было полезно для Черногории в политическом отношении: оно вселило в окрестных турецких подданных страх и уважение к Черногории и недоверчивость к своему правительству; две деревни, находившиеся по ту сторону реки Морачи, но имевшие свои земли по эту, были сожжены черногорцами; жители их должны были перейти на черногорскую сторону или лишиться своих земель. Между предстоявшею потерею с одной стороны и сомнительной защитой с другой, они присоединились к Черногории и составляют одно из ее храбрейших и вернейших племен.
Прости Скутари! Небольшой прибой воды в правой стороне указывал нам устье реки Ораховой, в которую мы и завернули, но вскоре мелководье ее заставило нас оставить лодку и продолжать путь свой берегом – опять пешком. Впрочем, на этот раз, путь не был очень труден. Река Орахова и сливающаяся с ней речка Церничка представляют равнины, сами по себе незначительные, но, сравнительно с гористым и бесплодным краем Черногории, роскошные и цветистые, на которых отрадно отдыхает взор, утомленный однообразно-сероватым цветом нагих, известковых утесов. – Мы спешили в Сотоничи, где я намеревался прожить несколько времени, для исследования нахии Цернички и сопредельной с ней нахии Речки. На пути оставили мы Вир-базар, или старый базар, место прежнего торга между турецкими подданными и черногорцами, влеве, возвышались развалины Безаса, или Беса, которые должно отнести ко временам позднейшего владычества древнего Рима. Минуя Болевичи, и уже гораздо после заката солнца, достигли Сотоничей, где нас ожидал гостеприимный поп Михаил, из рода Пламенцев.
Время протекло обычной чередой: те же труды и заботы, та же борьба с дикой природой, которой тайн допытывался я; то же отдохновение в кругу народа дикого, но вместе прекрасного в его первобытной простоте.
Особенно заняло меня исследование и разложение воды ключа «Смердеж». Химический состав ее – сернокислый натр и сернокислая магнезия; сернистый водородный газ издалека возвещает о местонахождении этого ключа и отстраняет от него все живущее.
В Сотоничах был я приглашен в первый раз на свадьбу. Обряды и пиршества, сопровождающие свадьбу, во всех славянских племенах похожи между собою, и различествуют только в частностях. – Как было, некогда, у нас, как водится еще и ныне, супружества в Черногории заключаются между родителями при помощи сватов, «сватовие»; нередко это случается еще тогда, когда дети их в самом нежном возрасте и, не ведая о предстоящем им вечном союзе, растут вместе; чаще же бывает, что жених и невеста вовсе не знают друг друга и видятся впервые под венцом. Власть мужа, как главы и защитника семейства, ненарушима: жена имеет обязанности в отношении к нему, но лишена всех прав. – Подобная жизнь, конечно, не цветет восторгами любви и вообще тем, что мы привыкли называть супружеским счастьем, за то устранена от всех семейных междоусобий, домашних тревог и бешеных наслаждений. Правда, много странного для нас представляет семейная жизнь в Черногории. В первые годы после брака, супруги всячески должны дичиться, убегать друг от друга, не смеют говорить между собою, не смеют изъявлять малейшей приязни, не только нежности, один другому: все это показало бы их взаимную любовь – чувство слабое, свойственное женщине, и следовательно постыдное для мужчины, для черногорца. В Берде не существует брачного ложа для супругов; как тать, в ночную пору, прокрадывается муж к своей жене, и стыд, и горе обоим, если кто из семейства увидит их вместе. Даже в разговорах с другими супруг никогда не назовет по имени свою жену, если необходимость заставит говорить о ней, но заменяет ее имя местоимением «она», как бы стыдясь своей связи с женщиной. Детей своих должен он чуждаться, как плод этой связи, всегда для него унизительной.
По правилам греко-российской церкви мужчины не могут вступать в супружество ранее 14, а женщины 12 лет; по достижении определенного возраста в Черногории, оба пола спешат воспользоваться своими правами в этом случае, хотя должно заметить, что здесь страсти не так быстро развиваются, как вообще в южных краях. Жена не приносит с собою приданого в дом новой семьи, и нередко она покупается как между азийскими народами. Прежде плата за жену, этот христианский калым существовал во всей Сербии и Черногории и был столь значителен, что бедные принуждены были отказываться от радостей супружеской жизни, но Георгий Черный определил законом, чтобы за жену не платили более червонца. В Черногории родители никогда не согласятся выдать замуж меньшую дочь раньше старшей, которую подобное предпочтение заклеймило бы вечным позором. Давши слово на брак дочери своей, нередко находящейся еще в колыбели, родители держат свое слово свято, несмотря на все препятствия, которые нередко встречаются впоследствии; нарушение же его влечет неизбежно вечное кровомщение.
Вступивши в комнату, где раздавался свадебный пир, мы были немедленно усажены на почетном месте, за столом, вокруг которого уже сидели все учрежденные обрядами для свадебного дела чины, а именно: старый сват, первенец, кум, воевода, баръяктар, или знаменосец и деверь. Гости были в нарядных платьях и богатых оружиях. Каждый из них приносил в дар что-нибудь, большей частью съестное, иногда живых птиц, и все принесенное располагал в порядке на столе, во всеувидение, что нередко доставляло самые смешные сцены. – Один из гостей принес петуха, связанного по ногам и крыльям, и положил его перед невестой; петух, почувствовав себя на просторе, встрепенулся и оборвал путы, потом, поднявшись на ноги, еще раз отряхнулся и громко прокричал к общему смеху присутствующих. Градом посыпались шутки и острые слова: «Видишь, какой голосистый и какой задорный, – сказал старый сват, – словно тот итальянец, что в Катаро солдат учит ходить». – «На то и выбрал из ученых, – отвечал принесший петуха. – Всю ночь простоит у изголовья молодых и не даст им задремать». – «Да где ты добыл такого?» – говорил другой. – «Выменял в Спуже за голову турка», – отвечал хозяин петуха, начинавший терять терпение от повсеместных насмешек и помахивавший своим ружьем, которого еще не успел поставить к стороне. Между тем отец жениха дарил гостей, почетнейших белыми, холстинными платками, которые называются в Малороссии хустками, а здесь «марамами», других – деньгами, не менее рубля ассигн. Гости ели и пили: целиком зажаренные бараны быстро исчезали и на их место являлись другие, для вновь приходивших. Но гораздо занимательнее сцены происходили вне дома: на площадке, выстланной и кругом обнесенной каменными плитами, устроенной для просушки хлеба, толпился народ. Тут несколько мужчин и женщин, образовав кружок, танцевали коло, танец медленный и довольно скучный; один из известных менестрелей пел старинную балладу, сопровождая напев своей однострунной балалайкой, и должно сознаться, что слушателей было гораздо более, чем зрителей. На свадьбе, в Черногории, все пирует кроме бедной невесты, которая обречена на самую страдальческую роль со времени выхода из-под отчего крова до заключения брака. В течение этого времени двое дружек, мужеского пола, не покидают ее ни на минуту: они мучители и благодетели ее; для нее припрятывают они тайком, за обедом, несколько лакомых кусков, потому что здесь почитается величайшим бесчестием для невесты, если кто увидит, что она изволит кушать; бедная не смеет сесть и, усталая, голодная, мучимая другими потребностями, она не имеет покоя даже ночью; неотлучные ее дружки разделяют с ней девичье ложе! – Этот странный обряд ведет иногда, хотя очень редко, к преступлению. Правда, дружки большей частью избираются из родственников, но с тем вместе из молодых и не женатых; правда и то, что они почитаются родными братьями невесты во все время своей службы при ней, и преступление, совершенное ими, наказывается как бы оно было сделано родными братьями; но к чему эти искушения природе человеческой, столь сильной в своих началах, столь слабой в последствиях.
Между тем, мои ученые коллекции росли и затрудняли наши переходы, а запасы для жизни материальной все более оскудевали; надо было обновить последние и отправить в Россию первые[14 - См. Справку в Приложении к настоящему тому. – Прим. ред.]. Это заставило меня идти прямо в Катаро, как не ужасала мысль вторичного перехода из Катаро в Цетин.
Глава VI
Австрийская граница
16(28) июня.
От Глухой-то начали мы подыматься вверх, и едва достигли вершин кряжа, отделяющего поморье, предстало нам, во всей величавой красе своей, беспредельное и безмятежное, море Адриатическое. – В нескольких шагах от нас, на площадке, едва имевшей около десятка квадратных саженей, возвышалось правильное, каменное здание, и перед ним училось несколько человек солдат, во всей амуниции. Какой переход! В лице вахмистра, который стоял передо мной, вытянувшись в струнку, с руками, опущенными по швам, мне представилась образованная Европа!
– Это наша земля, – шепнул мне сердарь Цернички, сурово указывая на площадку, где теснились австрийские солдаты, вдоль казармы, окруженной голыми утесами и стремнинами.
«Есть о чем жалеть», – подумал я.
– Говорил я вам, что немецкая казарма стоит на нашей земле, – возразил опять сердарь, когда мы достигли до полусклона горы, – только отсюда начинаются австрийские владения; вот и крест, что пишется во всех бумагах, где речь идет о наших границах; его иссек Черноевич, когда размежевывал свои земли с Венецианской Республикой; этот крест признала и Франция во время владычества своего в Боке, признала и Австрия рубежом Черногории, да и как не согласиться в его древности; поглядите на него: совсем расплылся на камне. – Действительно, видно было, что время давно трудится над уничтожением этого свидетеля славных дел Черноевича, но крест, глубоко иссеченный на обломке утеса, боролся с временем и еще сохранил ясно свое изображение. Я, не колеблясь, изъяснил мнение свое о старости этого креста, вовсе, однако, не касаясь вопроса, кем и для чего он был иссечен, и никак не предполагал, чтобы это ничтожное обстоятельство могло быть искажено и подать повод к каким-либо выводам со стороны местного австрийского начальства. Тем менее воображал я, чтобы эти места, столь мирные в то время, могли через несколько дней огласиться кликами брани.
Вечером достигли мы Кастель-Ластвы, и нашли здесь все довольство немецких поселян и гостеприимство славян. Кастель-Ластва раскинута вдоль моря, между садами и нивами, в местоположении очаровательном. Отвсюду веяло негой и величием адриатической природы. Вправе, на голом утесе, возвышались развалины древнего здания, без которых нет полноты итальянской картины; часть их, переходящая на твердую землю, была обработана, по обычаю немецкому, и занята казармами – нет, лазаретом: казармы австрийцев помещаются, большей частью, в новых палацах еще недавних патрициев. – Кастель-Ластва населен славянами, племени пастровичан, и принадлежит Катарскому Округу. Находясь между границами турецкой, нынешней австрийской и черногорской, пастровичане изжили век свой в битвах; они славятся храбростью в самой Черногории, и гордятся древностью своих прав и знаменитостью племени. При всей своей малочисленности, несколько раз составляли они отдельную и независимую республику. Некоторые роды сохраняют грамоты, в которых изложены их привилегии, будто бы дарованные Александром Македонским, и признанные действительными Венецианской республикой; между их древними привилегиями замечательна одна, которая дает им право, из 12 родов своих, избирать государя. Из числа новейших важны следующие: пастровичане ежегодно избирают четырех судей, двух воевод, двенадцать «властей» и шесть старшин. Все эти лица имели резиденцией островок Св. Стефана, и оттуда управляли народом. Вообще, республика Венецианская не только утвердила привилегии, которыми пользовались издревле пастровичане, по привычке или по праву, но, желая возблагодарить их за разные услуги, оказанные в битвах с турками, и, может быть, страшась их в свою очередь, она еще распространила эти привилегии, признала дворянство пастровичан во всей силе и уровняла его с дворянством победоносной и горделивой Венеции. Число пастровичан, занимающих несколько деревень, большей частью расположенных вдоль моря, простирается до 3.000. Все они православного греко-российского исповедания. Наружным видом и самой одеждой мало отличаются от черногорцев, кроме разве того, что не носят опанков и до того презирают их, что скорее станут ходить босыми, чем наденут эту обыкновенную обувь черногорцев, с которыми большей частью живут во вражде.
Пастровичане сохранили некоторые свои права и отстаивают их с упорством; а потому находятся в беспрерывной борьбе с местным австрийским правительством, усиливающимся подвести их под общий уровень с прочими подданными Империи.
В Кастель-Ластве нашел я девяностолетнего старика, слабого телом, но бодрого духом, сохранившего всю свежесть памяти и еще искру прежнего пламени страстей: любопытно было слушать его, поучаться живой истории последнего пятидесятилетия этого края и наблюдать, как вспламенялась полуутухшая искра жизни в старце, как вскипал он вновь мятежом страстей; из больного, слабого старика, становился он мужем бодрым, со сверкающими глазами и смело потрясающей рукой, которая дрожала и была холодна в начале его речи. Радован, имя старика, помнил то время, когда, явился в Черногорию Стефан Малый и, объявив себя Российским Императором, Петром III, увлек за собой народ и захватил бразды правления; кажется, даже, Радован участвовал в смелой экспедиции неустрашимого князя Юрия Владимировича Долгорукого, который, явившись в Черногорию с 20 человеками, большей частью иллирийских славян, именем Императрицы, Екатерины II, требовал от черногорцев Лже-Петра и, с горстью людей, грозил им местью из Цетинского монастыря.
– Как будто сего дня совершилось предо мной все, давно былое, – говорил старик, – а тому лет семьдесят! Теперь не так: что делалось вчера, я забываю сегодня: видно, или память моя слабеет, или дела-то теперешние таковы, что от них ни на памяти, ни на сердце ничего не остается. – Так вот, видите ль, – продолжал он, – раз, сидим мы всею семьей и ужинаем: моему отцу было тогда за семьдесят, а мне десятка полтора годов, я был старший в семье и уже давно ходил с ружьем; вот мы ужинаем, вдруг, раздался стук в двери: «Кого бы Бог принес в такую пору, – сказал мой старик, а ночь была – зги не видно, – не чета ли?» – «Нет, отец, чета не просится, а ломится в двери, – отвечал я, – а вот, посмотрю, да впущу гостей, коли они хоть незваные, да желанные». Я отворотил двери и двое незнакомых людей, не дожидая приглашения, вошли в избу. Один, по одежде, и по речи, и по складу лица, походил совсем на черногорца, другой, только одной речью, хотя не совсем для нас понятной, несколько приближался к нам; он без околичностей, стряхнул свой широкий охобень, окатив нас всех водой, и, молча, сел к огню; товарищ его повел беседу с моим отцом. Я слушал, не переводя дух, – так чудны были речи его. – «Из Анконы сюда прибыли мы в рыбачьей лодке, – говорил он, – турки и венециане сторожили нас, да проглядели, и мы пристали, беспрепятственно, у Спича, близ самой границы вашей с турками и Бокою (она была тогда под венецианами), товарищи наши еще в лодке, стерегут пожитки; но Боже сохрани, если утро застанет их в лодке, – ты понимаешь! Не станем терять времени. Ты христианин, наш по крови и по вере, дай нам проводника, или проводи сам до берега и укрой нас потом, на время, здесь». – Отец мой задумался. – «Сколько вас всех?» – спросил он. – «Человек двадцать, большей частью иллирийские славяне». – «А этот, кто?» – «Это наш начальник, русский, из знатного рода князей Долгоруких; он сердарь и воевода в своем краю». – «Русский – знаю; у них был Великий Царь, Петр I. Отец мой видел его, когда был на Руси с Владыкой Даниилом; а теперь на Руси ведь нет Царя: Царь ее, Петр III, теперь правит Черногорией».
– На Руси есть Царь Великий, Екатерина Алексеевна, – сказал другой пришелец, языком для нас понятным и гордо подымаясь с места, – и правит Она Русью, потому что Петр III волею Божьей помер. А тот, что у вас, не царь, а лжец и самозванец.
Я видел, как старик мой нахмурил брови, и думал, вот подымится буря, но отец вспомнил долг гостеприимства – и буря миновала. – «Кто бы вы ни были, – сказал он, – зачем бы сюда не пришли, я дам вам проводника и пристанище. Никто не скажет, чтобы христианин выдал своих единоверцев туркам или венецианам, а в случае нужды сумею защитить вас и от своих, – сказал он, сурово поглядывая на русского князя. – Радован, ступай с ними и не приходи без них». Мы отправились. «Славная пора, – думал я, – идти на чету», и подглядывал на турецкое село, что было невдалеке от нас и где все спало смертным сном. – До рассвета достигли мы вон той бухты; там человек с пятнадцать, притаясь и на стороже, ждали нас. Князь что-то сказал одному молодцу, который потом, был неотлучно при нем, и мы отправились назад, в горы.
Окончание экспедиции князя Долгорукого известно: он достиг одной цели своего посольства, возбудил Черногорию к общей войне с Турцией и тем отвлек лучшую часть ее войска, босняков и албанцев, от участия в войне с русскими, которая уже возгоралась в то время, но не мог выполнить другого поручения Императрицы, исторгнуть из Черногории лже-Петра. Черногорцы остались верными своей присяге.
Радован сообщил мне несколько анекдотов о Стефане Малом; вот один из них, резко очерчивающий характер черногорцев. Стефан был строг до крайности, но справедлив; черногорцы терпели его и чтили в нем Русского Царя, которому дали у себя приют и власть. – Раз он вздумал испытать честность своего народа самым странным образом: на распутье, между Цетином и Катаром, наиболее посещаемом черногорцами, положил он несколько червонцев – и золото осталось нетронутым несколько месяцев, пока он не взял его обратно.
Везде, между славянами греко-российского исповедания, находил я самое радушно гостеприимство и самое искреннее участие в моей судьбе, проявлявшееся даже в мелочах. – В Кастель-Ластве я хотел осмотреть развалины древнего здания, которое венчало дикий утес, возвышавшийся над морскою пучиной, недалеко от берега; не без труда убедил я своего хозяина сопутствовать мне: он боялся за меня, а не за себя; кое-как причалили мы к утесу, вокруг которого кипели волны, и лодка служила нам первой ступенью к цели, казавшейся вблизи еще неприступнее; утес был высок и обрывист, но мы кое-как вскарабкались на него и мое любопытство было вполне вознаграждено: древнее здание римлян, охраняемое своей неприступностью, сохранилось от влияния рук людских, и казалось самое время, которое, в этом случае, почти всегда работает за одно с человеком, пощадило его: не бойтесь, я не стану вам описывать древностей; знаю, что подобных описаний никто не читает; надо видеть эти здания, и по ним изучать историю их времен и обитателей. Спуститься с утеса было еще труднее, чем взойти на него, и я должен был прибегнуть в этом случае к средству весьма невинному, употребляемому детьми, не знающими назначения ног; желая привести в действие свои руки, как важное вспомогательное орудие, я опустился на земь… и таким образом хотел продолжать путь. – «Что вы делаете! – закричал с ужасом мой спутник, – вас видят с берега, и Бог знает, что подумают». – «А что подумают?» – «Скажут, что вы – простите, если так выражусь – что вы струсили». – Нечего делать, надобно было встать. Не без усиленного биения сердца начал я нисходить к лодке, и рад был всякому встречному терновнику, за который мог вцепиться.
Из Кастель-Ластвы в два часа достиг я Будвы, морем, оставив влеве островок Св. Стефана с крепостцой и Майну, вдали, на твердой земле. – В четыре часа времени сделал я переход из Будвы в Катаро, по прекрасной дороге, устроенной французами, которая тянется вдоль взморья, до Рагузы и далее. По этой дороге можно было бы разъезжать в экипаже, если бы во всей Боке был хотя бы один экипаж.
И в этот раз не зажился я в Катаро. Нестерпимый жар вытеснил меня отсюда, и я отправился в Цетин.
Глава VII