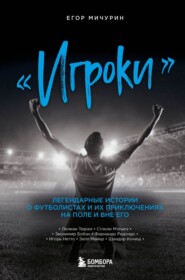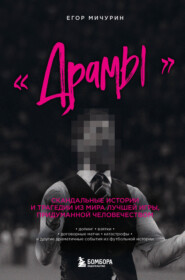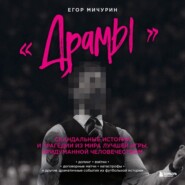По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Офальд
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Повера готовилась к Великой войне, и Телгир с огромным воодушевлением ждал ее, утверждая в многочисленных страстных монологах перед семейством Оппов и в любимом кафе, что пришла пора покончить с блоковой политикой, в результате которой великая Римнагея приковала себя к двойному трупу, Ивстаяро-Гирявенской империи, и этот неподъемный груз вскоре утащит весь начавший гнить союз на дно. В войне Офальд видел неминуемый распад соседнего государства и спасение Римнагеи от бессмысленных обязательств перед дряхлым Ивстаяром и управляющими им Грубгабсами, поборниками разлагающей римнагцев многонациональности и смешения крови. Телгир с пеной у рта доказывал, что лишь очищение огнем и мечом позволит Римнагской империи сбросить с себя оковы никому не нужного союза и ступить на чистый путь развития и величия, став главной державой Поверы и всего мира. Жертвы, неизбежные при таком повороте событий, он называл искупительными и спасительными. Слушателей обычно удивляла и забавляла горячность, с которой молодой человек высказывал свои идеи, размахивая руками и брызгая слюной. Длинная прядь темных волос намокала от пота над покатым лбом, усы воинственно топорщились, глаза горели, на бледных щеках проступали пятна лихорадочного румянца. Чета Оппов, привыкшая к подобному зрелищу, относилась к монологам Телгира, которые он нередко произносил в их гостиной, спокойно. Супруги редко спорили со своим эмоциональным жильцом, довольно часто соглашались с его тезисами, но воспринимали горячечные речи Офальда скорее, как развлечение, призванное скоротать тягучие летние вечера. Неподготовленные зрители в кафе бывало ввязывались с Телгиром в споры, однако его напор, невероятная убежденость в собственной правоте и настоящее умение опрокидывать оппонентов гигантским объемом информации, гипнотизируя их взглядом лихорадочно блестевших голубых глаз, сводили на нет все разгорающиеся дискуссии. Правда, чаще всего никто не рисковал задевать этого худощавого порывистого молодого человека, которого некоторые постоянные посетители кафе на углу улиц Слейшармяйх и Зетенире за глаза называли "психопатом" и "фанатиком" – проще было отвернуться и не слушать.
Римнагея вступила в Великую войну во второй день августа. Толпа, собравшаяся на хеннюмской площади Неслоапцод, горячо привестствовала офицера, зачитывавшего с монументальной лоджии в алиятском стиле официальное сообщение правительства страны об объявлении войны. Был там и Офальд, стоявший не в гуще толпы напротив возвышения между двумя львами, на котором стоял раскрасневшийся от крика офицер, а с правого края, у входа в церковь Нетирета, которую за два с половиной столетия до того построил предок нынешнего правителя Вабаяри Игдюлва Третьего, набожный католик, тезка убитого наследника престола по имени Дафирненд Яриме. Сейчас тысячи воодушевленных хеннюмцев, как и сотни тысяч их соплеменников по всей Римнагее приветствовали начало войны. Войны, как все они искренне верили, призванной смести с лица земли все существующие в старой Повере порядки и перекроить континент по-новому, возвеличить их тарепиормию и вознести ее на небывалые до того высоты, не снившиеся даже великому некралцу Скимарбу, собравшему разрозненные римнагские земли в единую державу четыре десятилетия назад. Офальд стоял среди этого людского моря, сорвав с головы шляпу, и кричал вместе со всеми, приветствуя каждое слово срывающего голос офицера. Он был невероятно счастлив, но смог облечь свои чувства в слова много позже, когда перед сном вышел из своей комнаты к Езфою Оппу, курившему трубку на скамеечке у дома.
– Вы знаете, сегодня великий день, – сказал осипшим от криков голосом Телгир после продолжительного молчания, когда они с квартирным хозяином долго смотрели в чистое звездное ночное небо, наслаждаясь тихим хеннюмским августовским вечером. – Не хочется огорчать вас, дорогой Езфой, но в ближайшие дни мне придется съехать из вашего чудесного дома.
Портной пристально посмотрел на молодого человека, однако ничего не сказал, и принялся разжигать потухшую трубку. После нескольких затяжек Опп спросил:
– Я так понимаю, вы собираетесь на войну, юноша?
– Да! – твердо ответил Телгир. – Весь последний месяц я только и мечтал об этом.
– Вы кажетесь очень уверенным в своем решении, однако я должен вас предостеречь. Война – это не только громкое бряцание хорошо начищенным и смазанным оружием. Война – это кровь, пот, слезы и боль, это огонь, который пожирает все живое без разбору, а в конце оказывается, что даже победители становятся проигравшими.
– Я понимаю, о чем вы, герр Опп, – нетерпеливо перебил Офальд. – Я готов ко всем лишениям и страданиям, которые могут выпасть на долю солдата, но я не могу, не имею права оставаться в стороне, когда вся Повера смотрит на начало избавления римнагской нации от нелепых союзнических оков и душащих ее народов, которым потворствуют наши грязные продавшиеся политики, а народ все еще слишком слеп, чтобы видеть, к чему могло бы привести дальнейшее погружение в эту трясину изворотливости и хитрости Грубгабсов, губящих свое государство и тянущих в болото вслед за ним и наше.
– Наше? – спросил Опп без малейшей иронии, но Телгир понял намек и вскочил на ноги.
– Я покинул Ивстаяр, в котором родился по божьей воле или прихоти, называйте как хотите, вполне осознанно, чтобы воссоединиться со своим народом и олицетворяющей его империей. Живя последний год здесь, в Хеннюме, я был несказанно счастлив, но сейчас, когда началась борьба, я должен действовать по своим убеждениям. Я не стыжусь признаться, что сегодня, услышав о вступлении Римнагеи в войну, я был в таком восторге, что упал на колени и от всего сердца возблагодарил небеса за то, что мне даровано счастье жить в такое время. Это не Ивстаяр защищает свои интересы в Бесияре, это Римнагея борется за свое существование, а римнагский народ – за свое выживание, свободу и будущее!
Езфой тоже встал и протянул Офальду руку.
– Вы настоящий патриот, юноша. Идите на войну и возвращайтесь с победой. Да пребудет с вами Бог.
* * *
На следующий день Телгир подал прошение на имя Игдюлва Третьего, короля Вабаяри, в котором, как гражданин Ивстаяра, просил позволения вступить в ряды вабаярийской армии. Ответ пришел удивительно быстро. Канцелярия кабинета министров уведомляла уроженца Анубару Офальда Телгира, что он может записаться в один из вабаярийских полков. Молодой человек выбрал 16-й резервный пехотный полк, и через две недели явился в расположение 6-го рекрутского запасного батальона. Здесь после довольно поверхностного обучения, занявшего семь недель, он дал присягу сначала королю Игдюлву Третьему, а потом и своему императору Цфарну Фиоси Грубгабсу, хоть и убеждал себя, что воевать будет не за Ивстаяр и его дряхлого правителя, и даже не за Игдюлва с его Вабаяри, а за весь римнагский народ и будущую великую поверскую державу. В 16-м пехотном полку было много студентов, и Телгир совершенно слился с ними, старательно изучая новую для него воинскую премудрость. В середине октября полк Офальда отправился на фронт.
* * *
Первое боевое крещение 16-й пехотный полк получил в двух днях похода от рифаянцского города Беур. После массированного обстрела в первый же день погиб полковник Тилс, после чего командование присвоило полку его имя. От Беура армия продвигалась вдоль границы Рифаянца и Егильяба осторожно, с частыми остановками из-за разрушенных мостов и развинченных железнодорожных путей. Несколько раз полк давал дорогу обозам и кавалерии, двигавшихся на юго-запад по направлению к линии фронта. Там шли бои с рифаянцскими и прибывшими им на подмогу ланиягскими солдатами. Перед привалами полк разделялся на роты, и каждая оборудовала себе укрытие от самолетов, но почти каждую ночь солдат поднимали по тревоге и гнали маршем вперед. Наконец, в первый день ноября после трехчасового ночного перехода 16-й полк имени Тилса вышел к позициям ланиягцев, окопавшихся в траншеях на западной оконечности огромного луга между двумя молодыми лесками. За траншеями стоял большой хутор, от которого шла широкая проселочная дорога, петлявшая между другими хуторами, сплошь занятыми неприятельскими солдатами.
Разбившись на взводы, полк Офальда засел в больших окопах, над которыми артиллерийская команда ночью врыла четыре орудия. Под свист шрапнели, срезавшей верхушки деревьев, Телгир вместе с остальными солдатами ждал команды "в атаку". Он сидел, пригнувшись, смотря прямо перед собой, с тупой покорностью ожидая, когда его пошлют на смерть, под часто стрекотавшие пулеметы ланиягцев. Страха ни у него, ни у его товарищей не было. Загрохотали орудия с обеих сторон, и передние траншеи на противоположной стороне луга заволокло дымом. Наконец офицеры дали команду "вперед!", и рассыпавшийся цепью полк бросился в атаку, не обращая внимания на свист пуль и разрывы шрапнели. Уже через несколько десятков шагов солдаты слева и справа от Офальда начали падать, пораженные неприятельским огнем, но он не замечал этого. Бежать, залечь в канаву, ползти, вскочить, бежать, залечь… Римнагцы четко выполняли команды командиров, приближаясь к траншеям. Наконец, Телгир, бежавший одним из первых не от излишней храбрости, а просто по инерции, спрыгнул с края длинной траншеи вниз, но ноги мягко спружинили, и Офальд, тело которого приготовилось было к долгому прыжку и твердому приземлению, упал, не удержав равновесие. Дно траншеи было устлано телами ланиягцев в мундирах цвета глины с темно-бордовыми пятнами в местах, куда попали осколки и пули. Несколько солдат из ребтегвюрмского полка, наступавшего правее и добравшегося до окопов раньше, деловито добивали раненых. У некоторых ланиягцев были оторваны руки и ноги, кто-то обезглавлен, а прямо у лица упавшего навзничь Офальда лежал солдат лет восемнадцати. Полуприкрытые глаза с веками в красных брызгах смотрели куда-то вниз, мундир сверху донизу пропитался кровью, а живот был распорот осколком снаряда так, что наружу вывалились внутренности. Кишечник и мочевой пузырь ланиягца опорожнились после непроизвольного сокращения мышц, от его подбитых ватой штанов и огромной раны пахло как из выгребной ямы, и Телгира вырвало прямо на эти красно-розовые петли, лохмотья кожи и темные комки внутренних органов, еще дымившихся в стылом осеннем воздухе. Он встал, пошатываясь от спазмов в желудке и утирая рот грязным после передвижения ползком по канаве рукавом, и тут же получил сильный тычок прикладом в спину, от которого упал на колени.
– Пригнись, олух! – зашипел унтер-офицер, рыжий детина с водянистыми глазами навыкате и огромным треугольным кадыком по имени Пепз. – Хочешь, чтобы тебя подстрелили как этих молодчиков?
Он кивнул на горы трупов в траншее.
– Будешь еще блевать – делай это сидя.
Пепз отвернулся и заорал, чтобы все приготовились к новой атаке: солдатам 16-го полка предстояло занять следующую линию окопов метрах в трехстах от их траншеи, над которой не прекращался настоящий железный град из пуль и шрапнели. Наконец, когда пушки римнагцев начали бить одна за другой прямо по окопам, а из них выскочили несколько десятков ланиягцев, взвод Офальда вместе с остальными вновь пошел в атаку, которая быстро превратилась в рукопашную. Тех солдат неприятеля, кто отказывался поднять руки и сдаться добровольно, римнагцы тут же приканчивали. После захвата четырех траншей, сдавшихся в плен согнали в кучу. Редит Цхе, поджарый, тонкокостный, аристократического вида майор лет сорока, руководивший атакой, внимательно осмотрел своих солдат острыми маленькими глазками, что-то прикинул, пошевелил огромными пшеничными усами и негромко сказал окружавшим его офицерам:
– Расстреляйте всех. Я не буду выделять солдат для конвоя.
Неруты быстро выстроили в каре своих лучших стрелков и через несколько минут все было кончено. Трупы римнагцы свалили в только что занятую траншею. Поредевший 16-й полк выбрался на большую дорогу и начал продвижение вперед, поминутно припадая к земле в придорожных канавах и отвечая огнем на частую стрельбу из окрестных хуторов, занятых ланиягцами. Выстрелы сливались в один бесконечный гул и римнагцы вынуждены были отступить в небольшую придорожную рощу. Майор отправил нескольких солдат за подкреплением, и в их число попал и Офальд. Они бежали, пригибаясь, к большому хутору за лугом, где оставался большой отряд ребтегвюрмгцев. По дороге Телгиру выстрелом оторвало рукав, а двух его товарищей ранило. Когда Офальд вернулся в рощицу с подкреплением, Цхе уже лежал на земле с простреленной грудью, вокруг лежало несколько десятков трупов, а уцелевшие солдаты, пригнувшись, укрывались за поваленными стволами деревьев. Офальд едва не споткнулся о тело унтер-офицера Пепза, которому осколком снаряда перебило шею и изуродовало лицо. Правый глаз Пепза вытек, порванная щека обнажила два ряда больших желтоватых зубов, на рыжих волосах запеклась кровь. На этот раз Телгиру удалось сдержать тошноту: за последние несколько часов он видел слишком много смертей, чтобы его потрясла еще одна. Офальд отвернулся от мертвого Пепза и ползком перебрался к левому краю рощицы, где командовал уцелевшими солдатами и прибывшим подкреплением невысокий тонкий молодой человек с тонкими усиками и звучным голосом, с наскоро перебинтованным плечом и глубокой царапиной на лбу.
Это был лейтенант Палито, правая рука Цхе, который взял на себя командование и повел римнагцев в атаку на хутора в обход открытого пространства, пройдя через лесок слева от дороги. Лишь после третьего штурма солдатам удалось опрокинуть неприятеля и занять первое здание. Через четыре часа измотанный 16-й полк, продвинувшись на сто метров, окопался у самой дороги и получил приказ удерживать позицию, ограничиваясь неожиданными для врага вылазками. Взвод Телгира, постоянно находившийся на линии атаки, потерял две трети состава, но общие потери полка были, по выражению Палито, "терпимыми": новоявленный командир не досчитался каждого десятого своего солдата.
Так проходила первая битва при егильябском городке Рипе, которую римнагские газеты позже назвали "Рипской резней младенцев": за первые двадцать дней здесь погибли больше сорока тысяч человек, большинство из которых были студентами. Все они попали на фронт в составе девяти только что образованных пехотных дивизий. Общие потери обеих сторон в гигантской человеческой мясорубке при Рипе доходили до 250 тысяч человек, а битва, продолжавшаяся чуть больше месяца, так и не выявила победителя. В конце ноября войска с обеих сторон окопались на занятых ими рубежах. Маневренная война стала позиционной.
Через три дня после своего первого боя перегруппировавшиеся римнагцы полка имени Тилса под командованием только что назначенного подполковника Тадрельгэнха выбили ланиягцев из окрестных хуторов и укреплений. С тех пор полк, негласно считавшийся у римнагского командования приносящим удачу, не покидал передовую. Сразу после сражения Офальда произвели в ефрейторы и назначили посыльным при штабе 16-го пехотного полка.
Глава пятнадцатая. 25 лет. Продолжение
Рип, Егильяб. Декабрь
Войдя в блиндаж, где действительно было гораздо теплее, чем в окопе, Телгир устроился на своем привычном месте в углу и открыл кожаный планшет. Вооружившись огрызком карандаша, мужчина продолжил зарисовку, начатую им накануне, и изображавшую полуразрушенную церковь, виденную им в пригороде Рипа три дня назад. Офальд уже набросал контуры здания, а сейчас перешел к деталям, тщательно прорисовывая обгоревшие балки, торчащие из рам осколки витражей и обломанный ствол дерева у входа в церковь. Остальные солдаты практически не обращали внимания на всегда нелюдимого, предпочитавшего держаться особняком художника, никогда не жаловавшегося на тяготы военной службы, не ругавшего холод, грязь, вшей, бестолковое командование и отсутствие шоколада в пайках. Телгир с удовольствием менялся с ними полагавшимся ему табаком, получая взамен запаянные жестянки с джемом, рисовал по их просьбе открытки и участвовал в оживленных разговорах о будущем Римнагеи и предполагаемом исходе Великой войны, однако большую часть времени проводил в одиночестве, сидя в своем углу, рисуя, читая или просто размышляя. Товарищи посмеивались над его страстными высказываниями в те редкие моменты, когда речь заходила о политике, но чаще всего в солдатском кругу обсуждались победы над женщинами и во всех подробностях смаковались их стати – тема, явно противная Офальду, над чем тоже не раз смеялись его однополчане. Телгир, с его большими усами с воинственно подкрученными вверх кончиками, бледным вытянутым лицом и оловянным взглядом напоминал персонажа анекдотов о тупом служаке-римнагце, особенно, когда стоял в строю, вытянувшись во фрунт, или сидел в своему углу, уставившись в стену в глубокой задумчивости. Правда, стоило Офальду заговорить, впечатление сразу менялось: он оказывался совсем неглупым, речь его была правильной, а мысли – острыми. Кроме того, никто не мог отрицать, что нелюдимый ефрейтор был едва ли не самым дисциплинированным, мужественным и хладнокровным солдатом во всей роте. Представивший его к Бронзовому стягу второго класса начальник штаба Бутеф писал в сопроводительном письме: "Он неутомим в службе, всегда готов прийти на помощь. Не было такой ситуации, чтобы он не вызвался добровольцем на самое трудное и опасное дело, демонстрируя постоянную готовность пожертвовать своей жизнью ради других и ради покоя родины. Я восхищаюсь его беспримерной любовью к родине, порядочностью и честностью во взглядах".
Закончив набросок церкви Офальд отправился спать, с удовольствием растянувшись на жесткой походной койке в тесном темном помещении за штабом, где сильно пахло табаком, ламповым маслом и сыростью.
* * *
Над старинным городом плывут редкие облака, ненадолго закрывая ласковое майское солнце. По красивым чистым улицам идут люди с открытыми, радостными, счастливыми лицами. Они одеты в праздничную одежду, некоторые из них несут флаги и плакаты, другие просто шагают, улыбаясь, с пустыми руками. Быстрая тень стального аэроплана будто гладит идущих по головам, и люди обращают лица вверх, приветственно кричат и машут гигантской птице, пролетающей над их городом. Они ускоряют шаг, и людские ручейки, текущие с разных концов города, вливаются в одно большое, живое, колышущееся море, едва касающееся кромки летного поля. Аэроплан легко приземляется, и с невысокого трапа сходит Он, оставив позади немногочисленную свиту. Люди с восторгом встречают Его криками, улыбками и приветственными жестами. Все тянутся за рукопожатиями, которые тут же получают, матери протягивают к Нему грудных детей, и забирают их, осчастливленные Его поцелуем на лбах их чад, дети постарше восторженно визжат, стараясь подставить голову, чтобы Его рука коснулась их волос. Море взволнованно дышит, подернутое рябью, но нет излишней суматохи, нет давки, и никто не пытается протиснуться к Нему без очереди: все знают, Его хватит на всех, кто Его достоин.
Наконец Он доходит до своего автомобиля, вновь поворачивается к счастливым от одного Его присутствия людям, говорит своим звучным голосом, при первых звуках которого над морем повисает тишина, несколько приветственных слов, благодарит за теплую встречу и признается в любви жителям города и всей страны. Он садится в автомобиль, и тогда над людским морем нарастает волна аплодисментов, будто миллиарды крупных капель барабанят по бескрайней поверхности воды. Его машина трогается с места, провожаемая этими овациями, и Он машет толпе из открытого окна, одарив ее последней улыбкой.
* * *
Телгиру редко снились красочные связные сны. Несмотря на вялый, кажущийся со стороны почти богемным образ жизни, который он вел последние годы, мозг Офальда был в постоянном напряжении, запоминая, сравнивая, сопоставляя, сортируя и отбрасывая за ненадобностью невероятный объем данных из газет, журналов, книг, брошюр, речей и выступлений. Молодой человек привык работать по ночам и обходиться несколькими часами отдыха, когда его сознание отключалось практически полностью, получая насущную передышку. Но на войне все изменилось. Поток информации, неизменно питавший деятельное сознание Телгира, практически иссяк, и он все чаще погружался в себя, перебирая и анализируя свой богатый интеллектуальный архив, накопленный за несколько лет и сохранившийся в целости благодаря невероятной памяти Офальда. Теперь во время привалов, ожидания команды к выступлению, передышек между штабными заданиями он кирпичик за кирпичиком выстраивал собственную концепцию мира, основываясь на богатом багаже знаний и выводов, собранных им за последние годы. Эта мозговая деятельность была менее утомительной, чем довоенная, и поэтому, несмотря на постоянную физическую усталость и частый недосып, Телгир стал видеть сны, нередко путавшиеся с реальностью, особенно когда их взвод поднимали ночью по тревоге – настолько достоверными были картины, возникавшие в мозгу спящего ефрейтора. Он с удивлением и недоверием относился к этим вывертам собственного сознания, которые тем более пугали его, что, в отличие от синематографа, который Офальд очень любил, были слишком реальными: цветными, с запахами, вкусами и, главное, звуками.
Несколько раз он даже рассказывал об этих видениях одному из немногих однополчан, с которым он поддерживал отношения, похожие на приятельские. Это был фельдфебель Камс Наман, уроженец Хеннюма на два года младше Телгира, работавший до призыва в армию в магазине отца. Круглолицый улыбчивый Камс находил общий язык со всеми однополчанами, и с удовольствием выслушивал пространные рассуждения Телгира, которому, как и в случае с Бекучиком или Лорьфудом нужна была такая отдушина, чтобы как следует выговориться. К концу декабря, когда между противоборствующими сторонами наступило Рождественское перемирие, Наман и Офальд окончательно сблизились на почве сильного неприятия этого неофициального прекращения боевых действий. Ланиягцы и римнагцы украсили окопы свечами и еловыми гирляндами и пели во все горло рождественские песни, поздравляя друг друга с праздником. На нейтральной полосе между двумя линиями траншей в районе Рипа даже произошел обмен подарками: взамен шнапса римнагцы получили виски, а ланиягцы унесли с собой колбасу, оставив неприятелю традиционный пудинг. Солдаты обменивались открытками, рисунками и даже пуговицами с мундиров. Телгир был в ярости от всего происходящего.
– Эти молодчики шпигуют вас свинцом, – раздраженно выговаривал он пирующим на Сочельник товарищам, – а вы пьете их виски, курите их табак и едите их отвратительное месиво из хлеба и сала. Мы на войне, а не на благотворительном международном балу!
– Подождите, они вскоре поздравят вас огнем из пушек и шрапнелью, – вторил Офальду Наман. – Вы братаетесь с лживыми трусливыми ублюдками!
Приятели не прикоснулись к еде, которую передали для римнагцев их враги, и ели только то, что получили в посылках к празднику: Камсу собрала множество деликатесов мать, а Телгиру небольшую продуктовую посылку отправила Аблетэзи Опп. В ответ он послал несколько собственноручно сделанных открыток для каждого из Оппов, включая детей, которым часто покупал сладости, когда жил в квартире портного в Хеннюме.
– Это черт-те что, – шипел Офальд, хмуро поедая нежно-розовую ветчину из посылки фрау Наман, – это не укладывается ни в какие рамки. Когда это война за наше отечество успела превратиться в прогулку учеников воскресной школы на лужайке? Вместо того, чтобы как можно быстрее рассчитаться с этими бандитами, чего бы это ни стоило, они меняются с ними подарками к Рождеству!
Камс Наман соглашался с ним во всем.
* * *
Старинный город просыпается на рассвете, радостно искрясь под первыми лучами солнца: Он прибыл. Горожане встречают новый день улыбками, готовясь к торжественному и волнующему событию. В этот день кафе, магазины и мастерские открываются всего на пару утренних часов: никто не хочет пропустить самого главного. Люди собираются на улицах, приветствуют друг друга, обнимаются и обмениваются улыбками. Они начинают стягиваться в городской парк, специально расчищенный от деревьев и клумб, задолго до начала великой церемонии, но ожидание никого не тяготит. Это часть великого праздника Его присутствия, когда все горожане на несколько дней становятся единомышленниками и братаются в едином порыве. Наконец, когда людское море заполняет до отказа отведенное ему пространство в виде правильных четырехугольников на огромной территории, появляется Он. Воздух дрожит, наэлектризованный невероятными эмоциями всех собравшихся. Его соратники ведут свои речи, пока Он скромно стоит позади, оглядывая гигантскую толпу, и каждый человек в этой толпе чувствует на себе это взгляд, от которого на секунду замирает сердце, и по всему телу проходит мгновенная теплая волна. После нее становится легче и слаще дышать, а глаза начинают гореть, различая даже мельчайшие черточки Его лица.
Когда Его соратники заканчивают говорить, все присутствующие уже дышат в унисон, получив свой заряд Его взгляда. Он делает два шага вперед, останавливается у края трибуны, и десятки тысяч человек замирают в тишине. Ни одно Его слово не будет пропущено. Ни один звук, вылетевший из Его рта, не останется неуслышанным. Он коротко улыбается, и толпа единовременно вздрагивает от возбуждения, как только Он начинает свою речь. На протяжении всего времени Его выступления горожане остаются в тишине. Но вот Он, тяжело дышащий, с каплями пота на лбу и усталой полуулыбкой отступает назад. Речь окончена, и в самом центре толпы начинается клокотание, мгновенно охватывающее все бескрайнее людское море, и взрывающееся овациями, будто невиданное извержение вулкана. Шум оглушает Его соратников, едва не сбивая их с ног своей силой и неожиданностью, но Он даже не покачнулся, с отеческой улыбкой глядя на гигантское скопление людей, бьющееся в истерике от обожания. Он поднимает руку вверх и удостаивается еще одной вспышки ликования. Это Его город. Это Его страна. Это Его дети.
* * *
Серое подслеповатое утро накрыло траншею пластами густого тумана, стелившегося вдоль рощи, за которой неприятель разместил артиллерийскую батарею. Промозглый холод пробирался через зимнее обмундирование, но Офальд не двигался с места, презрительно оглядывая венок из еловых ветвей, который кто-то из его товарищей украсил картинками с жестяных ланиягских спичечных коробков и повесил у входа в блиндаж. Его коробило от любого проявления доброй воли к врагу, которого следовало побеждать с оружием в руках, а не с добрыми намерениями в сердце.
– Эй, Офи! – окликнул его кто-то. – Ты чего здесь? Мы выдвигаемся через десять минут.
Телгир обернулся. К нему подходил, оскальзываясь на мерзлой утоптанной земле Ральбатаз Бандреймар, каменщик из Верхнего Вабаяри, в паре с которым они чаще всего выполняли штабные поручения. Обычно веселое лицо Ральбатаза было мрачно, высокий лоб с ранними залысинами перерезали глубокие морщины, усы печально обвисли. Он подошел к Офальду и тоже уставился на венок, но мысле его были явно далеко от этих неуклюже украшенных еловых лап.
– Скажи, Телгир, – сказал Бандреймар сипло, и закурил. – А ты любил когда-нибудь?
– Я и сейчас люблю, – спокойно ответил Офальд. – Я люблю свою родину и свой народ, за которые сражаюсь на этой войне.