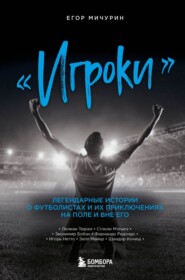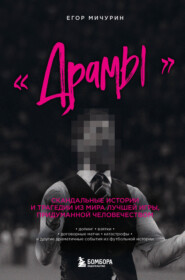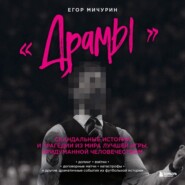По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Офальд
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
* * *
Завтра Васгуту предстояло отправиться в Инцл, где он собирался погостить у родителей до осени, а затем его ждали восьминедельные военные сборы. Повестка пришла ему прямо на Геспашемтурс, что сильно встревожило Телгира, не желавшего и думать о том, чтобы служить презираемым им Грубгабсам в ивстаярской армии. Он даже уговаривал Васгута разорвать повестку и бежать от призыва в Римнагею, но тот отверг подобный план, ставивший крест на его музыкальной карьере. Посоветовавшись с родителями, Бекучик решил, что служба – это меньшее из зол, и покорно явился на призывной пункт, пройдя медицинское освидетельствование и заполнив все необходимые бумаги. Вскоре Бекучика зачислили в резерв ивстаярской армии, куда, согласно императорскому указу двадцатилетней давности, должен был угодить и Офальд – только, будучи младше своего друга, через год. Они часто говорили об этом, и Телгир не раз повторял, что служить дряхлым импотентам Грубгабсам, защищая их грязную лоскутную империю – позор для настоящего римнагца, которым юноша себя считал с детства. После смерти матери Офальд стал более раздражительным, на него часто находили приступы неконтролируемого гнева, во время которых он мог наорать на Васгута, швырнуть в стену книгу или стопку бумаг, изо всех сил хлопнуть дверью. Однажды, разозлившись из-за шумевшей на улице компании подвыпивших ехчей, оравших какую-то песню на своем языке, Телгир сломал свою любимую трость, которую покупал еще в Инцле. Бекучик во время подобных вспышек своего друга вел себя тихо, отмалчиваясь или миролюбиво переводя разговор в другое русло. Иногда это помогало, иногда бесило Офальда еще больше.
Проведя в Нунбренше почти полдня и перекусив яблочным пирогом с кофе, Телгир отправился домой, чтобы переодеться к вечернему спектаклю в городском театре и поговорить с Васгутом о предстоящей разлуке. Накануне друзья обсудили все детали с фрау Искарц. Бекучик уезжал в Инцл, вернув арендованный рояль в магазин музыкальных инструментов на улице Есилнигеанс, но обещал аккуратно платить свою часть квартирной платы все время, что он будет в отъезде. Вернуться в Неав Васгут должен был во второй половине ноября. Сама хозяйка тоже собиралась уехать на неделю-другую к родственникам, а затем должен был настать черед Офальда, который собирался в Тишапль, с двумя целями: озвученной – навестить родственников матери, и тайной – попросить денег у тетушки Ганиноа, больной диабетом горбатой сестры Ралки, слишком любившей племянника, чтобы оставить его в беде. Фрау Искарц очень обрадовалась, что не потеряет таких идеальных со всех точек зрения жильцов: молодые люди, в отличие от многих других студентов (хозяйка считала Офальда студентом) не пили, не курили, не водили в дом девушек и выглядели очень сосредоточенными на своей учебе. Звуки рояля глуховатой фрау Искарц не мешали. Друзья тоже не собирались лишаться удобной квартиры, главным достоинством которой была ее дешевизна, а на главные недостатки – сильный запах керосина и клопов в мебели – они старались не обращать внимания.
Вернувшись домой после шести, измотанный двумя уроками подряд с туповатой уроженкой Верхнего Ялисеиза Бекучик обнаружил на редкость благодушно настроенного Офальда, сидевшего за их коченогим столом, на котором было непривычно пусто, и читавшего толстенный том с золоченым тиснением на темно-бордовой обложке. Это была одна из любимых книг Телгира, "Римнагские мифы и легенды", кропотливое исследование профессора Кояба Ребве, с великолепными иллюстрациями и пространными рассуждениями о взаимосвязи прошлого и будущего в развитии нации. Васгут снял шляпу, бережно поставил в угол футляр с альтом, на котором играл в оркестре при консерватории, и упал на ближайший стул, с удивлением глядя на столешницу, с которой пропали многочисленные эскизы, наброски, заметки и прочие бумаги, которыми Офальд захламлял комнату. Вместо этого на столе появились хлеб, масло, небрежно порезанные сыр и колбаса, несколько кусков пирога с маком, фрукты и пыльная открытая бутылка дорогого с виду вина.
– Привет, Глусть! – весело воскликнул Телгир, с шумом захлопнув книгу и бросая ее на свою кровать. – Я тебя уже заждался!
– Привет, – отозвался тот и шумно сглотнул слюну: постный гороховый суп, съеденный несколько часов назад, желудок, казалось, и не заметил. – А по какому поводу торжество?
– Глусть, ну какой ты тюфяк. Мы же завтра расстаемся на целых четыре месяца, не забыл? Это стоит отметить, да так, чтобы было, о чем вспомнить! А потом мы напьемся, ты мне сыграешь, я тебе прочту Илшерла, – это наша ночь, Глусть!
Васгут ничего не понимал. Телгир при нем никогда не оживлялся при виде еды, или, тем более, выпивки. Его могли раззадорить разговоры о политике, судьбе Ивстаяра и Римнагеи, неавской архитектуре, опере Ренгава, картине Нофталя или книге Мрига, но чревоугодие в число тем, волнующих Офальда, никогда не входило. Голод быстро взял верх над удивлением, и Бекучик набросился на хлеб с колбасой.
– Проголодался? – хитро прищурился Телгир. – Ешь, ешь, у меня еще есть.
– Откуда? – проговорил Васгут с набитым ртом. – Ты же вроде на мели?
– Да вот, разжился тут кое-какими деньгами, – неопределенно ответил Офальд. – К черту их, это все неважно.
Он разлил вино по стаканам, и друзья чокнулись.
– Давай выпьем за нашу будущую встречу, – предложил Васгут, с удовольствием глядя на очередной бутерброд, ждавший его на тарелке. – Я почти уверен, что мне удастся получить ангаженемент в Неавском симфоническом оркестре на будущий год, так что с деньгами у нас все будет хорошо.
Офальд не ответил. Он задумчиво смотрел на рубиновую жидкость в своем стакане. Слабый луч света керосиновой лампы – в их комнате было полутемно даже днем – проходя через вино бросал на бледное, немного вытянутое лицо Телгира тень цвета крови, отчего он казался персонажем античной трагедии. В неавских театрах на театральные фонари накидывали пурпурную ткань в сценах смерти, окрашивая сцену в цвета, подобный тому, что лежал сейчас на лице Офальда, смотревшего невидящими глазами сквозь вино.
– Эй, ты меня слышишь? – тихо позвал Васгут. Его друг встрепенулся, заморгал и залпом осушил свой стакан.
– Конечно слышу, Глусть. Мы пьем за нашу встречу в ноябре, ведь так? Давай-ка, пей, и не забывай закусывать, а не то уснешь прямо за столом, слабак!
Утром полусонные Офальд и Васгут распрощались на платформе вокзала Станвохбеф, пообещав друг другу писать если не часто, то обстоятельно. Бекучик запрыгнул в вагон и в последний раз оглянулся на прямую спину Телгира, пробиравшегося через толпу.
Он видел своего друга в последний раз.
Глава девятая. 19 лет. Продолжение
Неав, Ивстаяр. Июль – октябрь
Через две недели с этого же вокзала Офальд отправился в Тишапль, на встречу с тетушкой Ганиноа, которая привыкла проводить лето у самой зажиточной из трех сестер Льепцль – Зиеряте, в замужестве Дшимт. В переписке с тишапльскими родственниками Телгир осторожно выяснил, что ни Леагна, ни Улапа в гости к ним не собираются – и только после этого отправился в кассу за билетами. Отношения с сестрами у Офальда окончательно испортились. Леагна еще до его отъезда в Неав потребовала, чтобы юноша нашел себе в столице работу и отказался от причитавшейся ему части сиротской пенсии в пользу Улапы. Работать Телгир не собирался, рассчитывая, что денег ему хватит до поступления в неавскую академию, а там уже выручит стипендия (около 800 крон в год). После обмена несколькими гневными письмами общение с инцлскими родственниками прекратилось окончательно. Тетя Ганиноа, жившая вместе с Леагной, продолжала жалеть племянника и заняла его сторону в этом конфликте, но чета Аурьлаб и даже Улапа больше не написали ему ни строчки. Телгир не слишком переживал по этому поводу.
Пока поезд с умеренной скоростью нес молодого человека на северо-запад, он изучал политическую брошюру, которую Офальду в вокзальной суете сунул прямо в руку какой-то немолодой неавец, с клочковатой бородой, светлыми прищуренными глазами и в пиджаке с сильно истрепавшимися обшлагами. Он что-то бормотал себе под нос, подчеркнуто вежливо раскланивался с римнаггцами, не обращал внимания на ехчей и пьялошцев, с преувеличенным презрением шарахался от йеревов. Двое полицейских, призванных следить за порядком, лениво посматривали в сторону этого маленького винтика в огромной машине пропаганды партии бургомистра Неава, Ларка Рэюгела. Общенациональные выборы в неавский парламент должны были состояться только в феврале, но подготовка к ним (как и к торжествам по поводу очередного юбилея стареющего императора), началась еще в мае. Ивстаярская столица, несмотря на весь свой космополитизм и всеобщее признание истинным центром искусств Поверы, была чрезвычайно политизированным городом. Демонстрации, стачки, публичные речи лидеров разного калибра, стихийные митинги и прочие приметы неспокойного времени для многонациональной империи, чуть ли не ежедневно сотрясали Неав. Телгир живо интересовался политикой и с большим интересом читал газеты, изучал воззвания, слушал речи и быстро составил свое мнение обо всем происходящем в Ивстаяре.
Брошюра, попавшая к нему в руки, была сборником высказываний известных членов популярной в стране Католико-Социалистической партии, широко представленной в парламенте. Офальду нравились некоторые идеи католик-социалистов и их лидера Рэюгела: они отлично умели вести за собой народ, объединив крестьян, ремесленников, рабочих, и выступали за тотальную национализацию и решение с ее помощью множества экономических проблем. Они искренне верили, что процветанию Ивстаяра мешает засилие мирового капитализма, яркими представителями которого, по их мнению, были йеревы, сосредоточившие в своих руках огромные деньги и угнетавшие чуть ли не все слои населения. Они боролись против "продажных и подкупных либералов" и открыто поддерживали создание профсоюзов для ремесленников и рабочих. Сам бургомистр в одной из своих речей призвал посадить всех неавских йеревов на корабль, вывезти в открытое море и утопить, после чего сторонники вынесли его из зала на руках. Однако, на вкус молодого человека, Рэюгелу не хватало радикального взвешенного подхода к сложностям, возникающим из-за многонациональности империи, политик был против объединения Ивстаяра и Римнагеи, чего искренне желал Офальд, да и религия, в качестве объединяющего фактора, не слишком привлекала Телгира.
Ему были ближе идеи панримнагцев, крошечной партии, идеологом которой был Рогег Ершнере, политический наставник Рэюгела, от которого, впрочем, будущий бургомистр быстро отмежевался. Эти люди с крайне радикальными взглядами пошли еще дальше в антийеревской риторике, заявляя, что "свинство в природе этой расы" и предлагая запретить йеревскую иммиграцию в Ивстаяр, установить особые законы для йеревов, уже проживающих в империи и назвав идею антийеревства главной опорой национальной идеи. Сторонников йеревов предлагалось считать предателями народа и дезертирами римнагской нации. Почитатели Ершнере ратовали за введение в Ивстаярско-Гирявенской империи единого государственного римнагского языка, с понижением статуса прочих языков до "местных диалектов", презрительно относились к религии, считая ее инструментом для оболванивания народа и пропагандировали культ древнеримнагских богов, считая свою нацию прямыми их потомками. Высшей целью партии было объединение Римнагеи и Ивстаяра в единую римнагскую державу. Сам Ершнере обожал великого композитора Ренгава, которым восхищался Телгир, и неоднократно подчеркивал, что римнагское искусство должно "объединиться против искажения и обйеревывания". Но именно радикализм панримнагцев привел к тому, что партия захирела, и была вынуждена влиться с еще несколькими объединениями в Велико-римнагскую народную партию. Офальд чувствовал, что, если бы Ершнере был более настойчив, гибок, уделял больше времени строительству мощного партийного аппарата и воинственной антийеревской пропаганде (к примеру, одним из громких лозунгов Рогера был "через чистоту – к единству" – чем не идеология?), его идеи нашли бы больший отклик в массах.
Юноша считал, что Римнагская империя, соседствовавшая с Ивстаяром, совершает огромную ошибку, поддерживая и сохраняя власть Грубгабсов в непрочно сшитом многонациональном государстве. С его точки зрения Римнагее давно стоило принять в свой состав все десять миллионов ивстаярских римнагцев и навсегда очистить эту нацию от прочих, слишком тесно сплетавшихся с ней в дряхлеющей империи Грубгабсов. Союз Римнагеи и Ивстаяра по мнению Офальда был искусственным, неживым и насквозь фальшивым, таким же, как блеск неестественно белых зубов между раздвинутых в улыбке губ императора Цфарна Фиоси, когда он два раза в день проезжал по неавской улице Фаельхириарм, утром направляясь из Нунбренша в город по государственным делам, а вечером возвращаясь обратно. Телгир не понимал, как римнагцы в обеих империях не осознают истинного положения вещей и считал их слепыми воронами, не замечающими, что ветка, на которой они так уютно устроились, насквозь прогнила и вскоре сломается.
Таким образом, идеальным с точки зрения молодого человека политическим объединением была бы партия, соединявшая идеи Ершнере и Рэюгела. Но первый уже фактически отошел от политики, а второй, несмотря на большую популярность, был не готов к радикальной расовой революции в Ивстаяре. Офальд зашелестел дешевой желтоватой бумагой, на которой католик-социалисты печатали высказывания своих лидеров и поморщился. Эта крестьянская партия просто не уважает своих лучших людей. Пробежав глазами парламентскую речь Ригенха Ори, активно критиковавшего правительство за отсутствие внятных реформ, Телгир покивал. Он понимал популярность подобной риторики. В конце речи Ори обрушился на "систему привилегий для славянских народов и дискриминацию римнагцев": "Никогда раньше права римнагцев в том, что касается допуска на государственную службу и продвижения по служебной лестнице, не ущемлялись настолько сильно в пользу славян, и никогда еще требование римнагского народа вести в римнагских областях делопроизводство только на римнагском и допускать к рассмотрению дел в суде только римнагских судей не отодвигали в сторону так презрительно и непристойно". Офальд, задумавшись, рассеянно посмотрел в окно. Ори был в чем-то прав: правительство Ивстаяра крайне (чересчур, по мнению многих) щепетильно относилось к национальному вопросу. К примеру, одной из претензий партии Рэюгела был закон о назначении на государственные посты в областях, где проживали ехчи, только представителей ехчской национальности. Более того, соискатели должны были в совершенстве знать их квохчущий язык, и даже сдавали специальный экзамен. Получается, что раз подобные меры не принимаются в римнагских областях тарепиормии, налицо явная дискриминация римнагцев, у которых уж точно должно быть побольше прав, чем у каких-то ехчей! Телгир прочел окончание речи: "Нашим героям войн и в страшном сне не могло присниться, что оплот свободы, в борьбе за который они проводили годы в застенках, проливали кровь, рисковали жизнью и свободой, окажется таким слабым и чахлым, каким он стал сегодня. Ивстаяру угрожает абсолютное главенство васлянов, а римнагцы будут играть роль рабов, платящих налоги". Высказывания перемежались цитатами из Писания, внизу на каждой странице брошюры петитом было отпечатано: "Вы не прочтете этого в неавской йеревской прессе!"
Квартирка Офальда и Бекучика на Геспашемтурс располагалась совсем рядом с типографией панримнагской газеты "Лойчадесь Благтабт", выходившей небольшим тиражом и существовавшей благодаря скудной партийной кассе и пожертвованиям сочувствующих. Здесь печатали без сокращений речи политиков, давали рецензии на новые оперы и спектакли, публиковали многочисленные карикатуры, была и литературная страничка. Офальд как-то даже отнес в газету свою новеллу, посвященную древнеримнагскому мифу о спасении красавицы принцессы могучим рыцарем, но ее забраковали. Заголовки газеты не отличались изобретательностью: "Наглость йеревов", "Зачем нам ехчское будущее", "Прислужники славян". Подобные заметки были написаны хлестким развязным языком, от которого коробило даже разделявшего взгляды редакции Телгира. Год назад бывший директор неавской оперы йерев Релам, ставивший оперы с Лерролом, которому Офальд когда-то показывал свои рисунки, перебрался за океан, в Маарике. Новый директор, панримнагец Нарвейтнерг, тут же уволил многих протеже Релама, следил за тем, чтобы йеревы не получали ангажемента и сократил прежние постановки Леррола, из-за чего прямо во время спектаклей случались скандалы. Так, например, "Лойчадесь Благтабт" описывала столкновение йеревов, недовольных сокращением партитуры одной из опер Ренгава, с римнагскими студентами: "Кривоносые судари, славные дурачки (тупицы), премиленько украшенные черной шерстью, решили, что могут устроить шумную демонстрацию. Но эти чертовы отродья просчитались: едва они раскрыли пасть и начали рычать, как тут же схлопотали пару смачных оплеух от питомцев муз, телесные силы которых весьма развиты благодаря занятиям фехтованием. За несколько минут бравые студенты разукрасили все йеревские лица и выкинули за дверь прилагающиеся к ним кости; все прошло так гладко, что даже дирижер Бехкер ничего не заподозрил и принял удары распаленных гневом студентов по непочтенным йеревским лицам за аплодисменты толпы, восхищенной гением Ренгава".
Подобная разухабистость претила Телгиру, однако он с большим вниманием изучал всю печатную продукцию, выходящую из немногочисленных панримнагских типографий, и кое-что даже конспектировал, используя потом в своих пространных рассуждениях, когда ночами напролет втолковывал бессловесному Бекучику, как стоит изменить Ивстаяр и Неав, чтобы жизнь простого народа переменилась к лучшему.
Поезд замедлил ход и Офальд встал, подхватив саквояж и оставив брошюру валяться на грязном полу вагона, куда она соскользнула, пока юноша пребывал в глубокой задумчивости. Он вышел из поезда, прошел через широкое низкое здание вокзала, оказался на крошечной площади, обрамленной маленькими одноэтажными домами, и осмотрелся. Из ближайшего кафе одуряюще сильно пахло кофе и свежими булочками. От вокзала небольшого городка Гнюдм юноше предстояло прошагать по проселочным дорогам не меньше двадцати километров до Тишапля: последние деньги ушли на оплату комнаты и билета на поезд, и Телгир ничего не ел со вчерашнего дня, если не считать засохшей корки хлеба, которую он обнаружил утром в буфете. Оставалось лишь надеяться, что, как это уже не раз бывало, его подвезет какой-нибудь крестьянин на своей телеге, запряженной волами. Офальд вздохнул, перехватил поудобнее ручку потертого саквояжа (пара смен белья, два костюма, альбом для этюдов, несколько книг), с тоской взглянул на кофейню и решительно зашагал по узкой улочке на юго-запад.
Крестьянин, неспешно двигавшийся в нужном направлении, встретился ему только через два часа.
* * *
Хмурым сентябрьским утром Офальд Телгир вновь стоял перед знакомым монументальным зданием на Цилшлерлап. Вокруг снова гомонили соискатели с одухотворенными лицами, из нарядных экипажей выходили богато одетые юноши, а зычный голос призывал кандидатов на поступление в неавскую Академию Искусств заходить внутрь. Здесь молодых людей (барышни в этот храм не допускались) привычно распределили по классам. Экзаменатором Офальда на этот раз был руководитель отделения общей живописи Нитахирс Грекернипль, который прекрасно помнил Телгира.
– А, – сказал он приветливо, подходя к мольберту, – это вы, архитектор? Снова к нам? – и отошел, посмеиваясь в пышные усы.
Телгир едва ответил, поглощенный работой. Порельнахц посоветовал выбрать на экзамене по композиции темы, где можно раскрыть не только умение Офальда рисовать здания, улицы и пейзажи. Поэтому сейчас юноша трудился над сюжетом из Писания о Всемирном потопе, а впереди его ждала "Женщина, рассказывающая сказку". Но шесть часов спустя экзаменатор огорошил молодого человека.
– Простите, юноша, – говорил Грекернипль, сочувственно глядя на яркие неровные пятна румянца, выступившие на бледных впалых щеках соискателя. – Мы не можем принять вас в этом году. Кажется, ректор Намлаль рекомендовал вам год назад подумать об архитектуре? Мне остается только повторить вам эту рекомендацию. Вы изображаете людей безжизненными, это не божьи создания, а пустые куклы. Когда я смотрю на ваши работы, я не верю, что эти куклы могут жить, двигаться, говорить, и уж тем более что-то чувствовать. Вы неплохо освоили техническую сторону живописи, но ваши рисунки мертвы, холодны, они похожи на безликие дагерротипы.
Увидев крупные капли пота на лбу Офальда, старый профессор перегнулся через стол и похлопал его по руке.
– Юноша, вы действительно можете стать неплохим архитектором. Вам ничего не мешает прямо сегодня отправиться к герру Краиснелту и поговорить с ним о требованиях для зачисления в школу архитектуры.
– Да-да, – выдавил из себя Телгир и вымученно улыбнулся. – Спасибо, герр Грекернипль.
Он резко развернулся, подхватив пухлую папку со своими работами, который должен был представить на суд комиссии во втором туре, если бы – если бы! – прошел во второй тур, и вышел из красивой комнаты в коридор огромного здании, куда мечтал попасть три долгих года. Дорога в архитектурную школу по-прежнему лежала через строительные курсы, где по-прежнему требовался аттестат зрелости, которого у Телгира по-прежнему не было. Большие деньги, потраченные на уроки Порельнахца, оказались потраченными впустую, выплаты отцовского наследства прекратились, поскольку закончилось само это наследство, от материнского капитала осталось только воспоминание. Тетушка не отказалась помочь племяннику, дав ему в долг 924 кроны – но оба понимали, что этот долг никогда не будет возвращен.
Соискатель-неудачник вылетел из Академии и быстро зашагал по направлению к Университетской библиотеке, рядом с которой в муниципальной столовой можно было получить тарелку горячего супа буквально за копейки. Из-за сильного волнения юноша не чувствовал голода, но знал, что, если сейчас не поест, вечером может упасть в голодный обморок: такое уже случалось. В висках в такт шагам стучало: "Ты-не-станешь-художником! Ты-не-станешь-художником!" Глотая густую чечевичную похлебку, щедро сдобренную чесноком (в недавние времена ресторанов и ежедневных походов в театры Телгир бы даже не прикоснулся к подобному вареву), юноша мрачно смотрел перед собой. Что делать дальше? Как и чем жить? Будущее представлялось Офальду одним черный расплывчатым пятном, без намека на просвет в вязком душном болоте, в которое грозили окунуться его дни, недели и месяцы. Но постепенно, бешеный ход его мыслей успокаивался, пока не принял, наконец, одно, более-менее спокойное и ровное направление. Юноша пришел к решению, которое давно искал.
Офальд Телгир, сидя в убогой столовой, пропахшей чесноком и потом, говорил сам себе, уставившись невидящими глазами в стену напротив, сначала мысленно, потом, забывшись, начал бормотать вслух: "Неав, эта столица империи, великий город искусств, один из центров мира, предал меня. Весь гнилой и дряхлый режим Грубгабсов с помощью нескольких сотен импотентов, заседавших в так называемом парламенте, сделал все, чтобы унизить, растоптать, уничтожить меня, простого человека, посмевшего – нет, просто попытавшегося! – дотянуться до своей мечты. За этим ослепляющим блеском роскошных фасадов, несметных сокровищ в музейных залах, десятками пудов золота, которым украшены тысячи потолков, набриолиненными макушками изысканных кавалеров в оперных ложах, брильянтовыми булавками в галстуках йеревских дельцов и банкиров слишком плохо маскируется другая, настоящая, истинная жизнь. Здесь рождаются, барахтаются в нищете, торгуют своим телом, теряют зубы, волосы, ногти, плодятся и дохнут в дерьме, клопах, вшах и грязи сотни тысяч маленьких, простых людей, на сифилитичных, исхудавших, морщинистых телах которых, как на глинянных ногах колосса, покоится Ивстаярско-Гирявенская империя. Их вытаскивают из небытия только политические стервятники, обогатившиеся за счет их же страданий, чтобы организовать очередную демонстрацию, стачку, митинг, достичь своих целей и затем снова ввергнуть их в пучину страданий. Здесь растет все: цены, налоги, безработица, бесконечные поборы на армию, количество депутатов в парламенте, не растет только благосостояние простого народа. Что ж, Неав, я принимаю правила твоей игры. Я любил тебя, восхищался тобой, но ты оказался химерой, красивым миражом, нарядной повязкой на гниющей ране, в которой копошатся черви. Отныне я знаю тебя, Неав!"
Последние слова Телгир почти прокричал, дрожа всем телом от возбуждения и не обращая внимания на недоуменные взгляды остальных посетителей убогой столовой. Мотнув головой, Офальд вскочил, опрокинув легкий стул, и, не доев, вышел на улицу, с наслаждением вдохнув полной грудью прохладный осенний воздух. Погода окончательно испортилась, моросил легкий дождь, но молодой человек не обращал на него никакого внимания. Он отправился на Геспашемтурс, попросил у недавно вернувшейся из очередной поездки к родственникам фрау Искарц иголку с ниткой и, тщательно пересчитав купюры, зашил большую часть доставшихся от Ганиноа денег за подкладку пиджака. Пришло время жесткой экономии. В ближайшие две недели Телгир распродал большую часть своих любимых книг, уничтожил целую кипу набросков и эскизов, и даже попытался всучить йеревскому старьевщику свой цилиндр – но в итоге просто обменял его на стопку писчей бумаги и чернила в соседней лавке.
Бекучик еще в августе выслал свою часть платы за комнату, как и было оговорено до его отъезда. Офальд оставался в их пропахшем керосином обиталище до конца октября, рассчитался с опечаленной квартирной хозяйкой, сетовавшей, что ей уже никогда не найти таких приличных молодых людей в качестве жильцов, и съехал, не оставив другу ни письма, ни нового адреса: он не желал сообщать Глустю (а через него и своей семье) о провале на вступительных экзаменах, чтобы не вызвать очередную волну упреков и просьб найти себе работу и отказаться от сиротской пенсии. Молодой человек перебрался в район вокзала Станвохбеф, где за восемь крон в месяц (цены в столице постоянно росли) снял койку в квартире номер 16 дома 22 по улице Расельфешбретс. Это был четырехэтажный дом муниципальной застройки, которые одиннадцать лет назад начали вырастать в Неаве то тут, то там, благодаря стараниям бургомистра Рэюгела. В небольшой, но неплохо обставленной комнате с добротной удобной мебелью, помимо Офальда, жили еще два студента-медика откуда-то из Верхнего Ивстаяра, вечно сонные, с припухшими веками, в первой половине дня с головой погруженные в свою учебу, а во второй – в развлечения, которые Неав с удовольствием предоставлял многотысячной студенческой армии.
К этому же племени отнес себя и Телгир, отрекомендовавшись хозяйке квартиры, благообразной старушке по имени Елнеах Ильдр, в качестве студента Академии Искусств Неава. Пока у него оставались тетушкины деньги и пенсия, Офальд мог вести практически прежний образ жизни, ограничив себя в еде и походах в оперный театр, но не заботясь о поиске работы. В муниципальной столовой он, будучи девятнадцатилетним юнцом, с детства ощущавшим свое особое предназначение, принял решение, которому собирался неукоснительно следовать всю оставшуюся жизнь.
Офальд Телгир собирался заняться самообразованием.
Глава деcятая. 21 год
Неав, Ивстаяр. Июнь
В просторном зале для некурящих читальни мужского общежития на улице Мьенделнам, 27, было, как и обычно в обеденное время, тихо. Офальд, сидевший за письменным столом темного дерева у самого окна, где летнее солнце давало самый яркий свет, сосредоточенно рисовал акварельными красками. Перед его глазами, укрепленная на специальной маленькой подставке, прибитой к настольному мольберту, была небольшая открытка с видом на неавскую ратушу. Ее Телгир и перерисовывал, тщательно выписывая детали на небольшом холсте. Из двух десятков столов заняты были всего четыре. Помимо Офальда, здесь трудились Иамоих Дьешнел, йерев средних лет из Гирявена, который слыл одним из лучших переписчиков нот во всем Неаве, Мильвельг Ньяка, студент из Аровияма, учившийся с грехом пополам на инженера и подрабатывавший каллиграфией, и тридцатилетний Негрю Галн из Ялисеиза, чахоточного вида ехч, занимавшийся изготовлением открыток. Еще несколько обитателей общежития, расположившись в удобных креслах вдоль стен, читали книги и журналы. Из зала для курящих доносился гул голосов – там было ненамного больше народа (днем подавляющее большинство жителей мьенделнамского муравейника были на работе), но какая-то тема вызвала горячее обсуждение, в которое включились все присутствующие. Офальд прислушался. Общий неровный шум то и дело взрезал резкий визгливый голос Сулака Цульше, задиристого маленького йерева, бывшего при этом римнагским националистом, и постоянно нападавшего на ехчей, которых особенно не любил. Вот и сейчас, при обсуждении новостей об очередном смягчении политики империи в отношении ехчского большинства в Аровияме и Емигоябе, Цульше не сдержался.
– Государство в пределах своих границ должно стремиться к созданию единого общества! – визжал он так, что его голос проникал, вибрируя, в соседний зал. – Ивстаяр не может себе позволить и дальше разбрасываться гуманностью и демократией. Нам нужна железная воля, железный кулак, иначе…
Его заглушили нестройные возражения, которых в зале для некурящих было уже не разобрать. Дьешнел, не отрываясь от работы, усмехнулся.