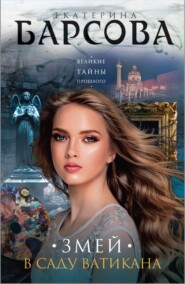По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тайный код гения
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Уф! Жара! – И, вынув из кармана платок, вытер шею.
– Там вода, – показал он на киоск на углу. – Выпей воды. Абрикосовой.
– Вы знакомы? Владимир Нарбут.
Нарбут стоял и молча смотрел на него. Сверху вниз. Под этим взглядом было тоскливо и неуютно.
– Михаил, – кивнул он. – Булгаков.
Нарбут важно кивнул в ответ. Потом присел рядом на скамейку.
– Давно здесь?
– Нет. Примерно полчаса.
– Я не об этом, в Москве давно?
– А… это, – Булгаков повертел головой, было чувство, что воротничок жмет шею. – Почти два года.
– И как?
– Возможности есть, нужно уметь воспользоваться ими. Вот сейчас работаю в «Гудке». С ними.
– Нравится?
Это походило не то на допрос, не то на неумеренное любопытство.
– Работа как работа… Хочется писать не только фельетоны, но и большие вещи. Романы…
Нарбут кивнул.
Он еще не знал, что пространство вокруг него уже искривилось, и каким-то странным способом окружающие его люди и обстановка перемещались в пространство романа.
– Мне кажется, твое лицо знакомо.
Здесь он похолодел. И опять непонятно – почему.
– Киев, – внезапно тихим голосом сказал он. – Девятнадцатый год. Кафе «ХЛАМ». Ты читал там стихи.
Глаза Нарбута расширились.
– Точно! – воскликнул он громовым голосом и хлопнул себя по лбу. – Точно! Киев – хорошее было место это кафе. Жаль, что закрылось…
Булгаков хотел сказать еще о Шкловском, но замолчал. Вспоминать этого типа совершенно не хотелось. Холодком веяло от Нарбута, словно в жаркой летней Москве вдруг дохнуло стужей. Или это зимний Киев воскрес в памяти. Презанятное место было это кафе «ХЛАМ» – что расшифровывалось как художники, литераторы, артисты и музыканты. А по буквам – было смешное слово «ХЛАМ». Хлам и есть, лучше не скажешь…
– Я сейчас за водой. Туда и обратно… – сказал Катаев, срываясь с места…
Он пошел к киоску за водой…
Олеша топтался рядом, словно не решаясь сеть.
– Вот издательство открыл, – будничным тоном сказал Нарбут. – «Земля и фабрика».
– Современное название, – в голосе Булгакова прозвучала насмешка. – Вполне в рабоче-крестьянском стиле. – Он на секунду закрыл глаза, а, когда открыл, увидел немигающие глаза Нарбута, он утонул в них, потом вынырнул.
«Аки змий, право, – подумал он. – Страшный человек. Богохульник».
Странная тоска нахлынула на него. Вдруг захотелось бросить работу в «Гудке» и заняться романами, писать, писать и писать.
Он глубоко вздохнул. Этот ветер, который доносил пресновато-горький запах воды и земли, и распустившейся зелени… Но вместо этого – поденщина, фельетоны!
– Что вы сказали, – перебил его Нарбут. – Фельетоны?
– Я говорил вслух? – удивился он.
– Да.
– Нехорошо, заговариваюсь.
Хотелось попроситься в издательство к Нарбуту, с еще ненаписанным романом, захватить эту территорию, сделать ее своей. Упрочить шаткое положение, но что-то мешало легко и беззаботно отдаться текущему моменту.
«Никогда и ничего не просите».
А Нарбут сейчас был явно сильнее, чем он, Булгаков.
– Вы ведь, кажется, сын священника? – спросил его Нарбут.
– Кто сказал? – в притворном ужасе воскликнул Булгаков. – Зарэжу, – и он комично схватился за голову. Он всегда любил разыгрывать людей шутливыми сценками. Но сейчас это было не как в юности – от избытка сил и энергии. Сейчас это была форма защиты, юродство, которое спасало от того темного и страшного, что гнездилось в Москве.
Легкая сардоническая ухмылка скользнула по губам Нарбута, но он ничего не ответил.
– А вы знаете, что Бога не существует?
– Как не существует? – возразил Булгаков. – Вы можете представить доказательства?
Олеша рассмеялся.
Но во взгляде Нарбута показался нехороший блеск.
– Могу, – сказал он с каким-то непонятным упрямством. – И докажу.
Вернулся Катаев с кружкой абрикосовой воды в руках.
На губах, как усики была пена.
– О чем спор?
– Вот он, – кивнул Булгаков на Нарбута, – сказал, что Бога нет.