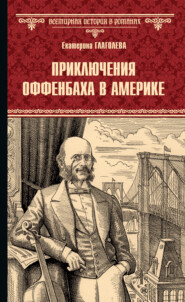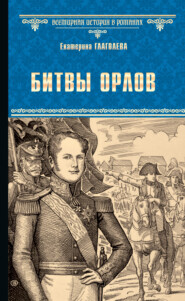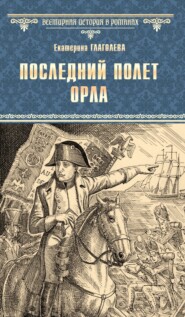По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пришедшие с мечом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вышли… Это не значит покинули; армия Наполеона в самом деле велика, часть войск могла стать на биваках в окрестностях Первопрестольной. Французы в Москве! Князь сел на лавку в самом дальнем углу, повернувшись ко всем спиной, его плечи вздрагивали. Офицеры пообедали без обычных разговоров, наскоро, стараясь не смотреть в его сторону.
В Вышнем Волочке уже знали, что в Москве неприятель, и пребывали в великом смятении. Тяжелее всех приходилось генерал-провиантмейстеру Лабе, заготовившему провианту на несколько миллионов рублей и теперь не знавшему, что с ним делать, хотя он посылал курьеров и в Петербург, и к главнокомандующему Кутузову. Вывезти всё это быстро невозможно; по инструкции, он должен истребить все запасы в случае приближения неприятеля, но насколько велика сия опасность? Комаровский ничем не мог ему помочь и поехал дальше.
Тверской губернатор Кологривов явился к нему сам и сообщил, что Москва горит уже четвертый день, свое семейство он отправил в Ярославль, где сейчас находятся принц Георг Ольденбургский и великая княгиня Екатерина Павловна, а все необходимые сведения по поводу местоположения неприятельских войск можно получить у барона Винцингероде. В Клину дежурный штабной офицер князь Волконский направил Комаровского на новую главную квартиру – в деревню Давыдовку. Два генерала крепко обнялись и постояли так некоторое время, не пряча слез своих по Москве. Затем Винцингероде развернул карту, они наметили маршрут до Тулы: через Дмитров, Егорьевск, Покров, Коломну и Венёв.
Закат угас, однако на горизонте пылало большое зарево.
– Горит, матушка, – вздохнул ямщик.
По дороге тянулись друг за другом телеги, нагруженные разными пожитками; на выезде из города они сворачивали на проселки.
– Куда же вы едете? – спросил Комаровский молодого мужика, шедшего рядом с лошадью; его жена с грудным младенцем сидела на возу.
– А куда глаза глядят, барин, – отвечал он, не повернув головы. – Теперь покуда в леса, а там – куда Бог приведет.
В Покрове квартировал князь Борис Андреевич Голицын, начальник Владимирского ополчения – единственной силы, стоявшей на пути у неприятеля в столицу древнего княжества. Карие глаза князя глядели печально, чуть оттопыренная нижняя губа придавала его вытянутому лицу скорбное выражение. Он рассказал Комаровскому о последних минутах своего друга князя Багратиона, скончавшегося у него на руках. Последние слова князя Петра были: «Господи, спаси Россию!» Евграф Федотович, слышавший о ранении Багратиона во время сражения при Бородине, не знал, что он скончался, это известие тронуло его до глубины души. Москва взята, Багратиона больше нет! Да и Богородск уже в руках французов, добавил Голицын. Кутузов приказал ему отступать без боя в случае движения основных сил неприятеля к Владимиру, однако князь молил Бога, чтобы ему не пришлось выполнять этот приказ. Пока его ратники лишь конвоировали пленных, которых приводили гусарские и казацкие отряды, нападавшие на французских фуражиров, но кто знает, что будет завтра…
Во всех ямах на Московской дороге ямщики с негодованием спрашивали столичного генерала, отчего это государь собирает в ополчение помещичьих крестьян, а с них никого не берёт? Они бы дали из двух сыновей одного и не пожалели бы для них лучших лошадей! Прибыв в Тулу и посмотрев на конных ратников, которых с гордостью показал ему губернатор Богданов, Комаровский написал донесение государю о желании ямщиков служить против общего врага.
* * *
Худые щеки Христиана Ивановича Лодера обросли колкой седой щетиной, но бриться было недосуг: раненые всё прибывали и прибывали, их нужно было распределять – на срочную операцию, на перевязку, на дальнейшую транспортировку. Их были тысячи: с раздробленными костями, со страшными ранами в грудь и брюхо; многих доставили в Касимов из самого Смоленска, через Вязьму и Москву, не сделав за две недели не единой перевязки! В ранах копошились черви, их края почернели и источали зловоние; кроме того, почти все пациенты были крайне истощены, страдали от изнурительной лихорадки и нервных припадков: их везли осенью на телегах, зачастую на голых досках, без пучка соломы, едва прикрытых лохмотьями, почти нагих! Бедняг ограбили еще на поле сражения, когда они лежали там замертво, совершенно беспомощные. Лейб-медик уже знал: увидишь кого в драном армяке на голое тело, в дырявых чулках и без сапог – скорее всего, офицер.
Привычно сложив тонкие губы в легкую улыбку ради приветливого выражения лица, врач бегло осматривал раны, механически ставил диагноз, отдавал краткие распоряжения по-немецки, которые все госпитальные служители уже научились понимать.
Конечно, он занимался раньше хирургией и судебной медициной, сам преподавал эти дисциплины, но никогда не думал, что станет военным медиком: его больше привлекало акушерство, повивальное искусство – область, совершенно противоположная этой. За двадцать четыре года в Йене доктор Лодер подготовил множество врачей, построил новый анатомический театр, учредил родильный госпиталь, издал подробнейшие анатомические таблицы. Потом ему предложили должность профессора в университете Галле, он принял прусское подданство. Но шесть лет назад Галле был занят французами. Брат Наполеона, Жером Бонапарт, ставший королем Вестфалии, предложил служить ему; Лодер отказался и уехал в Кёнигсберг. Когда прусский король заключил союз с Наполеоном, доктор перешел в русское подданство и стал лейб-медиком императора Александра. Года полтора Христиан Иванович спокойно жил в Москве, занимаясь частной практикой, пока не началась война… Теперь он мотается между Касимовым, Меленками и Елатьмой.
– Nein! – резко крикнул он санитару, собиравшемуся напоить раненого с кровавой тряпкой на голове. – Operieren[2 - Нет! Оперировать (нем.).].
* * *
«Найдя столь долгое время изыскиваемое, но поныне еще не обнаруженное средство произвольно управлять летучею машиною, действие которой я в шести верстах от Москвы в присутствии многих зрителей показывал, от коих свидетельство отобрать можно, я ныне всеподданнейше умоляю Ваше Императорское Величество не пропускать ни малейшего времени, дабы сие важное дело сколь возможно поспешнее произведено могло быть в действие. Совершенно будучи уверен, что я впоследствии заслужу благоволение Вашего Императорского Величества по причине двукратно уже испытанного мною успеха в употреблении моей машины, всеподданнейше прошу мне позволить: оконченную уже мною в Москве малую машину, если не явится никаких чрезвычайных препятствий, здесь собрать, а не достающие к ней части вновь изготовить, потому что рама и нижняя часть, по причине весьма поспешной укладки, на что я только три часа имел времени, не могли быть увезены, но были истреблены при приближении неприятеля».
Перечитав еще раз перевод собственноручного донесения Франца Леппиха, сделанный с немецкого языка, граф Аракчеев вновь испытал неприятное чувство непонимания. Леппих – шарлатан, в этом уже не осталось никаких сомнений, к тому же еще и лгун: он наглым образом утверждает о двукратном успехе в «употреблении» своей машины, ссылаясь даже на неких свидетелей, тогда как из донесений графа Ростопчина ясно следовало, что его управляемый аэростат не то что не был испытан, но даже не смог подняться в воздух. Допустим, в Москве его могли использовать просто для отвлечения внимания обывателей, чтобы унять их тревогу при приближении французов, хотя игрушка оказалась слишком дорогой. Но почему же государь распорядился удовлетворить прошение «изобретателя»? «Отвести ему строение длиной 50 футов, шириной 22 фута и восемь других покоев, отапливаемые ежедневно. Позволить выбрать из адмиралтейского лесного магазина строевой лес для рамы и короба, набрать немецких столяров и слесарей из числа казенных работников. Отправить в Нижний Новгород курьера за баллоном, сеткой и другими вещами и мастеровыми. Выделить средства». Средства! Казна не бездонна, убытки неисчислимы, армия сейчас не имеет самого нужного, а государь хочет снова тратить тысячи на… фук? Но с другой стороны, Алексей Андреевич уже дважды выражал государю свои… сомнения по поводу леппиховой машины и слышал в ответ, что он глуп. Возможно, государь имеет свои виды, не доступные пониманию простых смертных. Кто такой Аракчеев, чтобы противиться его воле? Он всего лишь слуга государев и должен повиноваться ему беспрекословно.
Государь сейчас нездоров, раздражителен, замкнулся ото всех на Каменном острове. Не следует перечить ему и причинять еще большие неудобства.
Лакей доложил, что прибыл господин Шишков и просит принять его. Алексей Андреевич велел проводить государственного секретаря в его кабинет.
Шишков вошел мелкими шажками, распространяя вокруг себя сладковатый и малоприятный старческий запах, поклонился, попросил прощения за то, что обеспокоил его сиятельство: государь позволил ему переговорить с господином Яковлевым, недавно привезенным из Москвы, поскольку он – первый очевидец, прибывший в столицу. Аракчеев кивнул и лично проводил гостя в комнату, где помещался арестованный.
Ивана Алексеевича Яковлева привезли на Литейный под конвоем, с донесением от арестовавшего его генерала Винцингероде. Задержавшись в Москве из-за болезни родственника, Яковлев не успел выехать до вступления в нее французов, лишился крова из-за пожара, был вынужден ночевать со всеми домочадцами на площади, обратился к маршалу Мортье за пропуском, чтобы проследовать в свое имение, но такие пропуска выдавал только сам Наполеон. Узнав, что брат Яковлева, Лев, в свое время был русским посланником в Касселе, при дворе Вестфальского короля, Наполеон согласился его принять, говорил ему о своем желании заключить мир и дал письмо к императору Александру для передачи в собственные руки, сделав это условием выезда из Москвы. Письмо Яковлев отдал Аракчееву под расписку, и Алексей Андреевич доставил его государю, чем вызвал только его неудовольствие. Дальнейших распоряжений по поводу Бонапартова порученца не воспоследовало, он так и жил в здании военного департамента. Проводив к нему Шишкова, граф оставил их вдвоем.
У Яковлева было узкое, костистое лицо, вид замкнутый и нелюдимый. Шишкову не удалось разговорить его, на все вопросы Иван Алексеевич отвечал коротко и скупо, и всё же картина складывалась самая ужасная и безотрадная: Москва горит, пьяные неприятельские солдаты носятся по улицам, подобно варварской орде, истребляя припасы, грабя обывателей, рубя саблями безоружных, превращая храмы в конюшни… Вернувшись домой, Александр Семенович принялся составлять «свидетельство очевидца» для опубликования в газетах, но, как обычно, увлекся и отклонился от изображения фактов, пустившись в общие рассуждения:
«Сами французские писатели изображали нрав народа своего слиянием тигра с обезьяною; и когда же не был он таков? Где, в какой земле весь царский дом казнен на плахе? Где, в какой земле столько поругана была Вера и Сам Бог? Где, в какой земле самые гнусные преступления позволялись обычаями и законами? Взглянем на адские, изрыгнутые в книгах их лжемудрствования, на распутство жизни, на ужасы революции, на кровь, пролитую ими в своей и чужих землях: и слыхано ли когда, чтобы столетние старцы и не рожденные еще младенцы осуждались на казнь и мучение? Где человечество? Где признаки добрых нравов? Вот с каким народом имеем мы дело! И посему должны рассуждать, может ли прекращена быть вражда между безбожием и благочестием, между пороком и добродетелью? Долго мы заблуждались, почитая народ сей достойным нашей приязни, содружества и даже подражания. Мы любовались и прижимали к груди нашей змею, которая, терзая собственную утробу свою, проливала к нам яд свой, и, наконец, нас же за нашу к ней привязанность и любовь всезлобным жалом своим уязвляет. Не постыдимся признаться в нашей слабости. Похвальнее и спасительнее упасть, но восстать, нежели видеть свою ошибку и лежать под вредным игом ее. Опаснее для нас дружба и соблазны развратного народа, чем вражда их и оружие».
* * *
Орлов луг у Калужской заставы напоминал собой цыганский табор, только без кибиток и лошадей. Туда подходили всё новые погорельцы, садились своим кружком, сложив внутрь его узлы и сундучки, корзинки с младенцами и прочие пожитки. У кого-то и вовсе не осталось ничего, богатые обратились в нищих. Весь этот табор гудел, точно улей, в шум голосов вплетался лай собак. Время от времени из города возвращалась партия добытчиков, отправлявшихся за провизией – шарить по подвалам на пепелищах, подчищать разбитые лавки и кондитерские. Брать еду не грех: не помирать же с голоду, зато при виде узлов с крадеными вещами люди стыдливо отводили глаза: срам-то какой, Бога не боятся, у своих воруют! Но ничего не говорили и не совестили – не ровен час, еще прибьют. Бродить по подвалам отправлялись только удальцы: там можно было столкнуться с французами, промышлявшими тем же самым. Люди же робкого десятка ходили на огороды и приносили оттуда горькие огурцы, капусту, картошку и свеклу.
Господам что – фьють! Сели да поехали. И то еще, когда выезжать было разрешено только женщинам и детям, некоторые рядились в женское платье, подвязывая щеки – будто бы зубы болят, а на самом деле, чтобы скрыть бакенбарды. А дворня, почитай, вся осталась. Как пришли французы, люди фабриканта Баташёва бежали из усадьбы на Швивой горке за Яузу и там стали лагерем: посадили детей и жен в капустные грядки и охраняли их от грабителей. Приказчик их, Соков, храбрый человек оказался, дай Бог ему здоровья. Только засели они в капусте, как слышат – стоны неподалеку. Часть ребят побежали туда – ахти, Господи! Человек лежит весь в крови: ограбили, руки-ноги переломали, чуть до смерти не убили! Так Соков этот взял с собой мужиков покрепче, да с дубьем, и пошел в кусты, куда скрылись злодеи. А там сидят человек двенадцать – все с подвязанными руками и головами, якобы раненые, а это разбойники и есть! Не французы – наши! Баташёвские их отметелили как следует, а потом нашли в воде, среди осоки, множество разного платья и прочих вещей.
На подобные рассказы всегда отвечали своими историями, одна горше другой. Спасаясь от огня, погорельцы скучились на Полянском рынке вокруг фонтана, ища защиты у святителя Григория Неокесарийского, а злодеи тут как тут: узлы разрывали, отыскивая драгоценности, с мужчин снимали сапоги, одежду, вытаскивали из карманов часы и табакерки, с женщин срывали платки, шали, а то и платья, серьги выдергивали прямо из ушей, кольца с пальцами отрубали, – крику-то, шуму, и огонь гудит, и ветер завывает… А баб сколько ссильничали! Девушек, совсем молоденьких! К одной барышне француз приставал, она не давалась, плакала, служанка вызвалась вместо нее, так они ее вдвоем… Мало им шалав мокрохвостых, которые к ним слетелись, как мухи на мед! На улицах девочек десятилетних находили… В Алексеевском монастыре над монахиней надругались… А в Зачатьевском – там больше старушки, их не тронули. Игуменья пошла к кавалерийскому полковнику французскому, барону Талуэ, просила его защитить их. Он ей и говорит: я-то сделаю всё, что могу, но знайте, что я нарушу приказ моего начальства – грабить нынче дозволено.
Если французам попадешься, это еще ничего. К одному чиновнику в дом залезли, стали везде шарить, глядь – на них детишки в щелку смотрят, любопытствуют. Так они на другой день туда вернулись и детишкам игрушек принесли – должно, в какой-то лавке взяли. У профессора университетского жена рожала – они мимо прошли на цыпочках и ничего женского не взяли, только вещи мужа с собой унесли. А сколько раз уже бывало: выйдут французы из какого дома, набив мешок всякой всячиной, увидят кого из наших на улице, сейчас захватят и велят нести мешок до своей квартиры, но уж с пустыми руками не отпустят – накормят, напоят, а когда и с собой чего съестного дадут или деньгами наградят. Одного так заставили сундук тащить в даль дальнюю, а как дотащил, говорят: ступай, мол, с богом, а он им: как же я пойду? Ваши же опять меня схватят! Так они ему выписали бумагу на своем языке – иди, говорят, и ничего не опасайся. И точно: пошел он, наехали на него конные, он им бумагу показал, они отпустили его и ничего не взяли. Но это на кого нарвешься. Не приведи Господь, на поляков или на немцев, тут уж спуску не дадут, беспардонное войско – их ни слезами, ни мольбами не проймешь. Люди говорят, их и пуля не берет. Но обидней всего, конечно, когда свои своих же грабят и обижают, точно нехристи какие.
Как Гостиный двор-то загорелся, так туда купцы поехали прямо на бричках и ну набивать их всяким товаром – да только не свой спасали, а чужой прикарманивали. Потом чуть не передрались между собой, как добычу делили. А уж если купцы так поступают, то крестьяне чем лучше? И они Гостиный двор чистили, таскали всё, что под руку попадется. Двое дворовых ходили туда, как на промысел: набрали себе меду, рыбы, церковных книг и прочего, а потом еще наткнулись на трех крестьян с шалями и платками и забрали всё себе. Ни стыда у людей, ни совести…
* * *
На Красной площади, под стенами Кремля, гудел стихийный рынок – солдаты выменивали друг у друга то, что удалось спасти из огня. Семейные охотились за мехами и кашемировыми шалями, обещанными в подарок женам (в Париже их не найти), и готовы были отдать за них золотые вещи или шелка, любители присматривали себе картины и книги, предлагая за них копченую рыбу и макароны. Здесь можно было раздобыть покрытые пылью и паутиной бутылки с вином и коньяком такой выдержки, что во Франции они бы стоили целое состояние, диковинные желто-зеленые шишки ананасов, которых многие солдаты прежде не только не пробовали, но и не видывали, коробки с инжиром, чай, кофе, сахар, шоколад… Вот только белого хлеба, свежего мяса, другой привычной еды с каждым днем становилось всё меньше.
В городских домах вельмож, напоминавших загородные усадьбы, поселились самые нахрапистые. Дезидерий Хлаповский, командир эскадрона из 1-го уланского полка, занял дворец князя Лобанова на Мясницкой, а генерал Красинский – еще более роскошный дом купца Барышникова напротив, с обнесенным решеткой двором. Из домов не успели вывезти мебель, и поляки отдыхали на удобных широких кроватях с сафьяновыми матрасами; выйдя же из дому через заднюю дверь, они словно попадали в деревню: там были сад с оранжереей, огород, сеновалы… В пристройках оказалось около сотни человек – дворовых, крестьян, мастеровых. Они были согласны готовить еду, чинить или шить одежду и обувь, исполнять иные привычные для них обязанности, лишь бы их не трогали.
В доме одного немецкого купца разместились двенадцать итальянских офицеров. По утрам из окон можно было смотреть, как гвардия строится под полковую музыку для парада. Гренадеры быстро навели уют, раздобыв где-то скатерти и всякую домашнюю утварь; из муки, найденной на пепелищах, пекли вкусный домашний хлеб; по совету поляков, квасили на зиму капусту. За обедом поднимали тост за благополучное окончание нынешней кампании и скорейшее взятие Санкт-Петербурга в следующем году. Единственное, что омрачало настроение кавалеристов, – недостаток фуража, от которого лошади гибли сотнями.
Двадцатилетний лейтенант Поль Бургуэн стоял у окна с неожиданной находкой: в огромной библиотеке московского градоначальника Ростопчина, который не успел спалить свой собственный дом (в печных трубах нашли кадки с ракетами, порохом и смолой), он обнаружил книгу своего отца – «Исторические и философские записки о Пие VI и его правлении вплоть до его удаления в Тоскану». Поль перелистывал страницы, но буквы расплывались из-за слез, внезапно навернувшихся на глаза. Отец… Такой добрый, простой, всегда веселый, неунывающий, неутомимый… Он умер в прошлом году. Пять лет назад брат Арман проявлял чудеса храбрости под Остроленкой, чтобы попросить в награду за свой подвиг новую должность для отца, который угодил в опалу, неловко предсказав желание Наполеона возложить себе на голову корону. Бургуэна-старшего тогда отправили чрезвычайным послом в Дрезден к Фридриху-Августу Саксонскому, чтобы присматривать за польскими делами[3 - Саксонский король одновременно являлся великим герцогом Варшавским.]. Он начал писать мемуары, предназначавшиеся единственно для его сыновей, но успел окончить только первые пять глав. Теперь уже никакой подвиг не вернет его из могилы…
Несколько легкораненых, выпущенных из Воспитательного дома, пытались отнять у русского мешок с капустой; Анри Бейль выхватил саблю и прогнал их; русский бросился наутек со своим мешком, а Бейль продолжал свой путь.
Он сам предложил Пьеру Дарю подобрать новую квартиру для интендантства взамен дома Апраксиных, который был сильно разграблен под предлогом тушения пожара: Анри требовался повод, чтобы колесить по городу, бросив свои скучные занятия. Разумеется, все хорошие дома оказались заняты. Маршал Мюрат, вынужденный бежать из роскошного дворца какого-то промышленника на Швивой горке, расположился теперь в имении графа Разумовского на берегу Яузы; чудом уцелевший дом князя Куракина, русского посланника в Париже, отдали раненому генералу Нансути. Этот дворец на Басманной поджег полицейский; дворецкий с четырьмя лакеями схватили его, избили палками и отвели к французам, которые тушили дом князя Трубецкого; поджигателя тотчас расстреляли. Аудитор Госсовета продолжал объезжать усадьбы, справляясь об их бывших владельцах.
Всё воодушевление от нового похода, с которым Анри выехал в путь в конце июля, нагруженный письмами и посылками для императора, испарилось за несколько дней на жаре, в пыли, среди грязи, вони и тупоголовых остолопов, нечистоплотных во всех смыслах этого слова. Как это было не похоже на самый первый его поход, двенадцать лет назад! Правда, тогда он был восторженным семнадцатилетним юнцом, для которого всё было внове: он только учился ездить верхом и обращаться с саблей, чуть не утонул в озере, чуть не свалился в пропасть во время перехода через перевал Сен-Бернар, но именно чувство опасности больше всего опьяняло вчерашнего ребенка, которого всегда чрезмерно опекали. А еще величественные пейзажи Швейцарии: горы, ледники, ущелья… Потом он увидел Милан и тотчас влюбился в этот город, где было красиво всё: дома, кофейни, женщины, театр – так тепло, шумно, приветливо, не то что в холодном тщеславном Париже! Все его приятели обзавелись там любовницами, и только он был слишком застенчив, чтобы заговорить с женщиной, не требовавшей денег за свои поцелуи. Платой за робость стала дурная болезнь, из-за которой младший лейтенант драгунского полка покинул армию. Прозябать в провинциальном гарнизоне? Не так лейтенанты артиллерии становятся императорами, а сыновья лавочников – маршалами Империи.
Скряга-отец назначил Бейлю слишком скудное содержание; на эти деньги было невозможно утолять духовную жажду и одновременно подвизаться в свете, возмещая искусством портного недостатки внешности, полученной от природы. Впрочем, его кузен Пьер Дарю, госсекретарь, тоже был далеко не красавец, и придворный костюм шел ему, как корове седло, однако он сумел пробиться в ближний круг, стал графом и великим офицером ордена Почетного легиона, а его брат Марсьяль Дарю теперь звался бароном. Оба не скрывали своего презрения к Анри, вечно витавшему в облаках, мечтая об успехах и наградах самого разного рода; его неудачная попытка сделаться банкиром в Марселе не улучшила их мнения о кузене, но родня есть родня, и вскоре Анри Бейль уже ехал с Марсьялем Дарю в Германию.
Наполеон был где-то впереди и одерживал победы, военный комиссариат тащился по его следам из Майнца в Вюрцбург, из Вюрцбурга в Бамберг… Йена, Прейсиш-Эйлау, Фридланд – для интендантства громкие победы означали только требования немедленно подвезти боеприпасы, перенаправить обозы с провиантом, вывезти раненых, устроить госпитали… Когда Пьер Дарю выехал в Эрфурт – готовить встречу императоров Франции и России, – его кузен Бейль остался в Брауншвейге.
Стендаль… Вообще-то Штендаль, но Стендаль, а еще лучше – Стандаль звучит гораздо красивее. В этом небольшом городке Анри пережил безумную страсть с Вильгельминой фон Грисхайм. Но в остальном ему не нравилось в Германии, ему опротивели черный хлеб и тушеная капуста с пивом – совершенно отупляющая диета, особенно вкупе с пуховыми перинами. Врач подтвердил, что у него сифилис, и рекомендовал лечиться в Париже, но австрийцы перешли в наступление, Бейль вернулся к своим обязанностям, видел пожиравший людей пожар Эберсберга, вступление Наполеона в Вену… Вена! Музыка, изящество, скука… Анри отправил прошение о своем переводе в Испанию, но, не дождавшись ответа, уехал в Париж.
Его назначили аудитором при Государственном совете и поручили составить опись произведений искусства в императорских музеях и дворцах. Он стал подписываться «Анри де Бейль», купил себе модный кабриолет, заказал печатки со своими инициалами, взял в любовницы оперную певицу, но оказалось, что когда у тебя всё есть, то не о чем мечтать. Он взял отпуск на «несколько дней» и… уехал в Милан. Потом в Болонью, во Флоренцию…
В Риме он столкнулся нос к носу с Марсьялем Дарю, который поторопил его с возвращением из затянувшегося отпуска, а то Пьер уже рвет и мечет. Однако Анри прежде побывал в Неаполе, Помпеях, Парме… Как гнусно, что люди способны опошлить всё, что ни есть великого на свете, будь то Неаполитанский залив, Колизей или трагедия Геркуланума.
Пылающий Смоленск стал прелюдией к великому, эпическому пожару покинутой Москвы. Огромная огненная пирамида упиралась своей верхушкой в небеса, под самым серпом луны, и в этом было что-то ветхозаветное, мистическое, сверхъестественное. Но даже такое величественное зрелище не внушило никакого трепета мелочным душонкам мародеров, сновавшим, точно крысы, по дворцам, где с жалобным звоном лопались стекла от страшного жара. Товарищи Бейля запасались вином, поскольку это лучшее средство от поноса. Единственной добычей Анри стал томик «Анекдотов» Вольтера.
Москва потрясла его своей роскошью, отданной на поругание, – не холодной, тщеславной, показной, а созданной для удобства и приятности жизни, что еще увеличивало горечь утраты. В Вене люди с ежегодным доходом в сто пятьдесят тысяч франков всю жизнь серьезны и помышляют лишь о кресте ордена Святого Стефана; в Париже они из кожи вон лезут, чтобы потешить свое тщеславие, и на дух не выносят друг друга; в Лондоне они желают играть роль в правительстве, а здесь, в России, при деспотическом правлении, они купаются в наслаждениях и забавляют гостей… вернее, так было до самого прихода французов.
В разгар московских пожаров Бейль ехал в дрожках по Пречистенскому бульвару. Группа оборванцев, спасавшихся пешком, громко говорила по-французски. Анри велел кучеру остановиться; это были актеры французской труппы, которые прежде выступали в Арбатском театре, ныне пылавшем, как свеча. На трагике была фризовая шинель и какой-то нелепый колпак, на комике – семинарский сюртук и треуголка, «благородный отец» был в штанах, а «злодей» – без оных, зато в ботфортах, несколько человек шли босиком, один, совершенно голый, завернулся в плащ своего товарища. Среди актеров была и дама – в красном жакете на меху, доходившем ей до колен, но без единой юбки. Анри предложил ей занять место в его коляске. О Боже! Аврора Бюрсе! Это с ее труппой в Россию уехала Мелани Гильбер – его Луазон! Волнуясь, Анри назвал себя; мадам Бюрсе сказала, что много слышала о нём от мадемуазель Сент-Альб. Она здесь? Жива? Увы, мадам Бюрсе ничего о ней не знает: Мелани давно покинула сцену и вышла замуж за какого-то русского генерала.
Мелани! Они вместе брали уроки декламации у Дюгазона (который потом сошел с ума и умер). Это было семь лет назад… Голубоглазый белокурый ангел меланхолии с такой же нежной душой, как у Анри. Они виделись каждый день, целовались, но и только: Мелани боялась снова забеременеть. Зато с ней он начал привыкать к счастью. Она получила роль в Большом театре Марселя, он приехал туда к ней. За семь месяцев он вновь разочаровался в себе и в жизни, к тому же разорился; Марсель стал казаться ему скучным, слезливое тиранство Мелани – несносным, он сбежал от нее в Германию, а она подписала ангажемент с труппой мадам Бюрсе.
В Петербурге труппа не произвела впечатления, ее отправили в Москву, и только мадемуазель Сент-Альб (сценическое имя Мелани) осталась в столице и появлялась вместе с мадемуазель Жорж в «Ифигении в Авлиде». Русская публика не оценила чувствительности, которую Мелани вкладывала в свою игру, называя ее плаксивостью, к тому же Луазон никогда не отличалась крепким здоровьем. Она расторгла контракт «по болезни». Хотя, скорее всего, это муж заставил ее покинуть сцену. Кстати, кто этот муж? Где они жили с Мелани: в Москве или в Петербурге? Этого мадам Бюрсе сказать не могла, у нее было полно своих хлопот. Ее брата Армана Домерга арестовали еще в августе и выслали на барже куда-то «в Азию» вместе с другими «подозрительными», а его жена с маленьким сыном осталась в Москве. Актеров ограбили дважды: сначала русские, перед тем как покинуть Москву, а после французы; у них не осталось ничего, совершенно ничего – как им теперь жить? Бейль обещал поговорить о них с Дарю, он что-нибудь придумает.
Пьер действительно придумал. В двух кварталах от дома Апраксиных, где он по-прежнему квартировал, обнаружился почти не разграбленный угловой особняк с роскошным шестиколонным портиком, во внутреннем дворе которого был возведен двухэтажный театральный зал со сценой, оборудованной настоящими машинами. (И как это Анри его пропустил? Кхм.) Мародеры умыкнули занавес и люстру, но всё остальное цело, у входов поставили караулы. Император будет доволен, если в Москве появится французский театр. Пусть там играют комедии и водевили для развлечения гвардии. Генерал-интендант граф Дюма нашел в Кремле несколько сундуков с царской одеждой – сойдет для костюмов; занавес можно смастерить из церковной парчи и люстру взять тоже из собора. Пусть разучат какую-нибудь известную пьесу… Например, «Игру любви и случая» Мариво. Вход будет платным, все сборы – на пропитание актерам.
* * *
В Вышнем Волочке уже знали, что в Москве неприятель, и пребывали в великом смятении. Тяжелее всех приходилось генерал-провиантмейстеру Лабе, заготовившему провианту на несколько миллионов рублей и теперь не знавшему, что с ним делать, хотя он посылал курьеров и в Петербург, и к главнокомандующему Кутузову. Вывезти всё это быстро невозможно; по инструкции, он должен истребить все запасы в случае приближения неприятеля, но насколько велика сия опасность? Комаровский ничем не мог ему помочь и поехал дальше.
Тверской губернатор Кологривов явился к нему сам и сообщил, что Москва горит уже четвертый день, свое семейство он отправил в Ярославль, где сейчас находятся принц Георг Ольденбургский и великая княгиня Екатерина Павловна, а все необходимые сведения по поводу местоположения неприятельских войск можно получить у барона Винцингероде. В Клину дежурный штабной офицер князь Волконский направил Комаровского на новую главную квартиру – в деревню Давыдовку. Два генерала крепко обнялись и постояли так некоторое время, не пряча слез своих по Москве. Затем Винцингероде развернул карту, они наметили маршрут до Тулы: через Дмитров, Егорьевск, Покров, Коломну и Венёв.
Закат угас, однако на горизонте пылало большое зарево.
– Горит, матушка, – вздохнул ямщик.
По дороге тянулись друг за другом телеги, нагруженные разными пожитками; на выезде из города они сворачивали на проселки.
– Куда же вы едете? – спросил Комаровский молодого мужика, шедшего рядом с лошадью; его жена с грудным младенцем сидела на возу.
– А куда глаза глядят, барин, – отвечал он, не повернув головы. – Теперь покуда в леса, а там – куда Бог приведет.
В Покрове квартировал князь Борис Андреевич Голицын, начальник Владимирского ополчения – единственной силы, стоявшей на пути у неприятеля в столицу древнего княжества. Карие глаза князя глядели печально, чуть оттопыренная нижняя губа придавала его вытянутому лицу скорбное выражение. Он рассказал Комаровскому о последних минутах своего друга князя Багратиона, скончавшегося у него на руках. Последние слова князя Петра были: «Господи, спаси Россию!» Евграф Федотович, слышавший о ранении Багратиона во время сражения при Бородине, не знал, что он скончался, это известие тронуло его до глубины души. Москва взята, Багратиона больше нет! Да и Богородск уже в руках французов, добавил Голицын. Кутузов приказал ему отступать без боя в случае движения основных сил неприятеля к Владимиру, однако князь молил Бога, чтобы ему не пришлось выполнять этот приказ. Пока его ратники лишь конвоировали пленных, которых приводили гусарские и казацкие отряды, нападавшие на французских фуражиров, но кто знает, что будет завтра…
Во всех ямах на Московской дороге ямщики с негодованием спрашивали столичного генерала, отчего это государь собирает в ополчение помещичьих крестьян, а с них никого не берёт? Они бы дали из двух сыновей одного и не пожалели бы для них лучших лошадей! Прибыв в Тулу и посмотрев на конных ратников, которых с гордостью показал ему губернатор Богданов, Комаровский написал донесение государю о желании ямщиков служить против общего врага.
* * *
Худые щеки Христиана Ивановича Лодера обросли колкой седой щетиной, но бриться было недосуг: раненые всё прибывали и прибывали, их нужно было распределять – на срочную операцию, на перевязку, на дальнейшую транспортировку. Их были тысячи: с раздробленными костями, со страшными ранами в грудь и брюхо; многих доставили в Касимов из самого Смоленска, через Вязьму и Москву, не сделав за две недели не единой перевязки! В ранах копошились черви, их края почернели и источали зловоние; кроме того, почти все пациенты были крайне истощены, страдали от изнурительной лихорадки и нервных припадков: их везли осенью на телегах, зачастую на голых досках, без пучка соломы, едва прикрытых лохмотьями, почти нагих! Бедняг ограбили еще на поле сражения, когда они лежали там замертво, совершенно беспомощные. Лейб-медик уже знал: увидишь кого в драном армяке на голое тело, в дырявых чулках и без сапог – скорее всего, офицер.
Привычно сложив тонкие губы в легкую улыбку ради приветливого выражения лица, врач бегло осматривал раны, механически ставил диагноз, отдавал краткие распоряжения по-немецки, которые все госпитальные служители уже научились понимать.
Конечно, он занимался раньше хирургией и судебной медициной, сам преподавал эти дисциплины, но никогда не думал, что станет военным медиком: его больше привлекало акушерство, повивальное искусство – область, совершенно противоположная этой. За двадцать четыре года в Йене доктор Лодер подготовил множество врачей, построил новый анатомический театр, учредил родильный госпиталь, издал подробнейшие анатомические таблицы. Потом ему предложили должность профессора в университете Галле, он принял прусское подданство. Но шесть лет назад Галле был занят французами. Брат Наполеона, Жером Бонапарт, ставший королем Вестфалии, предложил служить ему; Лодер отказался и уехал в Кёнигсберг. Когда прусский король заключил союз с Наполеоном, доктор перешел в русское подданство и стал лейб-медиком императора Александра. Года полтора Христиан Иванович спокойно жил в Москве, занимаясь частной практикой, пока не началась война… Теперь он мотается между Касимовым, Меленками и Елатьмой.
– Nein! – резко крикнул он санитару, собиравшемуся напоить раненого с кровавой тряпкой на голове. – Operieren[2 - Нет! Оперировать (нем.).].
* * *
«Найдя столь долгое время изыскиваемое, но поныне еще не обнаруженное средство произвольно управлять летучею машиною, действие которой я в шести верстах от Москвы в присутствии многих зрителей показывал, от коих свидетельство отобрать можно, я ныне всеподданнейше умоляю Ваше Императорское Величество не пропускать ни малейшего времени, дабы сие важное дело сколь возможно поспешнее произведено могло быть в действие. Совершенно будучи уверен, что я впоследствии заслужу благоволение Вашего Императорского Величества по причине двукратно уже испытанного мною успеха в употреблении моей машины, всеподданнейше прошу мне позволить: оконченную уже мною в Москве малую машину, если не явится никаких чрезвычайных препятствий, здесь собрать, а не достающие к ней части вновь изготовить, потому что рама и нижняя часть, по причине весьма поспешной укладки, на что я только три часа имел времени, не могли быть увезены, но были истреблены при приближении неприятеля».
Перечитав еще раз перевод собственноручного донесения Франца Леппиха, сделанный с немецкого языка, граф Аракчеев вновь испытал неприятное чувство непонимания. Леппих – шарлатан, в этом уже не осталось никаких сомнений, к тому же еще и лгун: он наглым образом утверждает о двукратном успехе в «употреблении» своей машины, ссылаясь даже на неких свидетелей, тогда как из донесений графа Ростопчина ясно следовало, что его управляемый аэростат не то что не был испытан, но даже не смог подняться в воздух. Допустим, в Москве его могли использовать просто для отвлечения внимания обывателей, чтобы унять их тревогу при приближении французов, хотя игрушка оказалась слишком дорогой. Но почему же государь распорядился удовлетворить прошение «изобретателя»? «Отвести ему строение длиной 50 футов, шириной 22 фута и восемь других покоев, отапливаемые ежедневно. Позволить выбрать из адмиралтейского лесного магазина строевой лес для рамы и короба, набрать немецких столяров и слесарей из числа казенных работников. Отправить в Нижний Новгород курьера за баллоном, сеткой и другими вещами и мастеровыми. Выделить средства». Средства! Казна не бездонна, убытки неисчислимы, армия сейчас не имеет самого нужного, а государь хочет снова тратить тысячи на… фук? Но с другой стороны, Алексей Андреевич уже дважды выражал государю свои… сомнения по поводу леппиховой машины и слышал в ответ, что он глуп. Возможно, государь имеет свои виды, не доступные пониманию простых смертных. Кто такой Аракчеев, чтобы противиться его воле? Он всего лишь слуга государев и должен повиноваться ему беспрекословно.
Государь сейчас нездоров, раздражителен, замкнулся ото всех на Каменном острове. Не следует перечить ему и причинять еще большие неудобства.
Лакей доложил, что прибыл господин Шишков и просит принять его. Алексей Андреевич велел проводить государственного секретаря в его кабинет.
Шишков вошел мелкими шажками, распространяя вокруг себя сладковатый и малоприятный старческий запах, поклонился, попросил прощения за то, что обеспокоил его сиятельство: государь позволил ему переговорить с господином Яковлевым, недавно привезенным из Москвы, поскольку он – первый очевидец, прибывший в столицу. Аракчеев кивнул и лично проводил гостя в комнату, где помещался арестованный.
Ивана Алексеевича Яковлева привезли на Литейный под конвоем, с донесением от арестовавшего его генерала Винцингероде. Задержавшись в Москве из-за болезни родственника, Яковлев не успел выехать до вступления в нее французов, лишился крова из-за пожара, был вынужден ночевать со всеми домочадцами на площади, обратился к маршалу Мортье за пропуском, чтобы проследовать в свое имение, но такие пропуска выдавал только сам Наполеон. Узнав, что брат Яковлева, Лев, в свое время был русским посланником в Касселе, при дворе Вестфальского короля, Наполеон согласился его принять, говорил ему о своем желании заключить мир и дал письмо к императору Александру для передачи в собственные руки, сделав это условием выезда из Москвы. Письмо Яковлев отдал Аракчееву под расписку, и Алексей Андреевич доставил его государю, чем вызвал только его неудовольствие. Дальнейших распоряжений по поводу Бонапартова порученца не воспоследовало, он так и жил в здании военного департамента. Проводив к нему Шишкова, граф оставил их вдвоем.
У Яковлева было узкое, костистое лицо, вид замкнутый и нелюдимый. Шишкову не удалось разговорить его, на все вопросы Иван Алексеевич отвечал коротко и скупо, и всё же картина складывалась самая ужасная и безотрадная: Москва горит, пьяные неприятельские солдаты носятся по улицам, подобно варварской орде, истребляя припасы, грабя обывателей, рубя саблями безоружных, превращая храмы в конюшни… Вернувшись домой, Александр Семенович принялся составлять «свидетельство очевидца» для опубликования в газетах, но, как обычно, увлекся и отклонился от изображения фактов, пустившись в общие рассуждения:
«Сами французские писатели изображали нрав народа своего слиянием тигра с обезьяною; и когда же не был он таков? Где, в какой земле весь царский дом казнен на плахе? Где, в какой земле столько поругана была Вера и Сам Бог? Где, в какой земле самые гнусные преступления позволялись обычаями и законами? Взглянем на адские, изрыгнутые в книгах их лжемудрствования, на распутство жизни, на ужасы революции, на кровь, пролитую ими в своей и чужих землях: и слыхано ли когда, чтобы столетние старцы и не рожденные еще младенцы осуждались на казнь и мучение? Где человечество? Где признаки добрых нравов? Вот с каким народом имеем мы дело! И посему должны рассуждать, может ли прекращена быть вражда между безбожием и благочестием, между пороком и добродетелью? Долго мы заблуждались, почитая народ сей достойным нашей приязни, содружества и даже подражания. Мы любовались и прижимали к груди нашей змею, которая, терзая собственную утробу свою, проливала к нам яд свой, и, наконец, нас же за нашу к ней привязанность и любовь всезлобным жалом своим уязвляет. Не постыдимся признаться в нашей слабости. Похвальнее и спасительнее упасть, но восстать, нежели видеть свою ошибку и лежать под вредным игом ее. Опаснее для нас дружба и соблазны развратного народа, чем вражда их и оружие».
* * *
Орлов луг у Калужской заставы напоминал собой цыганский табор, только без кибиток и лошадей. Туда подходили всё новые погорельцы, садились своим кружком, сложив внутрь его узлы и сундучки, корзинки с младенцами и прочие пожитки. У кого-то и вовсе не осталось ничего, богатые обратились в нищих. Весь этот табор гудел, точно улей, в шум голосов вплетался лай собак. Время от времени из города возвращалась партия добытчиков, отправлявшихся за провизией – шарить по подвалам на пепелищах, подчищать разбитые лавки и кондитерские. Брать еду не грех: не помирать же с голоду, зато при виде узлов с крадеными вещами люди стыдливо отводили глаза: срам-то какой, Бога не боятся, у своих воруют! Но ничего не говорили и не совестили – не ровен час, еще прибьют. Бродить по подвалам отправлялись только удальцы: там можно было столкнуться с французами, промышлявшими тем же самым. Люди же робкого десятка ходили на огороды и приносили оттуда горькие огурцы, капусту, картошку и свеклу.
Господам что – фьють! Сели да поехали. И то еще, когда выезжать было разрешено только женщинам и детям, некоторые рядились в женское платье, подвязывая щеки – будто бы зубы болят, а на самом деле, чтобы скрыть бакенбарды. А дворня, почитай, вся осталась. Как пришли французы, люди фабриканта Баташёва бежали из усадьбы на Швивой горке за Яузу и там стали лагерем: посадили детей и жен в капустные грядки и охраняли их от грабителей. Приказчик их, Соков, храбрый человек оказался, дай Бог ему здоровья. Только засели они в капусте, как слышат – стоны неподалеку. Часть ребят побежали туда – ахти, Господи! Человек лежит весь в крови: ограбили, руки-ноги переломали, чуть до смерти не убили! Так Соков этот взял с собой мужиков покрепче, да с дубьем, и пошел в кусты, куда скрылись злодеи. А там сидят человек двенадцать – все с подвязанными руками и головами, якобы раненые, а это разбойники и есть! Не французы – наши! Баташёвские их отметелили как следует, а потом нашли в воде, среди осоки, множество разного платья и прочих вещей.
На подобные рассказы всегда отвечали своими историями, одна горше другой. Спасаясь от огня, погорельцы скучились на Полянском рынке вокруг фонтана, ища защиты у святителя Григория Неокесарийского, а злодеи тут как тут: узлы разрывали, отыскивая драгоценности, с мужчин снимали сапоги, одежду, вытаскивали из карманов часы и табакерки, с женщин срывали платки, шали, а то и платья, серьги выдергивали прямо из ушей, кольца с пальцами отрубали, – крику-то, шуму, и огонь гудит, и ветер завывает… А баб сколько ссильничали! Девушек, совсем молоденьких! К одной барышне француз приставал, она не давалась, плакала, служанка вызвалась вместо нее, так они ее вдвоем… Мало им шалав мокрохвостых, которые к ним слетелись, как мухи на мед! На улицах девочек десятилетних находили… В Алексеевском монастыре над монахиней надругались… А в Зачатьевском – там больше старушки, их не тронули. Игуменья пошла к кавалерийскому полковнику французскому, барону Талуэ, просила его защитить их. Он ей и говорит: я-то сделаю всё, что могу, но знайте, что я нарушу приказ моего начальства – грабить нынче дозволено.
Если французам попадешься, это еще ничего. К одному чиновнику в дом залезли, стали везде шарить, глядь – на них детишки в щелку смотрят, любопытствуют. Так они на другой день туда вернулись и детишкам игрушек принесли – должно, в какой-то лавке взяли. У профессора университетского жена рожала – они мимо прошли на цыпочках и ничего женского не взяли, только вещи мужа с собой унесли. А сколько раз уже бывало: выйдут французы из какого дома, набив мешок всякой всячиной, увидят кого из наших на улице, сейчас захватят и велят нести мешок до своей квартиры, но уж с пустыми руками не отпустят – накормят, напоят, а когда и с собой чего съестного дадут или деньгами наградят. Одного так заставили сундук тащить в даль дальнюю, а как дотащил, говорят: ступай, мол, с богом, а он им: как же я пойду? Ваши же опять меня схватят! Так они ему выписали бумагу на своем языке – иди, говорят, и ничего не опасайся. И точно: пошел он, наехали на него конные, он им бумагу показал, они отпустили его и ничего не взяли. Но это на кого нарвешься. Не приведи Господь, на поляков или на немцев, тут уж спуску не дадут, беспардонное войско – их ни слезами, ни мольбами не проймешь. Люди говорят, их и пуля не берет. Но обидней всего, конечно, когда свои своих же грабят и обижают, точно нехристи какие.
Как Гостиный двор-то загорелся, так туда купцы поехали прямо на бричках и ну набивать их всяким товаром – да только не свой спасали, а чужой прикарманивали. Потом чуть не передрались между собой, как добычу делили. А уж если купцы так поступают, то крестьяне чем лучше? И они Гостиный двор чистили, таскали всё, что под руку попадется. Двое дворовых ходили туда, как на промысел: набрали себе меду, рыбы, церковных книг и прочего, а потом еще наткнулись на трех крестьян с шалями и платками и забрали всё себе. Ни стыда у людей, ни совести…
* * *
На Красной площади, под стенами Кремля, гудел стихийный рынок – солдаты выменивали друг у друга то, что удалось спасти из огня. Семейные охотились за мехами и кашемировыми шалями, обещанными в подарок женам (в Париже их не найти), и готовы были отдать за них золотые вещи или шелка, любители присматривали себе картины и книги, предлагая за них копченую рыбу и макароны. Здесь можно было раздобыть покрытые пылью и паутиной бутылки с вином и коньяком такой выдержки, что во Франции они бы стоили целое состояние, диковинные желто-зеленые шишки ананасов, которых многие солдаты прежде не только не пробовали, но и не видывали, коробки с инжиром, чай, кофе, сахар, шоколад… Вот только белого хлеба, свежего мяса, другой привычной еды с каждым днем становилось всё меньше.
В городских домах вельмож, напоминавших загородные усадьбы, поселились самые нахрапистые. Дезидерий Хлаповский, командир эскадрона из 1-го уланского полка, занял дворец князя Лобанова на Мясницкой, а генерал Красинский – еще более роскошный дом купца Барышникова напротив, с обнесенным решеткой двором. Из домов не успели вывезти мебель, и поляки отдыхали на удобных широких кроватях с сафьяновыми матрасами; выйдя же из дому через заднюю дверь, они словно попадали в деревню: там были сад с оранжереей, огород, сеновалы… В пристройках оказалось около сотни человек – дворовых, крестьян, мастеровых. Они были согласны готовить еду, чинить или шить одежду и обувь, исполнять иные привычные для них обязанности, лишь бы их не трогали.
В доме одного немецкого купца разместились двенадцать итальянских офицеров. По утрам из окон можно было смотреть, как гвардия строится под полковую музыку для парада. Гренадеры быстро навели уют, раздобыв где-то скатерти и всякую домашнюю утварь; из муки, найденной на пепелищах, пекли вкусный домашний хлеб; по совету поляков, квасили на зиму капусту. За обедом поднимали тост за благополучное окончание нынешней кампании и скорейшее взятие Санкт-Петербурга в следующем году. Единственное, что омрачало настроение кавалеристов, – недостаток фуража, от которого лошади гибли сотнями.
Двадцатилетний лейтенант Поль Бургуэн стоял у окна с неожиданной находкой: в огромной библиотеке московского градоначальника Ростопчина, который не успел спалить свой собственный дом (в печных трубах нашли кадки с ракетами, порохом и смолой), он обнаружил книгу своего отца – «Исторические и философские записки о Пие VI и его правлении вплоть до его удаления в Тоскану». Поль перелистывал страницы, но буквы расплывались из-за слез, внезапно навернувшихся на глаза. Отец… Такой добрый, простой, всегда веселый, неунывающий, неутомимый… Он умер в прошлом году. Пять лет назад брат Арман проявлял чудеса храбрости под Остроленкой, чтобы попросить в награду за свой подвиг новую должность для отца, который угодил в опалу, неловко предсказав желание Наполеона возложить себе на голову корону. Бургуэна-старшего тогда отправили чрезвычайным послом в Дрезден к Фридриху-Августу Саксонскому, чтобы присматривать за польскими делами[3 - Саксонский король одновременно являлся великим герцогом Варшавским.]. Он начал писать мемуары, предназначавшиеся единственно для его сыновей, но успел окончить только первые пять глав. Теперь уже никакой подвиг не вернет его из могилы…
Несколько легкораненых, выпущенных из Воспитательного дома, пытались отнять у русского мешок с капустой; Анри Бейль выхватил саблю и прогнал их; русский бросился наутек со своим мешком, а Бейль продолжал свой путь.
Он сам предложил Пьеру Дарю подобрать новую квартиру для интендантства взамен дома Апраксиных, который был сильно разграблен под предлогом тушения пожара: Анри требовался повод, чтобы колесить по городу, бросив свои скучные занятия. Разумеется, все хорошие дома оказались заняты. Маршал Мюрат, вынужденный бежать из роскошного дворца какого-то промышленника на Швивой горке, расположился теперь в имении графа Разумовского на берегу Яузы; чудом уцелевший дом князя Куракина, русского посланника в Париже, отдали раненому генералу Нансути. Этот дворец на Басманной поджег полицейский; дворецкий с четырьмя лакеями схватили его, избили палками и отвели к французам, которые тушили дом князя Трубецкого; поджигателя тотчас расстреляли. Аудитор Госсовета продолжал объезжать усадьбы, справляясь об их бывших владельцах.
Всё воодушевление от нового похода, с которым Анри выехал в путь в конце июля, нагруженный письмами и посылками для императора, испарилось за несколько дней на жаре, в пыли, среди грязи, вони и тупоголовых остолопов, нечистоплотных во всех смыслах этого слова. Как это было не похоже на самый первый его поход, двенадцать лет назад! Правда, тогда он был восторженным семнадцатилетним юнцом, для которого всё было внове: он только учился ездить верхом и обращаться с саблей, чуть не утонул в озере, чуть не свалился в пропасть во время перехода через перевал Сен-Бернар, но именно чувство опасности больше всего опьяняло вчерашнего ребенка, которого всегда чрезмерно опекали. А еще величественные пейзажи Швейцарии: горы, ледники, ущелья… Потом он увидел Милан и тотчас влюбился в этот город, где было красиво всё: дома, кофейни, женщины, театр – так тепло, шумно, приветливо, не то что в холодном тщеславном Париже! Все его приятели обзавелись там любовницами, и только он был слишком застенчив, чтобы заговорить с женщиной, не требовавшей денег за свои поцелуи. Платой за робость стала дурная болезнь, из-за которой младший лейтенант драгунского полка покинул армию. Прозябать в провинциальном гарнизоне? Не так лейтенанты артиллерии становятся императорами, а сыновья лавочников – маршалами Империи.
Скряга-отец назначил Бейлю слишком скудное содержание; на эти деньги было невозможно утолять духовную жажду и одновременно подвизаться в свете, возмещая искусством портного недостатки внешности, полученной от природы. Впрочем, его кузен Пьер Дарю, госсекретарь, тоже был далеко не красавец, и придворный костюм шел ему, как корове седло, однако он сумел пробиться в ближний круг, стал графом и великим офицером ордена Почетного легиона, а его брат Марсьяль Дарю теперь звался бароном. Оба не скрывали своего презрения к Анри, вечно витавшему в облаках, мечтая об успехах и наградах самого разного рода; его неудачная попытка сделаться банкиром в Марселе не улучшила их мнения о кузене, но родня есть родня, и вскоре Анри Бейль уже ехал с Марсьялем Дарю в Германию.
Наполеон был где-то впереди и одерживал победы, военный комиссариат тащился по его следам из Майнца в Вюрцбург, из Вюрцбурга в Бамберг… Йена, Прейсиш-Эйлау, Фридланд – для интендантства громкие победы означали только требования немедленно подвезти боеприпасы, перенаправить обозы с провиантом, вывезти раненых, устроить госпитали… Когда Пьер Дарю выехал в Эрфурт – готовить встречу императоров Франции и России, – его кузен Бейль остался в Брауншвейге.
Стендаль… Вообще-то Штендаль, но Стендаль, а еще лучше – Стандаль звучит гораздо красивее. В этом небольшом городке Анри пережил безумную страсть с Вильгельминой фон Грисхайм. Но в остальном ему не нравилось в Германии, ему опротивели черный хлеб и тушеная капуста с пивом – совершенно отупляющая диета, особенно вкупе с пуховыми перинами. Врач подтвердил, что у него сифилис, и рекомендовал лечиться в Париже, но австрийцы перешли в наступление, Бейль вернулся к своим обязанностям, видел пожиравший людей пожар Эберсберга, вступление Наполеона в Вену… Вена! Музыка, изящество, скука… Анри отправил прошение о своем переводе в Испанию, но, не дождавшись ответа, уехал в Париж.
Его назначили аудитором при Государственном совете и поручили составить опись произведений искусства в императорских музеях и дворцах. Он стал подписываться «Анри де Бейль», купил себе модный кабриолет, заказал печатки со своими инициалами, взял в любовницы оперную певицу, но оказалось, что когда у тебя всё есть, то не о чем мечтать. Он взял отпуск на «несколько дней» и… уехал в Милан. Потом в Болонью, во Флоренцию…
В Риме он столкнулся нос к носу с Марсьялем Дарю, который поторопил его с возвращением из затянувшегося отпуска, а то Пьер уже рвет и мечет. Однако Анри прежде побывал в Неаполе, Помпеях, Парме… Как гнусно, что люди способны опошлить всё, что ни есть великого на свете, будь то Неаполитанский залив, Колизей или трагедия Геркуланума.
Пылающий Смоленск стал прелюдией к великому, эпическому пожару покинутой Москвы. Огромная огненная пирамида упиралась своей верхушкой в небеса, под самым серпом луны, и в этом было что-то ветхозаветное, мистическое, сверхъестественное. Но даже такое величественное зрелище не внушило никакого трепета мелочным душонкам мародеров, сновавшим, точно крысы, по дворцам, где с жалобным звоном лопались стекла от страшного жара. Товарищи Бейля запасались вином, поскольку это лучшее средство от поноса. Единственной добычей Анри стал томик «Анекдотов» Вольтера.
Москва потрясла его своей роскошью, отданной на поругание, – не холодной, тщеславной, показной, а созданной для удобства и приятности жизни, что еще увеличивало горечь утраты. В Вене люди с ежегодным доходом в сто пятьдесят тысяч франков всю жизнь серьезны и помышляют лишь о кресте ордена Святого Стефана; в Париже они из кожи вон лезут, чтобы потешить свое тщеславие, и на дух не выносят друг друга; в Лондоне они желают играть роль в правительстве, а здесь, в России, при деспотическом правлении, они купаются в наслаждениях и забавляют гостей… вернее, так было до самого прихода французов.
В разгар московских пожаров Бейль ехал в дрожках по Пречистенскому бульвару. Группа оборванцев, спасавшихся пешком, громко говорила по-французски. Анри велел кучеру остановиться; это были актеры французской труппы, которые прежде выступали в Арбатском театре, ныне пылавшем, как свеча. На трагике была фризовая шинель и какой-то нелепый колпак, на комике – семинарский сюртук и треуголка, «благородный отец» был в штанах, а «злодей» – без оных, зато в ботфортах, несколько человек шли босиком, один, совершенно голый, завернулся в плащ своего товарища. Среди актеров была и дама – в красном жакете на меху, доходившем ей до колен, но без единой юбки. Анри предложил ей занять место в его коляске. О Боже! Аврора Бюрсе! Это с ее труппой в Россию уехала Мелани Гильбер – его Луазон! Волнуясь, Анри назвал себя; мадам Бюрсе сказала, что много слышала о нём от мадемуазель Сент-Альб. Она здесь? Жива? Увы, мадам Бюрсе ничего о ней не знает: Мелани давно покинула сцену и вышла замуж за какого-то русского генерала.
Мелани! Они вместе брали уроки декламации у Дюгазона (который потом сошел с ума и умер). Это было семь лет назад… Голубоглазый белокурый ангел меланхолии с такой же нежной душой, как у Анри. Они виделись каждый день, целовались, но и только: Мелани боялась снова забеременеть. Зато с ней он начал привыкать к счастью. Она получила роль в Большом театре Марселя, он приехал туда к ней. За семь месяцев он вновь разочаровался в себе и в жизни, к тому же разорился; Марсель стал казаться ему скучным, слезливое тиранство Мелани – несносным, он сбежал от нее в Германию, а она подписала ангажемент с труппой мадам Бюрсе.
В Петербурге труппа не произвела впечатления, ее отправили в Москву, и только мадемуазель Сент-Альб (сценическое имя Мелани) осталась в столице и появлялась вместе с мадемуазель Жорж в «Ифигении в Авлиде». Русская публика не оценила чувствительности, которую Мелани вкладывала в свою игру, называя ее плаксивостью, к тому же Луазон никогда не отличалась крепким здоровьем. Она расторгла контракт «по болезни». Хотя, скорее всего, это муж заставил ее покинуть сцену. Кстати, кто этот муж? Где они жили с Мелани: в Москве или в Петербурге? Этого мадам Бюрсе сказать не могла, у нее было полно своих хлопот. Ее брата Армана Домерга арестовали еще в августе и выслали на барже куда-то «в Азию» вместе с другими «подозрительными», а его жена с маленьким сыном осталась в Москве. Актеров ограбили дважды: сначала русские, перед тем как покинуть Москву, а после французы; у них не осталось ничего, совершенно ничего – как им теперь жить? Бейль обещал поговорить о них с Дарю, он что-нибудь придумает.
Пьер действительно придумал. В двух кварталах от дома Апраксиных, где он по-прежнему квартировал, обнаружился почти не разграбленный угловой особняк с роскошным шестиколонным портиком, во внутреннем дворе которого был возведен двухэтажный театральный зал со сценой, оборудованной настоящими машинами. (И как это Анри его пропустил? Кхм.) Мародеры умыкнули занавес и люстру, но всё остальное цело, у входов поставили караулы. Император будет доволен, если в Москве появится французский театр. Пусть там играют комедии и водевили для развлечения гвардии. Генерал-интендант граф Дюма нашел в Кремле несколько сундуков с царской одеждой – сойдет для костюмов; занавес можно смастерить из церковной парчи и люстру взять тоже из собора. Пусть разучат какую-нибудь известную пьесу… Например, «Игру любви и случая» Мариво. Вход будет платным, все сборы – на пропитание актерам.
* * *