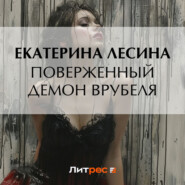По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бабочка маркизы Помпадур
Автор
Серия
Год написания книги
2013
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А его бросили.
От обиды, несправедливости он запил. Ну и от злости тоже, потому как выходило, что все его мучения – зряшные. И пил с неделю, скорее из упрямства, потому как обида не отпускала даже во хмелю. А протрезвев, поклялся больше не связываться со стервами.
Но стали сниться бабочки.
Золотые. С острыми крыльями, рассекавшими руки до крови. И Карин голос, требовавший найти. Ну а потом вот посылка… и как-то сразу стало понятно, что Кара не сама ушла. И что вряд ли она вернется. Тогда-то и появился план.
Единственное, чего Леха не учел, – того, что Алина будет… такой.
И даже не сама она.
Ее отец запросто с Лехой коньяк пил. А мама утром блинчиков нажарила, тонких, невесомых каких-то. А потом галстук помогала выбирать, потому что предыдущий, по ее мнению, с Лехиным образом не сочетался. Он и знать не знал, что у него образ имеется.
Но стоял тихо, позволяя завязывать галстук за галстуком, мучаясь совестью, что втягивает их в свои дела. И тут же давал себе слово: Алину обидеть не даст.
И развестись с ним не позволит.
Конечно! Леха даже просиял от такой мысли. Договорчика-то они не подписывали. И значит, Алина для всех взаправду женой будет. Ни один суд не разведет с первого раза… и вообще не разведет.
Леха умеет беречь то, что принадлежит Лехе. Осталось убедить в этом Алину. Ну и Алинину бабку.
Если Вероника Сергеевна показалась Лехе строгой, то Елизавета Александровна и вовсе взглядом выморозила. Она была высокой, худой и какой-то ледяной от макушки до самых пяток. Снежная королева просто. В старости. И возраста не скрывает.
– Свадьба – это хорошо, – а по голосу ее и не скажешь, что рада. – Несколько поспешно, однако… с другой стороны, твой прадед, Алина, вовсе жену из отчего дома умыкнул и в ближайшей церкви к венцу повел. Решительным был… весьма.
Леху усадили в кресло, все такое изогнутое и очень ненадежное с виду. Повернуться страшно – еще поломаешь и точно беды не оберешься. Старуха села напротив и, водрузив на нос очки, разглядывала Леху. Он терпел.
– Интересный экземпляр.
– Бабушка!
– Мама, вы и в самом деле несколько перебарщиваете, – нарушила молчание Вероника Сергеевна. – Алексей – достойный молодой человек.
Бабы за Леху еще не заступались.
– Эмоциональный очень, – покачала головой Елизавета Александровна. – Но возможно, и к лучшему. Свежая кровь – единственное лекарство от вырождения.
Леха ничего не понял, кроме того, что старуха его одобрила.
Вот как выходит? Он платит за все. И с Алькой договорился. Но трясется, будто бы и вправду нищеброд с большой дороги.
– Что ж, Алина, надеюсь, ты представишь своего супруга собранию.
Еще и собранию? Нет, Леха собраний никаких собирать не собирается. И Алина, похоже, придерживалась мнения сходного.
– Да ни в жизни! Ба, извини, но твои представления – морально устарели. Я это повторяла и буду повторять. Сейчас другой мир.
– Конечно.
Одно слово, а Леха осознал, что нынешний мир, с точки зрения старухи, вовсе не достоин существования. И собственную ничтожность. И вообще испытал острое желание расстаться с этой никчемной жизнью. Он головой тряхнул, от наваждения отделываясь. И пальцы за спиной сцепил.
– Ты можешь думать так, как тебе удобнее. Но я рада, что род Заславских не прервется. Жаль, конечно, что прямого наследника нет, но, полагаю, в нынешних обстоятельствах будет возможна передача титула твоим, Алина, детям.
– Какого титула?
Леха понял, что еще немного, и он вообще свихнется.
– То есть, Алина, ты и рассказать не удосужилась? Меня это крайне огорчает.
Старуха поднялась, и Леха тоже вскочил, до того неправильным показалось ему сидеть, когда она на ногах.
– А вы не так безнадежны, – Елизавета Александровна протянула руку. И Леха, не смея оскорбить ее рукопожатием, поцеловал сухие пальчики. От кожи пахло яблоками.
И желая дать дочери все, что мог, – а возможности его были велики, – Норман нанял учителей.
– Пусть говорят, что женщине достаточно быть женщиной, – пояснил он Жанне свое решение, – но ты не сможешь быть разной, разного не зная.
Помимо музыки и пения, чтения и письма, математики, которую Жанне преподавали отнюдь не по женскому курсу, ей приходилось изучать языки, географию, историю, логику, риторику. И здесь-то выяснилось, что Жанна-Антуанетта обладает цепкой памятью и прекрасно развитым умом.
– Не будь она женщиной, – сказал как-то преподаватель риторики, – сумела бы стать выдающимся политиком. У нее дар убеждения.
– Уверен, – отвечал ему отец, – что у Жанны своя судьба.
По просьбе матери, которая, на время позабыв о собственном горе, принялась вдруг воспитывать дочь, он нанял одну старую деву, весьма известную строгостью манер, и Жанне вновь пришлось постигать искусство быть женщиной.
Ходить. Садиться. Вставать. Покидать комнату так, чтобы оставшиеся в ней не ощутили грубости. Вести себя за столом… в присутствии особ высшего чина… равного…
Пожалуй, это было сложнее трактатов о политике.
Но Жанна старалась. И усилия ее приносили плоды: отражение в зеркале переставало вызывать отвращение, напротив, Жанна стала видеть себя… иной.
Ее глаза были красивы. И рот имел неправильные, но интересные очертания. Лоб был высок, а нос довольно изящен. Шея была мягка и тонка, а плечи – округлы. Волосы, прежде некоего неясного цвета, обрели приятнейший оттенок шоколада, столь удивительно сочетавшийся с белоснежным тоном кожи.
О да, бабочка изволила появиться.
Ее обучение, да и вся прошлая беспечная детская жизнь завершилась в тот день, когда отец появился в сопровождении хмурого господина самого солидного вида. Этот господин имел трость и высокий парик, напудренный столь тщательно, что казался седым. Черты его лица были благородны, но выражение брезгливого недоумения портило их.
Жанну-Антуанетту, которую для этой встречи нарядили в лучшее платье, он разглядывал долго, пристально, переставляя стекло монокля из одной глазницы и другую.
Жанна стояла, не смея шелохнуться. Она чувствовала некоторую неуверенность отца, и это пугало ее, ведь Норман никогда прежде не демонстрировал этого чувства.
Господин же, обойдя вокруг Жанны, сказал:
– Хорошо. Она подходит.
И после чего удалился степенно походкой человека, который точно никуда не спешит, потому как слишком важен для суетных забот. После его ухода в доме случилось беспокойство. Матушка – ей не позволено было присутствовать – выбежала из соседней комнаты, желая обнять дочь. Луиза Мадлен выглядела совершеннейше счастливой, отчего будто бы помолодела.
– Ах, дорогая, тебе так повезло, так повезло…
От обиды, несправедливости он запил. Ну и от злости тоже, потому как выходило, что все его мучения – зряшные. И пил с неделю, скорее из упрямства, потому как обида не отпускала даже во хмелю. А протрезвев, поклялся больше не связываться со стервами.
Но стали сниться бабочки.
Золотые. С острыми крыльями, рассекавшими руки до крови. И Карин голос, требовавший найти. Ну а потом вот посылка… и как-то сразу стало понятно, что Кара не сама ушла. И что вряд ли она вернется. Тогда-то и появился план.
Единственное, чего Леха не учел, – того, что Алина будет… такой.
И даже не сама она.
Ее отец запросто с Лехой коньяк пил. А мама утром блинчиков нажарила, тонких, невесомых каких-то. А потом галстук помогала выбирать, потому что предыдущий, по ее мнению, с Лехиным образом не сочетался. Он и знать не знал, что у него образ имеется.
Но стоял тихо, позволяя завязывать галстук за галстуком, мучаясь совестью, что втягивает их в свои дела. И тут же давал себе слово: Алину обидеть не даст.
И развестись с ним не позволит.
Конечно! Леха даже просиял от такой мысли. Договорчика-то они не подписывали. И значит, Алина для всех взаправду женой будет. Ни один суд не разведет с первого раза… и вообще не разведет.
Леха умеет беречь то, что принадлежит Лехе. Осталось убедить в этом Алину. Ну и Алинину бабку.
Если Вероника Сергеевна показалась Лехе строгой, то Елизавета Александровна и вовсе взглядом выморозила. Она была высокой, худой и какой-то ледяной от макушки до самых пяток. Снежная королева просто. В старости. И возраста не скрывает.
– Свадьба – это хорошо, – а по голосу ее и не скажешь, что рада. – Несколько поспешно, однако… с другой стороны, твой прадед, Алина, вовсе жену из отчего дома умыкнул и в ближайшей церкви к венцу повел. Решительным был… весьма.
Леху усадили в кресло, все такое изогнутое и очень ненадежное с виду. Повернуться страшно – еще поломаешь и точно беды не оберешься. Старуха села напротив и, водрузив на нос очки, разглядывала Леху. Он терпел.
– Интересный экземпляр.
– Бабушка!
– Мама, вы и в самом деле несколько перебарщиваете, – нарушила молчание Вероника Сергеевна. – Алексей – достойный молодой человек.
Бабы за Леху еще не заступались.
– Эмоциональный очень, – покачала головой Елизавета Александровна. – Но возможно, и к лучшему. Свежая кровь – единственное лекарство от вырождения.
Леха ничего не понял, кроме того, что старуха его одобрила.
Вот как выходит? Он платит за все. И с Алькой договорился. Но трясется, будто бы и вправду нищеброд с большой дороги.
– Что ж, Алина, надеюсь, ты представишь своего супруга собранию.
Еще и собранию? Нет, Леха собраний никаких собирать не собирается. И Алина, похоже, придерживалась мнения сходного.
– Да ни в жизни! Ба, извини, но твои представления – морально устарели. Я это повторяла и буду повторять. Сейчас другой мир.
– Конечно.
Одно слово, а Леха осознал, что нынешний мир, с точки зрения старухи, вовсе не достоин существования. И собственную ничтожность. И вообще испытал острое желание расстаться с этой никчемной жизнью. Он головой тряхнул, от наваждения отделываясь. И пальцы за спиной сцепил.
– Ты можешь думать так, как тебе удобнее. Но я рада, что род Заславских не прервется. Жаль, конечно, что прямого наследника нет, но, полагаю, в нынешних обстоятельствах будет возможна передача титула твоим, Алина, детям.
– Какого титула?
Леха понял, что еще немного, и он вообще свихнется.
– То есть, Алина, ты и рассказать не удосужилась? Меня это крайне огорчает.
Старуха поднялась, и Леха тоже вскочил, до того неправильным показалось ему сидеть, когда она на ногах.
– А вы не так безнадежны, – Елизавета Александровна протянула руку. И Леха, не смея оскорбить ее рукопожатием, поцеловал сухие пальчики. От кожи пахло яблоками.
И желая дать дочери все, что мог, – а возможности его были велики, – Норман нанял учителей.
– Пусть говорят, что женщине достаточно быть женщиной, – пояснил он Жанне свое решение, – но ты не сможешь быть разной, разного не зная.
Помимо музыки и пения, чтения и письма, математики, которую Жанне преподавали отнюдь не по женскому курсу, ей приходилось изучать языки, географию, историю, логику, риторику. И здесь-то выяснилось, что Жанна-Антуанетта обладает цепкой памятью и прекрасно развитым умом.
– Не будь она женщиной, – сказал как-то преподаватель риторики, – сумела бы стать выдающимся политиком. У нее дар убеждения.
– Уверен, – отвечал ему отец, – что у Жанны своя судьба.
По просьбе матери, которая, на время позабыв о собственном горе, принялась вдруг воспитывать дочь, он нанял одну старую деву, весьма известную строгостью манер, и Жанне вновь пришлось постигать искусство быть женщиной.
Ходить. Садиться. Вставать. Покидать комнату так, чтобы оставшиеся в ней не ощутили грубости. Вести себя за столом… в присутствии особ высшего чина… равного…
Пожалуй, это было сложнее трактатов о политике.
Но Жанна старалась. И усилия ее приносили плоды: отражение в зеркале переставало вызывать отвращение, напротив, Жанна стала видеть себя… иной.
Ее глаза были красивы. И рот имел неправильные, но интересные очертания. Лоб был высок, а нос довольно изящен. Шея была мягка и тонка, а плечи – округлы. Волосы, прежде некоего неясного цвета, обрели приятнейший оттенок шоколада, столь удивительно сочетавшийся с белоснежным тоном кожи.
О да, бабочка изволила появиться.
Ее обучение, да и вся прошлая беспечная детская жизнь завершилась в тот день, когда отец появился в сопровождении хмурого господина самого солидного вида. Этот господин имел трость и высокий парик, напудренный столь тщательно, что казался седым. Черты его лица были благородны, но выражение брезгливого недоумения портило их.
Жанну-Антуанетту, которую для этой встречи нарядили в лучшее платье, он разглядывал долго, пристально, переставляя стекло монокля из одной глазницы и другую.
Жанна стояла, не смея шелохнуться. Она чувствовала некоторую неуверенность отца, и это пугало ее, ведь Норман никогда прежде не демонстрировал этого чувства.
Господин же, обойдя вокруг Жанны, сказал:
– Хорошо. Она подходит.
И после чего удалился степенно походкой человека, который точно никуда не спешит, потому как слишком важен для суетных забот. После его ухода в доме случилось беспокойство. Матушка – ей не позволено было присутствовать – выбежала из соседней комнаты, желая обнять дочь. Луиза Мадлен выглядела совершеннейше счастливой, отчего будто бы помолодела.
– Ах, дорогая, тебе так повезло, так повезло…