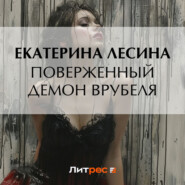По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вечная молодость графини
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конечно. Красникина была дурой. Красивой, отлакированной дурой. И он не мог не видеть ее тупости.
– …но я люблю Таню.
Сволочь!
– Неправда.
– Правда.
– Нет! Я знаю! Я видела! Да, я все видела! И я…
– Ты ничего не видела, – он хватает ее за руку и выкручивает. Больно! – Сядь. Слушай. Ты следила за мной? И за ней?
Да! Следила! И что с того? Это унизительно, но любовь не знает унижений!
– Ты следила за нами, – он заставляет Мэри сесть. Говорит спокойно, равнодушно даже. – Ты видела, как мы поссорились. Я был неправ. Теперь я понимаю, что был неправ. Таня очень переживала из-за Оленьки. А я не понимал. Мне казалось, что это ненормально так переживать, будто она сходит с ума или уже сошла, но… теперь я схожу с ума. Я тебя отпущу, но обещай выслушать.
Мэри кивнула и, когда он разжал руку – на запястье остался широкий красный след, – спросила:
– Зачем ты ее убил?
– Я?
– Ты. Вы поссорились. Я слышала. Ты ушел. А потом вернулся. Ты заставил ее что-то выпить. Угрожал, что если она не выпьет, то между вами – все. Она согласилась. Выпила. А на следующий день умерла.
– Это было успокоительное! Я хотел, чтобы она наконец заснула!
Оправдывается. Кричит. Пускай. Он причинил Мэри боль после того, как Мэри призналась в своей любви; рискнула прийти на встречу с убийцей? Сама готова была пойти на преступление ради него? И вот после всего этого он ее отверг?
Маша бы плакала в подушку, а Мэри отомстит. И будет хохотать, глядя на его мучения. А потом, уже после суда, подойдет и, заглянув в глаза, скажет:
– А все могло быть иначе!
– Что? – спросил он, вырывая из мечты.
– Ничего. Ты ее убил. Если успокоительное, то зачем ты так старательно мыл стакан? Дважды или трижды. А потом еще салфеткой протер. Чтобы отпечатков не осталось, да?
Мэри знала, что права, и ей приятно было видеть страх на его лице.
– И часики… красивые, правда? – она подняла рукав, демонстрируя находку. – А она их выбросила. Зачем? Ты подарил, а Танька взяла и…
– Отдай.
– Не-а. Я их нашла. Теперь они мои.
– Нет.
Упрямый. И пускай. Мэри тоже упряма. Он растоптал ее сердце, и значит, сам навлек на себя будущие беды.
– Ты ей был не нужен! Никто не нужен! И вообще она ненормальная! А еще гребень украла! Мой гребень!
Он не позволил договорить. Вскочив, схватил за горло. Сдавил пребольно, и Мэри, растерявшись, забилась в его руках. Она дергалась, пытаясь разжать пальцы, и хрипела.
Когда затихла, почти потеряв сознание, он отпустил. Выбросил из-под навеса на дождь и, наклонившись, снял часики. Постоял – Мэри видела его силуэт в мареве дождя. Носком ботинка повернул голову на бок и громко, чтобы наверняка услышала, сказал:
– Будешь про меня и Таньку гадости говорить, прибью. Поняла?
Мэри поняла. Мэри ушла, выпуская Машу, и уже Маша плакала, мешая слезы с дождем. А он ушел. Влажно чавкали по грязи ботинки. Звук стихал, а после и вовсе исчез. Маша кое-как поднялась. Саднило горло. С мокрых, слипшихся прядей стекала вода, прямо за шиворот. И джинсы тоже промокли. И трусики. И вся она, от носа до пяток.
Мама рассердится.
И подружка ее обругает за попорченную блузку. И все это несправедливо! Нельзя любить без взаимности! Нельзя поступать так с теми, кто любит!
Маша, взобравшись на насыпь, с которой кидала камушки, села. Она сняла куртку, пальцами разодрала влажные пряди – чертов лак склеил намертво – и набрав в ладонь воды, плеснула на лицо. Потом просто сидела, позволяя дождю смывать грязь, и смотрела на реку.
Не услышала.
Когда дождь шумит, то ничего не слышно.
И теней почти нет. В какой-то миг стало очень больно – не сердцу, но отчего-то затылку – и Маша растерялась. А потом умерла.
И умерев, не видела, как убийца садится рядом и начинает расчесывать волосы. Старинный гребень застревает в склеенных лаком прядях, и убийца сердится, дергает, выдирая пряди. Подхваченная пальцем капля крови размазывается по длинным зубьям гребня. А сам он исчезает в пластиковом пакете.
Спустя четверть часа дождь смывает все следы.
Алина сидела перед зеркалом, придирчиво изучая свое отражение. Определенно, следовало согласиться на предложения доктора Манихова. Ботокс почти не помогает. Морщины на лбу отвратительны, линии щек утратили выразительность, а подбородок поплыл, намечая складочку.
Зато шея хороша.
И руки тоже.
Грудь вот не мешало бы поднять, но только поднять – никаких имплантатов. Живот плоский, мускулистый, но умеренно.
Алина знала, как важна умеренность.
А с ягодицами беда. Всегда были слабым местом. Пышные, но невыразительные, они охотно принимали лишние килограммы. И с бедрами делились. Но липосакция… Алина сомневалась.
В дверь постучали. Поспешно набросив халат, Алина крикнула:
– Войдите.
Анечка. Вошла боком, замерла на пороге, потупив глазки. Умная девочка, но порой переигрывает.
– А Сережи дома нет, – шепотом сказала она. – Ушел, и все. Я ему говорила, что теперь мы должны держаться вместе, а он ушел…
– Милая, ябедничать на брата – некрасиво.
На Анечкином личике мелькнуло раздражение. Неужели и вправду думала, что сумеет провести Алину? Мала еще.
– …но я люблю Таню.
Сволочь!
– Неправда.
– Правда.
– Нет! Я знаю! Я видела! Да, я все видела! И я…
– Ты ничего не видела, – он хватает ее за руку и выкручивает. Больно! – Сядь. Слушай. Ты следила за мной? И за ней?
Да! Следила! И что с того? Это унизительно, но любовь не знает унижений!
– Ты следила за нами, – он заставляет Мэри сесть. Говорит спокойно, равнодушно даже. – Ты видела, как мы поссорились. Я был неправ. Теперь я понимаю, что был неправ. Таня очень переживала из-за Оленьки. А я не понимал. Мне казалось, что это ненормально так переживать, будто она сходит с ума или уже сошла, но… теперь я схожу с ума. Я тебя отпущу, но обещай выслушать.
Мэри кивнула и, когда он разжал руку – на запястье остался широкий красный след, – спросила:
– Зачем ты ее убил?
– Я?
– Ты. Вы поссорились. Я слышала. Ты ушел. А потом вернулся. Ты заставил ее что-то выпить. Угрожал, что если она не выпьет, то между вами – все. Она согласилась. Выпила. А на следующий день умерла.
– Это было успокоительное! Я хотел, чтобы она наконец заснула!
Оправдывается. Кричит. Пускай. Он причинил Мэри боль после того, как Мэри призналась в своей любви; рискнула прийти на встречу с убийцей? Сама готова была пойти на преступление ради него? И вот после всего этого он ее отверг?
Маша бы плакала в подушку, а Мэри отомстит. И будет хохотать, глядя на его мучения. А потом, уже после суда, подойдет и, заглянув в глаза, скажет:
– А все могло быть иначе!
– Что? – спросил он, вырывая из мечты.
– Ничего. Ты ее убил. Если успокоительное, то зачем ты так старательно мыл стакан? Дважды или трижды. А потом еще салфеткой протер. Чтобы отпечатков не осталось, да?
Мэри знала, что права, и ей приятно было видеть страх на его лице.
– И часики… красивые, правда? – она подняла рукав, демонстрируя находку. – А она их выбросила. Зачем? Ты подарил, а Танька взяла и…
– Отдай.
– Не-а. Я их нашла. Теперь они мои.
– Нет.
Упрямый. И пускай. Мэри тоже упряма. Он растоптал ее сердце, и значит, сам навлек на себя будущие беды.
– Ты ей был не нужен! Никто не нужен! И вообще она ненормальная! А еще гребень украла! Мой гребень!
Он не позволил договорить. Вскочив, схватил за горло. Сдавил пребольно, и Мэри, растерявшись, забилась в его руках. Она дергалась, пытаясь разжать пальцы, и хрипела.
Когда затихла, почти потеряв сознание, он отпустил. Выбросил из-под навеса на дождь и, наклонившись, снял часики. Постоял – Мэри видела его силуэт в мареве дождя. Носком ботинка повернул голову на бок и громко, чтобы наверняка услышала, сказал:
– Будешь про меня и Таньку гадости говорить, прибью. Поняла?
Мэри поняла. Мэри ушла, выпуская Машу, и уже Маша плакала, мешая слезы с дождем. А он ушел. Влажно чавкали по грязи ботинки. Звук стихал, а после и вовсе исчез. Маша кое-как поднялась. Саднило горло. С мокрых, слипшихся прядей стекала вода, прямо за шиворот. И джинсы тоже промокли. И трусики. И вся она, от носа до пяток.
Мама рассердится.
И подружка ее обругает за попорченную блузку. И все это несправедливо! Нельзя любить без взаимности! Нельзя поступать так с теми, кто любит!
Маша, взобравшись на насыпь, с которой кидала камушки, села. Она сняла куртку, пальцами разодрала влажные пряди – чертов лак склеил намертво – и набрав в ладонь воды, плеснула на лицо. Потом просто сидела, позволяя дождю смывать грязь, и смотрела на реку.
Не услышала.
Когда дождь шумит, то ничего не слышно.
И теней почти нет. В какой-то миг стало очень больно – не сердцу, но отчего-то затылку – и Маша растерялась. А потом умерла.
И умерев, не видела, как убийца садится рядом и начинает расчесывать волосы. Старинный гребень застревает в склеенных лаком прядях, и убийца сердится, дергает, выдирая пряди. Подхваченная пальцем капля крови размазывается по длинным зубьям гребня. А сам он исчезает в пластиковом пакете.
Спустя четверть часа дождь смывает все следы.
Алина сидела перед зеркалом, придирчиво изучая свое отражение. Определенно, следовало согласиться на предложения доктора Манихова. Ботокс почти не помогает. Морщины на лбу отвратительны, линии щек утратили выразительность, а подбородок поплыл, намечая складочку.
Зато шея хороша.
И руки тоже.
Грудь вот не мешало бы поднять, но только поднять – никаких имплантатов. Живот плоский, мускулистый, но умеренно.
Алина знала, как важна умеренность.
А с ягодицами беда. Всегда были слабым местом. Пышные, но невыразительные, они охотно принимали лишние килограммы. И с бедрами делились. Но липосакция… Алина сомневалась.
В дверь постучали. Поспешно набросив халат, Алина крикнула:
– Войдите.
Анечка. Вошла боком, замерла на пороге, потупив глазки. Умная девочка, но порой переигрывает.
– А Сережи дома нет, – шепотом сказала она. – Ушел, и все. Я ему говорила, что теперь мы должны держаться вместе, а он ушел…
– Милая, ябедничать на брата – некрасиво.
На Анечкином личике мелькнуло раздражение. Неужели и вправду думала, что сумеет провести Алину? Мала еще.