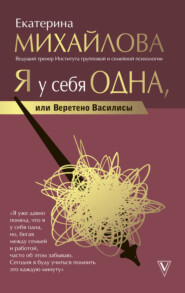По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Письмо психологу. Способы понять себя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Иногда видно, как с автором что-то происходило, пока письмо писалось: вот молодая женщина начала размышлять о своей жизни, стали возникать вопросы, а с ними и ответы; она скорее делится размышлениями и самостоятельными выводами, чем «выговаривается».
А иногда письмо больше похоже на хорошо отредактированную заготовку – так иногда люди заранее придумывают (даже репетируют), что скажут психологу на первой встрече. С той разницей, что в нашем случае встречи не будет. В тот момент, когда человек выдыхает, ставит точку и нажимает send, он уже «свое сказал». Возможно, ему и ответ не нужен.
Письмо, даже самое живое, дышащее, – это в любом случае текст, то есть совершившийся факт. «Что написано пером…» Письмо – слепок, отпечаток неведомого нам процесса, а слепок статичен. Может быть, человек через десять минут увидел свою ситуацию другими глазами, но мы этого не узнаем. Письмо-то уже отправлено! С этого момента жизнь автора и жизнь его произведения разошлись и начали существовать по разным законам. Если угодно, можно думать о наших письмах как об особой форме народного искусства.
Так что есть своя правда в том, что отвечаешь не автору: она связана не только с публичным журнальным пространством, но и с тем, что автору ответить по-настоящему не очень-то и возможно. Ты точно не попадешь, не поймешь, это вообще не разговор. Но тогда кому и зачем отвечаешь? Подумаем и об этом.
Как люди могут так предавать и спокойно жить после этого?!!! Узнала сегодня, что муж много лет мне изменяет, а теперь его очередная девка еще и беременна!!! Сначала я просто не могла поверить. Даже сейчас все кажется кошмаром, вот проснешься – и ничего этого нет. Я как будто жила не с этим человеком! Что это было?! От кого я родила двоих детей?!!
Лариса, 42 года
Есть письма, на которые ответить нечего. Тяжелое ощущение бессмысленности любых разговоров особенно сильно, если читать сто или двести писем подряд. Не потому, что люди эти как-то особенно несчастны – психолога-практика этим не испугать. Поражает другое: полное отсутствие привычки себе помогать – пользуясь профессионалами, здравым смыслом, информацией из Сети, чем угодно! – и привычки о себе заботиться.
«Десять лет назад со мной это уже было, я подумала, что пройдет, я ведь все делала правильно, но вот пять лет назад стало совсем невыносимо, наверное, надо было решать еще тогда, но я не могла поверить, что все так несправедливо и теперь совсем не знаю, что и думать…» Или, в версии light: «Вот мы, Саша и Маша, хотим быть вместе, но Саша женат; что нам делать, подскажите!»
Идет ли речь о здоровье, о пьющем муже, о затянувшихся тяжких отношениях – да хоть о престижной высокооплачиваемой работе! – в каждой строчке синдром приобретенной беспомощности. Хочется верить, что писано это просто в минуту уныния и отчаяния – такие минуты бывают у всех. Ведь и старая присказка «пишите письма» переводится как «все пропало». Может, утром все увидится иначе.
Но как вспомнишь бессчетные примеры из частной и общественной жизни… и все про то, что «хотели как лучше, а получилось как всегда»… Если вдуматься, это «всегда» звучит приговором любой попытке что-то изменить к лучшему. То есть – приговором всей моей работе. И принять этого я не могу. Потому что точно знаю: обычные люди, живущие в тех же краях и получившие примерно те же «инструкции по беспомощности», порой оказываются свободнее, умнее и лучше оных инструкций. И да, многие меняют свою жизнь к лучшему. Иногда с помощью профессионалов, а чаще сами. Они тоже нуждаются порой в поддержке, – но только они способны ею воспользоваться. Может быть, на самом деле я отвечаю им?
К 20 годам я выполнила всю намеченную моими родителями для меня программу: медаль, диплом, замужество, должность, ребенок, нужное подчеркнуть. В юности возражать не решалась, тем более что давление было не тупое и агрессивное, а с наилучшими намерениями и вполне логически обоснованное. Только жить своим умом так научиться нельзя… Видимо, мне предстоит выработать спокойный взрослый взгляд и научиться больше понимать и меньше оценивать. Это – большой проект, но мне нужно подумать о самых первых шагах. С чего обычно начинается реабилитационный курс для раскаявшихся отличниц?
Дарья, 29 лет
Есть еще одно обстоятельство в нашей общей жизни и жизни нашего языка. Отношение к слову – и особенно к слову письменному, печатному – у нас особенное. В нем есть родное и знакомое сочетание доверчивости и подозрительности. С одной стороны, мы выросли в вере в почти всемогущее Слово: «словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести» – разумеется, «к штыку перо приравняв». Все-таки скорее убить, чем спасти… Мощная, грозная, почти материальная сила. Печатное слово к тому же подразумевало, что его кто-то разрешил – то есть оно одобрено реальной или воображаемой властью. Все же понимали, что статья театрального критика в невиннейшей городской газете могла решить судьбу спектакля – надо смотреть, пока не сняли, «просто так не напечатают».
А когда-то и грамотных было мало: почтение и одновременная неприязнь к «шибко умным и сильно грамотным» ощущалась долго, даже гигантские волны интернетовского беспредела их лишь размыли. Но есть (причем у тех же самых людей) и другое отношение к слову: скептическое, с кривой ухмылкой и вечным прищуром: знаем мы, как это все устроено; сказать-то что угодно можно. Как говорил Шукшин в «Калине красной», – ты слушай, но слова пропускай…
Вспоминаю гениальный вопрос одной нашей ученой дамы в начале 1990-х – она собиралась на зарубежную конференцию и звонила в оргкомитет: «Вот тут у вас написано, что дедлайн тогда-то, а когда на самом деле?» Ее, конечно, вежливо не поняли, но интересен не ответ, а вопрос. В нем отражается кусочек картины мира, в котором «как сказано» (и уж тем более написано) и «как на самом деле» – это по определению разное. Как будто мы все время играем в «веришь – не веришь».
Практическая психология и психотерапия вроде бы говорят на языке клиента, живого человека. Но как только появляется «экспертность», весь противоречивый ком спутанных и очень непростых чувств по отношению к «правильному» слову тут как тут. Тем более что речь идет о том, как этому самому живому человеку жить.
Решение – для меня, конечно – в определении собственной роли. Я здесь не для того, чтобы в моем лице говорила наука, а для того, чтобы кто-то услышал себя и задумался о себе. Давно и твердо верю: один из смыслов нашей практической работы и всех писаний вокруг нее в том, чтобы обычный человек стал сам себе хоть немного интересней. Работая с письмами, добиваться этого намного труднее, чем в обычной практике, – но только это и стоит потраченного времени и усилий.
Маме 77 лет, она бывший руководитель. Никогда не были с ней близки и не жили вместе. Меня вообще няня вырастила, посторонний человек… Так что детства с домашними праздниками, печеньями по выходным, книжками перед сном, бантиками и рукоделием у меня не было. Была мамина работа!!!!! От нее сейчас один негатив. Все делаю не так, продукты покупаю гнилые, помешана на уборке (ага, это тоже плохо!), не разделяю с ней любви к сериалам, ну и так далее… Иногда посещают самые отчаянные мысли, помогите, пожалуйста…
Алина, 47 лет
Привокзальный хор
Меня дико раздражают волнистые попугайчики. Вижу и слышу бессмысленных тварюшек каждый день, когда привожу ребенка в детский сад. Вообще ненавижу, когда щебечут, и люди тоже.
Это мизантропия? Или какой-нибудь безобидный комплекс?
Анна, 39 лет
Года через два после выхода нулевого номера журнала появилось отчетливое желание повозиться с нашими письмами, поискать какие-то закономерности или хотя бы их следы.
Вот тогда и возникло ощущение хора, который сперва казался хаотичным, как шум на вокзале. Помните? Вы стоите в огромном гулком помещении, где объявляют поезда: кто-то кого-то громко зовет, плачут дети, ругаются носильщики, галдят на непонятном наречии восточные люди, пыхтит и лязгает состав – в жизни от этого хаоса закрываешься, уткнувшись в книжку – а там и посадку объявят. Читая подряд нашу почту, выключаться нельзя – иначе зачем читать? Но тогда происходит обратное: ты начинаешь слышать все голоса разом, воспринимать весь «вокзал». И это довольно тяжело, но ничего не поделаешь: по «основной специальности» я научена включаться, а не выключаться. Работа такая – и важное для этой работы умение. Оно мешало, но не подвело и на этот раз.
Когда включаешься в сплошное, пусть и посильными порциями, чтение писем, оказываешься в очень странном пространстве. Как в оркестровой яме, начинают выделяться отдельные инструменты: вот валторна настраивается… арфа – она одна в оркестре, кажется… а вот скрипочки, их много… Хаос как будто уже не вполне хаос, если узнаешь голоса инструментов. Появляются новые люди, раздаются новые звуки – есть и монотонность в этом, и пестрота, и энергия. И – самое главное: возникает ощущение не упорядоченного, но и не случайного многоголосья. И это все-таки не вокзал, где расписание поездов задает появление и исчезновение людей, «пассажиропотока». Нестройный, но все же хор. Или оркестр. Или весенний лес с голосами разных птиц: поди пойми, это про охоту, любовь или территориальные притязания…
Но как было странно, что все это слышу только я – и как было жаль, что они не слышат друг друга! Как было жаль, что они сами не могут оценить степень обычности или необычности, близости или странности – чего? Конечно, не сюжета или жизненной ситуации – они лишь повод и рамка. Личный взгляд, прямая речь, почерк, тембр – вот ради чего стоило слушать наш нестройный хор. Когда авторы получили возможность читать друг друга, начался нормальный, но имеющий свои издержки процесс: сегодня письма «отутюжены» не только законами жанра, но и оглядкой на других авторов.
Эта книга – возможность отдать должное письмам, которые рождались без этой оглядки. И в этом смысле она так же отстала от жизни, как отстает от нее каждый следующий номер журнала: между событиями и размышлениями в жизни автора письма и опубликованным ответом всегда разрыв по времени, иногда немалый. Так что разговор в настоящем времени – условность.
Работа над книгой оказалась куда тяжелее, чем это можно было себе представить. Она никогда не была бы сделана без Натальи Ким, много лет редактировавшей ответы для журнала и обладающей потрясающим слухом, нюхом и чувством слова (а еще она – невероятный рассказчик: в ее устных историях герои говорят так, что их можно увидеть и про каждого сочить пьесу). Взявшись вместе со мной разбираться в нашей почте, именно она не позволила впасть в отчаяние и бросить эту работу, временами казавшейся неподъемной, а то и бессмысленной. Наташа, мы сделали это!
Когда о книжке еще речи не было, мы понимали, что в нашей странной и отчасти «зазеркальной» ситуации не знаем толком, с кем разговариваем. Но и наши авторы на самом деле не знают, кому пишут: вроде бы тексты публикуются мои, интонация моя, но физиономия после всех фотошопов явно не моя, а называют они меня сплошь и рядом «Екатериной Михайловной», лишая тем самым настоящего имени. Это по-своему гениальная коллективная оговорка: в своей журнальной версии я не вполне человек – скорее, дружелюбный призрак на договоре. И по-своему это справедливо: отвечая, я ведь тоже не с авторами разговариваю. Да, такое странное пространство коммуникации, где мы не пересекаемся, такое «место невстречи».
Пожалуй, это главное отличие от обычной работы консультирующего психолога, где как раз надо встретиться.
Представьте себе человека, который с чем-то очень личным выходит на площадь. Его лица не видно – он в маске. И всей площади будет слышно не его: будет слышен громкий ответ того, кому он это «свое» на ухо прошептал.
Я врач-хирург. Я очень боюсь, что мои коллеги узнают о моей нетрадиционной в их понимании ориентации – сейчас время агрессивное для таких, как я и мой партнер. Много лет скрывать что-то истинное о себе – это тяжелый труд, в результате развился невроз, неадекватность реакций… Мне кажется, что я должен что-то сделать со своим восприятием себя в этом мире, но это очень страшно и я не знаю, с чего начать…
Сергей, 42 года
Уважаемая Екатерина Львовна, я сужусь с бывшим мужем из-за гаража и собаки. Я всем сердцем люблю нашего пса, хотя заводила его не я. А вот гараж строили на мои деньги! Ведь с точки зрения психологии я имею моральное право отдать ему гараж в счет собаки?!
Эля, 34 года
Согласитесь, ситуация странная и двусмысленная. Меня то и дело спрашивают (обычно студенты), есть ли письма на самом деле. Не верят. Есть, милые, еще как есть. Только живут они в особом поле полуанонимности, неопределенности, где совершенно неясно, кто и с кем разговаривает. О себе я знаю только одно: говорю в какое-то особое пространство, где у слушателей много разных способов услышать и понять разное. Больше, чем в театральном зале.
Скорее, как в психотерапевтической группе: кто бы что ни сказал, это всегда сообщение группе, а ее участники точно услышат разное в зависимости от того, что у кого из них болит, что для кого важно, что кого пугает или влечет. Только на группе с этим потом можно работать, а у нас реплика «ведущего» заканчивается в момент сдачи номера, а уж кто что услышал и понял, я не узнаю никогда.
Меня спросили как-то, сколько раз объявились авторы, на чьи письма я ответила. Прописью: один. Они совершенно не жаждут ни моей, ни своей материализации.
Здравствуйте, Екатерина Михайловна! Давно слежу за вашими ответами, они иногда меня полностью удовлетворяют, но есть нюансы, которые я бы хотела у вас прояснить…
Вера, 38 лет
«Екатерина Михайловна» с подретушированным лицом, не меняющимся годами, – это кто-то вместо меня, своего рода «дупло», в которое можно что-то сказать. И точно так же, по законам нашего зеркального лабиринта, две опубликованные строчки из письма и еще чуть-чуть в моем пересказе – это все, что увидит мир вместо них.
Редакция, бывало, корила за слишком «пестрые» и туманные ответы: мол, есть в ответе и то, и это, и еще что-то, а нужна конкретика. Что спросили – на то конкретно и отвечаем. С этой логикой я не соглашусь никогда. Конкретный ответ – кому?! Он по определению будет глуп и неточен, а потому оскорбителен. Нельзя давать конкретных ответов «сюда», когда говоришь на самом деле «туда». Обращение по имени – условность, форма. Я же говорю не с автором, но о нем.
«Давайте вместе подумаем…» означает «вы, я и все читатели журнала». «Вы пишете, что…» – это я вытаскиваю из небытия авторский голос, но могу это сделать, только сплетая его с собственным. Мы с автором письма словно поем дуэтом перед публикой. А среди публики люди есть всякие. Возможно, без моего участия в этом представлении они прореагировали бы иначе: чужую беду рукой разведу. Ну и дура, что она себе думает, тоже мне проблема, и вообще – так не бывает! Мои же тридцать с гаком лет консультативного приема подсказывают, что бывает еще и не то. Страшное и странное, кажущееся неважным и кажущееся обычным – все бывает. Мне важно создать такое разное и сложное эхо, чтобы читатели увидели за «скелетиком» сюжета разное и сложное. Чтобы узнали свое в чужом – те, кто сможет и захочет. Даже если кажется, что «это» не имеет к их жизни никакого отношения.
Когда порой получается создать в воздухе «хрустальный шар», отбрасывающий в чем-то узнаваемые блики, у читателя может – если будет на то его воля – появиться чуть больше интереса то ли к себе самому, то ли к кому-то из близких и дальних, чьи образы мелькнут в голове в связи и по поводу. А вдруг и там увидится, почувствуется или подумается что-то новое? И тогда могут быть заданы другие вопросы и даже получены другие ответы.
Но для этого нужно стать «преобразователем первоначального сигнала», а не просто сказочным «дуплом», повторяющим и усиливающим сказанное. В словарном значении «интерпретация» – это перевод. В хороших словарях простое какое-нибудь слово имеет множество значений, за ним открывается целое пространство, где есть и выбор, и неожиданные ассоциации, и опора на контекст. И не будем забывать, что в дупло кричат, шепчут или повествуют, когда больше с этим пойти некуда.
Мне 24 года, и я девственница. Не могу сказать, что эта старомодность сильно меня беспокоит)… Близкие подруги стараются меня подогнать, ибо время идет. Но куда бежать и есть ли в этом смысл? Что я могу сделать, если сердце молчит?
Анонимно, 24 года
Очень прошу не публиковать письмо или изменить личные данные, слишком много боли уже испытали все, кто втянут в нашу непростую ситуацию. Мой сводный брат, за которого я привыкла отвечать, много лет тяжело болен. Наш с ним общий отец ничего об этом не знает и не должен знать (сердце). Маму мы потеряли 3 года назад…
Н. В., 30 лет
А иногда письмо больше похоже на хорошо отредактированную заготовку – так иногда люди заранее придумывают (даже репетируют), что скажут психологу на первой встрече. С той разницей, что в нашем случае встречи не будет. В тот момент, когда человек выдыхает, ставит точку и нажимает send, он уже «свое сказал». Возможно, ему и ответ не нужен.
Письмо, даже самое живое, дышащее, – это в любом случае текст, то есть совершившийся факт. «Что написано пером…» Письмо – слепок, отпечаток неведомого нам процесса, а слепок статичен. Может быть, человек через десять минут увидел свою ситуацию другими глазами, но мы этого не узнаем. Письмо-то уже отправлено! С этого момента жизнь автора и жизнь его произведения разошлись и начали существовать по разным законам. Если угодно, можно думать о наших письмах как об особой форме народного искусства.
Так что есть своя правда в том, что отвечаешь не автору: она связана не только с публичным журнальным пространством, но и с тем, что автору ответить по-настоящему не очень-то и возможно. Ты точно не попадешь, не поймешь, это вообще не разговор. Но тогда кому и зачем отвечаешь? Подумаем и об этом.
Как люди могут так предавать и спокойно жить после этого?!!! Узнала сегодня, что муж много лет мне изменяет, а теперь его очередная девка еще и беременна!!! Сначала я просто не могла поверить. Даже сейчас все кажется кошмаром, вот проснешься – и ничего этого нет. Я как будто жила не с этим человеком! Что это было?! От кого я родила двоих детей?!!
Лариса, 42 года
Есть письма, на которые ответить нечего. Тяжелое ощущение бессмысленности любых разговоров особенно сильно, если читать сто или двести писем подряд. Не потому, что люди эти как-то особенно несчастны – психолога-практика этим не испугать. Поражает другое: полное отсутствие привычки себе помогать – пользуясь профессионалами, здравым смыслом, информацией из Сети, чем угодно! – и привычки о себе заботиться.
«Десять лет назад со мной это уже было, я подумала, что пройдет, я ведь все делала правильно, но вот пять лет назад стало совсем невыносимо, наверное, надо было решать еще тогда, но я не могла поверить, что все так несправедливо и теперь совсем не знаю, что и думать…» Или, в версии light: «Вот мы, Саша и Маша, хотим быть вместе, но Саша женат; что нам делать, подскажите!»
Идет ли речь о здоровье, о пьющем муже, о затянувшихся тяжких отношениях – да хоть о престижной высокооплачиваемой работе! – в каждой строчке синдром приобретенной беспомощности. Хочется верить, что писано это просто в минуту уныния и отчаяния – такие минуты бывают у всех. Ведь и старая присказка «пишите письма» переводится как «все пропало». Может, утром все увидится иначе.
Но как вспомнишь бессчетные примеры из частной и общественной жизни… и все про то, что «хотели как лучше, а получилось как всегда»… Если вдуматься, это «всегда» звучит приговором любой попытке что-то изменить к лучшему. То есть – приговором всей моей работе. И принять этого я не могу. Потому что точно знаю: обычные люди, живущие в тех же краях и получившие примерно те же «инструкции по беспомощности», порой оказываются свободнее, умнее и лучше оных инструкций. И да, многие меняют свою жизнь к лучшему. Иногда с помощью профессионалов, а чаще сами. Они тоже нуждаются порой в поддержке, – но только они способны ею воспользоваться. Может быть, на самом деле я отвечаю им?
К 20 годам я выполнила всю намеченную моими родителями для меня программу: медаль, диплом, замужество, должность, ребенок, нужное подчеркнуть. В юности возражать не решалась, тем более что давление было не тупое и агрессивное, а с наилучшими намерениями и вполне логически обоснованное. Только жить своим умом так научиться нельзя… Видимо, мне предстоит выработать спокойный взрослый взгляд и научиться больше понимать и меньше оценивать. Это – большой проект, но мне нужно подумать о самых первых шагах. С чего обычно начинается реабилитационный курс для раскаявшихся отличниц?
Дарья, 29 лет
Есть еще одно обстоятельство в нашей общей жизни и жизни нашего языка. Отношение к слову – и особенно к слову письменному, печатному – у нас особенное. В нем есть родное и знакомое сочетание доверчивости и подозрительности. С одной стороны, мы выросли в вере в почти всемогущее Слово: «словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести» – разумеется, «к штыку перо приравняв». Все-таки скорее убить, чем спасти… Мощная, грозная, почти материальная сила. Печатное слово к тому же подразумевало, что его кто-то разрешил – то есть оно одобрено реальной или воображаемой властью. Все же понимали, что статья театрального критика в невиннейшей городской газете могла решить судьбу спектакля – надо смотреть, пока не сняли, «просто так не напечатают».
А когда-то и грамотных было мало: почтение и одновременная неприязнь к «шибко умным и сильно грамотным» ощущалась долго, даже гигантские волны интернетовского беспредела их лишь размыли. Но есть (причем у тех же самых людей) и другое отношение к слову: скептическое, с кривой ухмылкой и вечным прищуром: знаем мы, как это все устроено; сказать-то что угодно можно. Как говорил Шукшин в «Калине красной», – ты слушай, но слова пропускай…
Вспоминаю гениальный вопрос одной нашей ученой дамы в начале 1990-х – она собиралась на зарубежную конференцию и звонила в оргкомитет: «Вот тут у вас написано, что дедлайн тогда-то, а когда на самом деле?» Ее, конечно, вежливо не поняли, но интересен не ответ, а вопрос. В нем отражается кусочек картины мира, в котором «как сказано» (и уж тем более написано) и «как на самом деле» – это по определению разное. Как будто мы все время играем в «веришь – не веришь».
Практическая психология и психотерапия вроде бы говорят на языке клиента, живого человека. Но как только появляется «экспертность», весь противоречивый ком спутанных и очень непростых чувств по отношению к «правильному» слову тут как тут. Тем более что речь идет о том, как этому самому живому человеку жить.
Решение – для меня, конечно – в определении собственной роли. Я здесь не для того, чтобы в моем лице говорила наука, а для того, чтобы кто-то услышал себя и задумался о себе. Давно и твердо верю: один из смыслов нашей практической работы и всех писаний вокруг нее в том, чтобы обычный человек стал сам себе хоть немного интересней. Работая с письмами, добиваться этого намного труднее, чем в обычной практике, – но только это и стоит потраченного времени и усилий.
Маме 77 лет, она бывший руководитель. Никогда не были с ней близки и не жили вместе. Меня вообще няня вырастила, посторонний человек… Так что детства с домашними праздниками, печеньями по выходным, книжками перед сном, бантиками и рукоделием у меня не было. Была мамина работа!!!!! От нее сейчас один негатив. Все делаю не так, продукты покупаю гнилые, помешана на уборке (ага, это тоже плохо!), не разделяю с ней любви к сериалам, ну и так далее… Иногда посещают самые отчаянные мысли, помогите, пожалуйста…
Алина, 47 лет
Привокзальный хор
Меня дико раздражают волнистые попугайчики. Вижу и слышу бессмысленных тварюшек каждый день, когда привожу ребенка в детский сад. Вообще ненавижу, когда щебечут, и люди тоже.
Это мизантропия? Или какой-нибудь безобидный комплекс?
Анна, 39 лет
Года через два после выхода нулевого номера журнала появилось отчетливое желание повозиться с нашими письмами, поискать какие-то закономерности или хотя бы их следы.
Вот тогда и возникло ощущение хора, который сперва казался хаотичным, как шум на вокзале. Помните? Вы стоите в огромном гулком помещении, где объявляют поезда: кто-то кого-то громко зовет, плачут дети, ругаются носильщики, галдят на непонятном наречии восточные люди, пыхтит и лязгает состав – в жизни от этого хаоса закрываешься, уткнувшись в книжку – а там и посадку объявят. Читая подряд нашу почту, выключаться нельзя – иначе зачем читать? Но тогда происходит обратное: ты начинаешь слышать все голоса разом, воспринимать весь «вокзал». И это довольно тяжело, но ничего не поделаешь: по «основной специальности» я научена включаться, а не выключаться. Работа такая – и важное для этой работы умение. Оно мешало, но не подвело и на этот раз.
Когда включаешься в сплошное, пусть и посильными порциями, чтение писем, оказываешься в очень странном пространстве. Как в оркестровой яме, начинают выделяться отдельные инструменты: вот валторна настраивается… арфа – она одна в оркестре, кажется… а вот скрипочки, их много… Хаос как будто уже не вполне хаос, если узнаешь голоса инструментов. Появляются новые люди, раздаются новые звуки – есть и монотонность в этом, и пестрота, и энергия. И – самое главное: возникает ощущение не упорядоченного, но и не случайного многоголосья. И это все-таки не вокзал, где расписание поездов задает появление и исчезновение людей, «пассажиропотока». Нестройный, но все же хор. Или оркестр. Или весенний лес с голосами разных птиц: поди пойми, это про охоту, любовь или территориальные притязания…
Но как было странно, что все это слышу только я – и как было жаль, что они не слышат друг друга! Как было жаль, что они сами не могут оценить степень обычности или необычности, близости или странности – чего? Конечно, не сюжета или жизненной ситуации – они лишь повод и рамка. Личный взгляд, прямая речь, почерк, тембр – вот ради чего стоило слушать наш нестройный хор. Когда авторы получили возможность читать друг друга, начался нормальный, но имеющий свои издержки процесс: сегодня письма «отутюжены» не только законами жанра, но и оглядкой на других авторов.
Эта книга – возможность отдать должное письмам, которые рождались без этой оглядки. И в этом смысле она так же отстала от жизни, как отстает от нее каждый следующий номер журнала: между событиями и размышлениями в жизни автора письма и опубликованным ответом всегда разрыв по времени, иногда немалый. Так что разговор в настоящем времени – условность.
Работа над книгой оказалась куда тяжелее, чем это можно было себе представить. Она никогда не была бы сделана без Натальи Ким, много лет редактировавшей ответы для журнала и обладающей потрясающим слухом, нюхом и чувством слова (а еще она – невероятный рассказчик: в ее устных историях герои говорят так, что их можно увидеть и про каждого сочить пьесу). Взявшись вместе со мной разбираться в нашей почте, именно она не позволила впасть в отчаяние и бросить эту работу, временами казавшейся неподъемной, а то и бессмысленной. Наташа, мы сделали это!
Когда о книжке еще речи не было, мы понимали, что в нашей странной и отчасти «зазеркальной» ситуации не знаем толком, с кем разговариваем. Но и наши авторы на самом деле не знают, кому пишут: вроде бы тексты публикуются мои, интонация моя, но физиономия после всех фотошопов явно не моя, а называют они меня сплошь и рядом «Екатериной Михайловной», лишая тем самым настоящего имени. Это по-своему гениальная коллективная оговорка: в своей журнальной версии я не вполне человек – скорее, дружелюбный призрак на договоре. И по-своему это справедливо: отвечая, я ведь тоже не с авторами разговариваю. Да, такое странное пространство коммуникации, где мы не пересекаемся, такое «место невстречи».
Пожалуй, это главное отличие от обычной работы консультирующего психолога, где как раз надо встретиться.
Представьте себе человека, который с чем-то очень личным выходит на площадь. Его лица не видно – он в маске. И всей площади будет слышно не его: будет слышен громкий ответ того, кому он это «свое» на ухо прошептал.
Я врач-хирург. Я очень боюсь, что мои коллеги узнают о моей нетрадиционной в их понимании ориентации – сейчас время агрессивное для таких, как я и мой партнер. Много лет скрывать что-то истинное о себе – это тяжелый труд, в результате развился невроз, неадекватность реакций… Мне кажется, что я должен что-то сделать со своим восприятием себя в этом мире, но это очень страшно и я не знаю, с чего начать…
Сергей, 42 года
Уважаемая Екатерина Львовна, я сужусь с бывшим мужем из-за гаража и собаки. Я всем сердцем люблю нашего пса, хотя заводила его не я. А вот гараж строили на мои деньги! Ведь с точки зрения психологии я имею моральное право отдать ему гараж в счет собаки?!
Эля, 34 года
Согласитесь, ситуация странная и двусмысленная. Меня то и дело спрашивают (обычно студенты), есть ли письма на самом деле. Не верят. Есть, милые, еще как есть. Только живут они в особом поле полуанонимности, неопределенности, где совершенно неясно, кто и с кем разговаривает. О себе я знаю только одно: говорю в какое-то особое пространство, где у слушателей много разных способов услышать и понять разное. Больше, чем в театральном зале.
Скорее, как в психотерапевтической группе: кто бы что ни сказал, это всегда сообщение группе, а ее участники точно услышат разное в зависимости от того, что у кого из них болит, что для кого важно, что кого пугает или влечет. Только на группе с этим потом можно работать, а у нас реплика «ведущего» заканчивается в момент сдачи номера, а уж кто что услышал и понял, я не узнаю никогда.
Меня спросили как-то, сколько раз объявились авторы, на чьи письма я ответила. Прописью: один. Они совершенно не жаждут ни моей, ни своей материализации.
Здравствуйте, Екатерина Михайловна! Давно слежу за вашими ответами, они иногда меня полностью удовлетворяют, но есть нюансы, которые я бы хотела у вас прояснить…
Вера, 38 лет
«Екатерина Михайловна» с подретушированным лицом, не меняющимся годами, – это кто-то вместо меня, своего рода «дупло», в которое можно что-то сказать. И точно так же, по законам нашего зеркального лабиринта, две опубликованные строчки из письма и еще чуть-чуть в моем пересказе – это все, что увидит мир вместо них.
Редакция, бывало, корила за слишком «пестрые» и туманные ответы: мол, есть в ответе и то, и это, и еще что-то, а нужна конкретика. Что спросили – на то конкретно и отвечаем. С этой логикой я не соглашусь никогда. Конкретный ответ – кому?! Он по определению будет глуп и неточен, а потому оскорбителен. Нельзя давать конкретных ответов «сюда», когда говоришь на самом деле «туда». Обращение по имени – условность, форма. Я же говорю не с автором, но о нем.
«Давайте вместе подумаем…» означает «вы, я и все читатели журнала». «Вы пишете, что…» – это я вытаскиваю из небытия авторский голос, но могу это сделать, только сплетая его с собственным. Мы с автором письма словно поем дуэтом перед публикой. А среди публики люди есть всякие. Возможно, без моего участия в этом представлении они прореагировали бы иначе: чужую беду рукой разведу. Ну и дура, что она себе думает, тоже мне проблема, и вообще – так не бывает! Мои же тридцать с гаком лет консультативного приема подсказывают, что бывает еще и не то. Страшное и странное, кажущееся неважным и кажущееся обычным – все бывает. Мне важно создать такое разное и сложное эхо, чтобы читатели увидели за «скелетиком» сюжета разное и сложное. Чтобы узнали свое в чужом – те, кто сможет и захочет. Даже если кажется, что «это» не имеет к их жизни никакого отношения.
Когда порой получается создать в воздухе «хрустальный шар», отбрасывающий в чем-то узнаваемые блики, у читателя может – если будет на то его воля – появиться чуть больше интереса то ли к себе самому, то ли к кому-то из близких и дальних, чьи образы мелькнут в голове в связи и по поводу. А вдруг и там увидится, почувствуется или подумается что-то новое? И тогда могут быть заданы другие вопросы и даже получены другие ответы.
Но для этого нужно стать «преобразователем первоначального сигнала», а не просто сказочным «дуплом», повторяющим и усиливающим сказанное. В словарном значении «интерпретация» – это перевод. В хороших словарях простое какое-нибудь слово имеет множество значений, за ним открывается целое пространство, где есть и выбор, и неожиданные ассоциации, и опора на контекст. И не будем забывать, что в дупло кричат, шепчут или повествуют, когда больше с этим пойти некуда.
Мне 24 года, и я девственница. Не могу сказать, что эта старомодность сильно меня беспокоит)… Близкие подруги стараются меня подогнать, ибо время идет. Но куда бежать и есть ли в этом смысл? Что я могу сделать, если сердце молчит?
Анонимно, 24 года
Очень прошу не публиковать письмо или изменить личные данные, слишком много боли уже испытали все, кто втянут в нашу непростую ситуацию. Мой сводный брат, за которого я привыкла отвечать, много лет тяжело болен. Наш с ним общий отец ничего об этом не знает и не должен знать (сердце). Маму мы потеряли 3 года назад…
Н. В., 30 лет