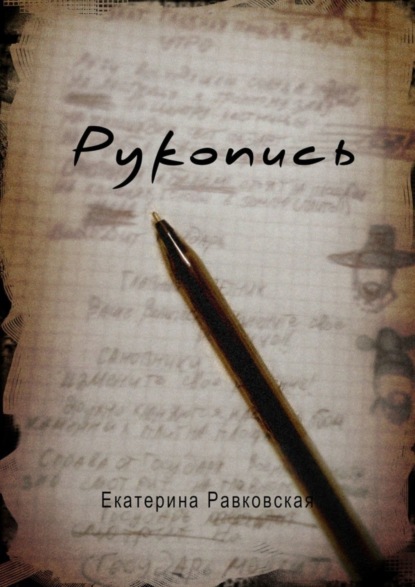По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рукопись
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он почти научился заново дышать. Он перерыл все свои старые словари, перечитал Флобера и Кинга. Он даже, заливаясь хохотом сумасшедшего, проработал пару ночей кряду, едва ли что соображая, – зато сходя с ума от нахлынувшего вдохновения. Эти бредовые, бессвязные сцены и реплики потом нещадно редактировались, но главным было отнюдь не качество.
Он снова писал ночью. Он распахивал настежь окно, чтобы вдохнуть стылый полуночный воздух, разве что не крича в эту черную тишину. Он вновь писал, чтобы писать, чтобы сказать то, что распирает голову изнутри.
Он в самых нелитературных, самых нецензурных, самых ядреных выражениях был счастлив. Он дышал. И сам он – и тот он, который на белых страницах вордовского документа загибался от растворяющей кости скуки.
А потом эйфория начала проходить.
К. Б. перечитал свое творение раз, другой. Поправил пару ошибок. Прописал подетальнее парочку эпизодов. Даже проработал планы – и плевать было на режиссера, готового взяться за этот поток самобичеваний. Хоть с будущим, хоть без, этот сценарий сам по себе был достаточно красив. Только было одно «но». По всем законам жанра сюда прямо-таки напрашивался плохой конец.
Он же подступил – унынием, бездельем. Вновь слова стали нанизываться одно на другое просто так, технически и слепо, лишь потому, что липли друг к другу. Они потеряли силу. И К. Б. уже начал считать дни и страницы. Был сентябрь, серый и сырой, а отнюдь не очередной завешенный кисеей прохладной липкой мороси день. Шла пятьдесят седьмая страница, а отнюдь не очередная, бессмысленная и отчаянная пьянка в дорогом баре, где персонаж-сценарист уже выдирал право снять по своему творению хоть что-то. Да и самого сценария в сценарии, как назло, не было.
Он почти готов был смириться с этим. Почивать на лаврах и костенеть вновь, выливать из легких так хорошо потравивший их чистый кислород. Возвращаться к нормальной жизни.
Он валялся на диване, когда она вернулась с очередной конференции, то ли в Москве, то ли в Питере, и кинула на золотистое гладкое покрывало объемистый томик в белой мягкой обложке.
– Что это?
– Наш сборник. Полистай, может, найдешь чего для себя.
Он проглядел его скучающим взглядом, через советчину, Романовых, правовое поле в Интернете и пустопорожнюю научно доказанную болтовню об общественном мнении. Попалась даже какая-то статейка про фильмы – корейские, правда. Он проглядел ее вместе со всеми, через строчку, про Ли Сунсина, Ёнсангуна и еще кого-то такого же неизвестного. И это было скучно, плоско, отдельно думалось про испорченные спецэффектами батальные сцены. К. Б. в тот же вечер о статье забыл.
А потом, интереса ради, скучным вечером все же посмотрел пару фильмов оттуда. Даже нашлись силы и повод ехидно порадоваться за корейцев – их сценаристов так припечатало собственной историей, что хочешь не хочешь, а напишешь. К ночи, закончив, он погуглил, почитал крохи исторической правды и бросил это дело. Стало жалко потраченного впустую времени. Жалко без грусти, просто свербящим фактом: эти же самые несколько часов он мог потратить на себя. И эта незлобная колючая досада ударила вдруг сильно и больно, под дых. Едва не отшвырнув блокнот, в который записывал показавшиеся занятными сюжетные ходы, он кинулся к ноутбуку, открыл вордовский файл. Про себя. Про того себя, который только что бездарно и тупо сквозь пальцы пропустил свое же собственное, взятое в кредит время.
Хватит притворяться, что все хорошо.
Впервые К. Б. захотел писать под своим именем.
Глава вторая
В узких кругах она была известна под инициалами Беспалова Т. В. Иногда, когда речь заходила о родном вузе, хватало даже фамилии. И это было неимоверно круто.
Столь же круто, впрочем, устроилась вся вселенная вокруг Беспаловой. Ей несказанно повезло во всем, в чем только может везти, так казалось со стороны. Любимое дело, любимый человек, полное довольство и ни единой плохой новости, что еще надо для счастья. Она же не заморачивалась вовсе. Счастье – глупое слово, экзистенциальная категория. Экзистенциальное сейчас модно, разве что смысла в этом экзистенциальном ни на грош.
Ее просто все устраивало.
Обыватели-идиоты не ценят своего счастья. Жизнь удобна и хороша, независимо от того, насколько ей заморачиваться. Беспалова успела перебрать многое – и бедность, и тупость, и безнадегу, и ни от чего, по-хорошему, не страдала.
Отец работал на железной дороге, балагурил, матерился и пил, и руки у него тряслись так, что не мог ложку донести до рта. Не от водки – а потому что в машинном отделении электровоза с таким грохотом и усилием проворачивались агрегаты двигателей, что эта дрожь приживалась в руках намертво. Мать, учитель, громкая и строгая с чужими детьми, становилась дома тихой и ласковой, с усталой улыбкой каждый вечер накрывала на стол и сжималась молчаливой тенью в уголке. Она, как и отец, хотела доченьке лучшей жизни. Больших денег, настоящего, а не подложного, семейного счастья.
Доченька все это получила. И… и что?
Идиоты ноют, что все плохо, но сами ничего не делают. Вдобавок идиоты ноют, что раньше было лучше. А не было раньше лучше. Ни сейчас, ни десять лет назад, ни сто. Ни тысячу.
Беспалова была профессиональным историком. Писала монографию по Древней Руси эпохи удельных княжеств. Даже разбирала оригинальные документы того времени – пару раз довелось держать в руках обрывки бересты. Той самой, легендарной, прикольной. Вслед за Древней Русью шло все остальное и преподавание понемножку, но это дело Беспалова не слишком любила. Зато, только начавшая свой путь, по-хорошему, едва-едва заработавшая имя внутри научной тусовки, она уже успела понять самое главное.
Нытье – вот настоящий двигатель прогресса. Пока есть недовольные, пока есть зажравшиеся, проштрафившиеся и огорошенные, этот мирок хоть как-то вертится. Когда все на свете будут счастливы, Земля остановится. Беспалова, осознав это, окончательно перестала беспокоиться о чем-либо. Перестала даже вспоминать, какой зеленой была трава в ее беспросветном, грязно-оборванном детстве, каким синим небо и каким вкусным мороженое за сколько-то там копеек.
Человек – лицемерная потворствующая самому себе сволочь с амнезией, и это просто чудо как удобно. Каждый, должно быть, понимает эту простую истину. Каждый знает за собой тысячу косяков, и как минимум девятьсот девяносто девять человек из тысячи этими косяками гордятся. Как же, глядите, какой я плохой, какое я чмо, ничтожество и далее по списку. Просто чтобы было на что жаловаться и из-за чего опустить руки.
У Беспаловой была подружка с соседней кафедры, этнограф. Занималась историческим контекстом пословиц. Пару раз они пересекались и смеялись вместе над тем, как все остальные упираются рогом в глухую стену. Мир не изменился. И не изменится, скорее всего, никогда. Раз от разу человечество, жалкое, рассыпающееся на кусочки, само будет толкать себя к краю пропасти, не понимая, что висит над этой пропастью на качелях. И с задорным чокнутым «Ух-х!» проносится над этой пропастью раза по два за десяток лет. И пока что со своих качелей не сорвалось и срываться не собирается. Во все века среди всех народов уже на уровне традиции ныть, что раньше было лучше. А раньше-то…
Войны, разруха, голод, эпидемии и катаклизмы, тупость правителей и прорвавшаяся наружу неуправляемая злоба народа, столкновение лбами друг с другом, трагедии, цепляющиеся одна на другую, не менее страшный застой, и вдруг взрывающиеся целыми букетами героические таланты – это извечный цикл. Так было. Так будет.
И, самое главное, так есть.
Как там говорили еще эталонно-возвышенные, идеальные древние греки, которым сейчас приписывают знание всего на свете? Был век золотой, век счастья и могущества, век полубогов. Был век серебряный, век радости и красоты, созерцателей и мудрецов. Был век медный, век чудовищных войн и великих героев. А потом пришли глупые, слабые, трусливые человеки, и все закончилось.
Беспалова прекрасно понимала, как жили люди до нее. И родители, ввернувшие в ее голову собственные мысли о смехотворном, гипотетическом «светлом будущем», и князья, те самые бородатые красавцы из фильмов, ничем, кроме даты жизни, не отличающиеся от соседа-полковника, и крепостные тех же князьёв. Мораль, экология, гигиена… Мобильники, в конце концов, – ну их. Это отличия в цифрах. Не в фактах.
Беспалова знала, что сейчас ли, или тысячу лет назад, все равно устроилась бы жить самым удобным образом. Потому что любой – удобный. В любом человек выживет, если захочет— или нет, опять же, если захочет.
Замуж она, впрочем, так и не вышла. Хватило найти друга. Удобного. Милого. От которого нет смысла ничего требовать, который и сам не предъявит претензий. Тем более, проверенного еще университетской так легко рассыпающейся дружбой. Один курс, одна скамейка, даже темы диплома им дали до подозрительного близкие – то ли случайно, то ли глаза за стеклами очков старой профессорши не зря поблескивали.
Он потом ушел в армию, она в аспирантуру, и только через пять лет, случайно, в театре, они встретились снова. Она уже была кандидатом наук, он только-только начал писать. Сначала они дружили. Пересекались будто нечаянно, здоровались, улыбались друг другу и прощались тут же. Потом стали помогать друг другу, работать вместе, засиживались допоздна то у него, то у нее за рабочим столом. Потом ему подвернулась первая солидная работа, переложить на театральный сценарий одну никому не известную фронтовую повесть. А потом она просто не уехала домой. И не уезжала до сих пор, потому что с ним было удобно.
Красиво смотрится со стороны взросление мужчины. Настоящее, а не с отращиванием бороды и пивного живота. Тот мальчишка, которого знала еще девчушка-студентка, безалаберный, порой безбашенный, а порой и трусоватый, мечущийся из крайности в крайность, год от года обрастал спокойной рассудительной силой. Научился решать проблемы. Научился их не создавать. Научился сам рулить нужными обстоятельствами, а не прогибаться под них, строил планы, менял эти планы с оглядкой на приготовленный жизнью пинок и в конце концов воплощал их. Когда он купил машину не просто потому, что машина, а потому что с ней выгоднее, проще, и выбрал именно ту, которая подходит, а не громоздкий бесполезный в черте города джип, женщину переполняла тихая гордость.
Новое его увлечение, сценарий о самом себе, Беспалова восприняла с должным уважением, но без восторга. Снова в матером работнике пера проглядывал тот мальчишка-раздолбай, с которым они начинали путь. И смотреть, как прорывается сквозь сосредоточенное лицо щенячий веселый оскал, видеть, как сияют глаза, ловить на себе их огонь, оказалось вдруг на удивление хорошо. Хорошо и безопасно. Потому что огонь гас, гасли глаза, и К. Б. снова становился тем собой, который вырос на ее глазах и рядом с ней, в ее ладонях.
А потом он снова взрывался, сходил с ума, сиял как солнце. Кричал, вскакивал со стула, так что тот отлетал к стене, злым широким рывком смахивал, опрокидывал все со стола на пол – и сиял. Вцеплялся в прилежно приглаженные волосы, так что золотые вихры торчали искрами, колючим веселым солнцем. Даже в гневе, даже разлетающийся на клочки от безысходности и горя, рвущий себя пополам, он был до одури красив.
Не даже – именно.
От него искрило. Воздух зажигался фейерверками, когда он вскидывал голову, и смиренно сложенные, мягкие руки начинали порхать по клавиатуре с яростью и силой концертов Рахманинова. Серый скучный день разлетался осколками цветного стекла, сиял калейдоскопом, лился музыкой. На это можно было смотреть вечно – просто как на шоу. Не ожидая финала.
Она не отчаивалась, когда у него опускались руки, и то же стеклянно-острое солнце растворялось в серых глазах-окнах. Она помогала, забывая о собственном научном труде, захваченная этим пьянящим танцем. Смеялась. Кричала в пустое небо вместе с ним просто потому, что на ее саму больше не оставалось места. Пела, пила восторг большими глотками – а потом с незлым, ностальгическим сожалением прибирала разбитую посуду.
Когда, по его расчетам, набралось на полтора часа экранного времени, на его счету было уже три разбитых чашки. Он почти заново стал ребенком, но развернулся в самое время – и к самой сложной части, к финалу, подошел уже собой прежним. Хорошим и спокойным, какого не страшно будет оставить в пустой квартире одного. Вдохновение, рвущееся через край, размалывающее все вокруг него в сверкающую золотом труху, поутихло и стало, наконец, управляемым.
И она, зная, что именно такое вдохновение лучше и безопаснее всего, осмелилась его оставить. Всего на недельку. Потому что есть конференции, которые этого стоят.
Мечтатели с горящими глазами, расплескивающие вокруг себя солнце, были ей очень хорошо знакомы – и на фоне доброго десятка подобных ее личный почти поблек. Закружила, захватила собственная жизнь – красивая, острая и точная, натянутая звенящей струной. Здесь фантазеров хватало, здесь открывался новый мир. Точнее, старый открывался вновь, через те же сверкающие глаза, с немым вопросом поднятые к небу.
Среди точно таких же беспросветных циничных мечтателей, воспевающих каждый свой любовно вылепленный мирок, Беспалова почти забыла о том, что ее ждут дома. Чужая, но все равно понятная и близкая жизнь стыдливо поджала хвост, когда на свет вылезли, как ночные твари на лампу, все самые роскошные герои и чудовища прошлого. Сильные, страшные, сверхчеловечески коварные и столь же сверхчеловечески большие, на фоне которых нынешние людишки не казались хоть мало-мальски заметными.
Это веселило и умиляло донельзя. Пощупать какого-нибудь древнего героя, даже с чужих слов, с подачи такого же современного чудака-фантазера, было ни с чем не сравнимым, будоражащим кровь удовольствием. И щупала она много и долго, с пристрастием, наслаждаясь – а потом, когда приехала домой, там ее ждал унывший осиротевший щенок, начисто лишившийся и сил, и сияния глаз. И эту книжку, сборник чужих осколков света, она кинула ему как кость. Просто чтобы посмотреть, не изменится ли чего, но даже на благодарность не слишком-то надеясь. Он ее повеселил, он покрасовался, и хватит. Можно тихо и без спецэффектов продолжать жить.
А эксперимент вдруг взял и удался.
Сперва он проглядел, принюхался, отложил в сторону. Не нашел ничего интересного. Потом в сомнениях, просто чтобы потешить свое самолюбие и убедиться, что оценил верно, всмотрелся поглубже. Невесть отчего его зацепили какие-то богом забытые корейцы, он топтался вокруг них, тыкался то с одного бока, то с другого, забрасывал и хватался вновь, казалось, совершенно без повода.
Это было странно. Странно своей непривычностью, непохожестью, положением полувдоха, полушага, когда не то трепыхается в руках суть, не то выпадает, шлепается на пол и насмехается над ним, оставив на руках лишь жирные бессмысленные кляксы. Странно метаниями, бесцельными, пустыми и слабыми, даже лишенными красоты тех прошлых всплесков лихорадочного вдохновения. Странно иррациональной, пустой досадой и злобой его самого, не могущего отлепиться от совершенно ненужной, глупой, вредной, но слишком уж приставучей вещи. Он будто вляпался в жвачку, сел на нее в любимых брюках или, даже больше похоже на правду, подцепил ее головой со скамейки в парке или чего-то такого же общественного и глупого. На фоне современного повального увлечения чуть более свежими корейцами это и вовсе выглядело забавно.
Сама Беспалова глянула на эту самую корейскую историю немного и не нашла в ней ничего особенного. Люди, такие же, как и везде, попадающие в безвыходное положение, выкручивающиеся из него всеми доступными способами, обрастающие героями и легендами – и красиво по этим самым героям и легендам снимающие фильмы.
Не отличается, в сущности, от европейской истории. Да и фильмы у них, не в обиду умеющим делать конфетку операторам, на фоне «Жанны Д'Арк» и тому подобных храбрых сердец совершенно неинтересные.
Она смотрела вместе с ним два. Оба он прокручивал уже по третьему разу, без причины, сам на себя злясь, закрывая с середины и через четверть часа запуская с того же самого места. Один про двух побратавшихся воинов, попавших потом в заговор против правителя и дравшихся по разные стороны баррикад, и второй про плаксивого пацана-принца, которого отец кинул на войну, чтобы было кем покормить противника и прикрыть свое отступление.