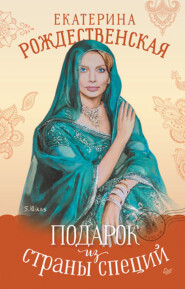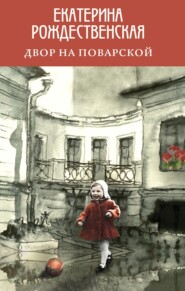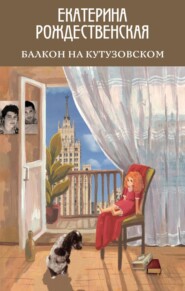По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Приеду к обеду. Мои истории с моей географией
Жанр
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вот что пишет в мемуарах младшая дочь Перцова Зинаида, которая дожила до 100 лет в эмиграции на затерянном пиратском острове в Карибском море: «…жил в нашем доме известный оригинал и чудак – Поздняков. Свою квартиру из четырех громадных комнат он устроил необычайным образом. Самая большая, почти зала, была превращена в ванную (братья мои бывали у Позднякова, они подробно описали мне ее устройство). Пол и стены были затянуты черным сукном. Посреди комнаты, на специально сооруженном помосте, помещалась громадная черная мраморная ванна весом в 70 пудов. Вокруг горели оранжевые светильники. Огромные стенные зеркала отражали со всех сторон сидевшего в ванне. Другая комната была превращена в зимний сад: паркет засыпан песком и уставлен зелеными растениями и садовой мебелью. Гостиная была прелестная – с тигровыми шкурами и художественной мебелью из карельской березы. Хозяин принимал в ней посетителей в древнегреческой тоге и сандалиях на босу ногу, причем на ногте большого пальца сияла бриллиантовая монограмма. Прислуживал ему негр в красной ливрее, всегда сопровождаемый черным мопсом с большим красным бантом! Вот этой-то фантастической квартирой и прельстился вначале Лев Давыдович Троцкий, который переехал в наш дом. Не знаю только, заимствовал ли он также у Позднякова его греческую тогу и сандалии!»
Троцкий Троцким, но еще там жили Фальк, который раз в неделю устраивал выставки на чердаке, Альтман, Куприн, часто бывала Вера Холодная и много другого творческого люда, не зря дом прозвали «Московским Монпарнасом».
В подвале дома какое-то время пело и плясало кабаре «Летучая мышь» под управлением Никиты Балиева, который был, кстати, учителем замечательной певицы Аллы Баяновой.
Сейчас Дом Перцова выглядит как обычный офис с рабочими комнатами, в которых есть компьютеры, скоросшиватели и бумажки в файликах. Впрочем, кое- что в интерьерах осталось от начала прошлого века, совсем чуть-чуть, и это страшно любопытные детали ушедшей перцовской жизни. Например, удивительная деревянная лестница, пронизывающая всю хозяйскую часть дома. Ее как раз и украшают вырезанные из дерева, гладенькие и до блеска отполированные за сто лет прикосновений совы, которые сидят на перилах каждого пролета. Еще сохранилась деревянная входная группа с птицей сирин, которую видно и на старых фотографиях. Вход, который был прорублен слева, теперь почему-то находится справа. Остался и старый гардероб (изнутри он был в советское время обит для красоты линолеумом), и еще двери в кабинеты некоторых главковских начальников.
Вот такой дом. И всегда, проезжая мимо, смотрю в окна второго этажа.
Бабушкины окна. А по дороге к ним на лестнице Марфа, Люба и Зина.
Новодевичий
В московских монастырях совершенно другое ощущение города, он как бы рядом, иногда и слышен, но ты его совершенно не чувствуешь. Словно высаживаешься на островок, где и время не бежит, а плывет, где и люди не по делам, а по зову души, где даже трава зеленее и небо выше. Тянет иногда в такие места. Хожу.
Вот один из таких дней. Просто записки, ощущения, ничего более.
Решили с детьми поехать в музей Москвы, что на Крымском, там большой блошиный рынок. Походили, поглазели, проголодались. Думали-гадали, где поблизости перекусить. Ездили, круги наворачивали, Садовое закрыто, там велогонка, рванули через мост мимо института моего на Комсомольский, там решили свернуть направо и оказались около Новодевичьего. Совершенно случайно, просто дорога привела. На углу нашли кафе хорошее, посидели тихо, поели и пошли через дорогу. Монастырь открыт, потому что праздник великий. Не подумайте, что я каждый день хожу на службу, совсем нет, но тут само собой получилось, без усилий и размышлений, ноги сами привели. Здесь совсем уже не Москва, за этими толстыми, изъеденными временем стенами. И словами-то не объяснить ощущение. Вроде и не видела ничего особенного, но от увиденного голова закружилась и ком предательский к горлу подступил. Хотя, если так подумать, правда, ничего особенного. Может, я просто с годами слишком впечатлительная стала и жизнь воспринимаю иначе, чем в юности, оно и понятно.
Встретила старинную монахиню, лет под сто, с палочкой, которая медленно и уверенно шла к храму мимо таких же вековых, как и она сама, деревьев. Посетители, абсолютно пришлые люди, почтительно отступали и кланялись – сила от этой старицы шла неимоверная.
Чуть дальше, у могилы русскому поэту Владимиру Соловьеву, сидел, сгорбившись, бородатый мужчина с подростком. Мальчик елозил пальцами по экрану телефона, яростно убивая наступающих монстров, а папа, скорей всего, это был папа, что-то вполголоса говорил ему без остановки. И знаете, что он говорил, вернее, читал?
«Чего ж еще недоставало?
Зачем весь мир опять в крови? —
Душа вселенной тосковала
О духе веры и любви!»
Именно, Владимира Соловьева. Наглядно. Вот тут лежит поэт, а вот то, что он писал. Мужчина читал и читал с мрачноватым видом, сын возил пальцами по экранчику, я улыбалась, разглядывая памятник и очень старалась на них не смотреть, неприлично все-таки.
Пошла дальше по аллейке. Все деревья громадные, сказочные, с дуплами, обжитые птицами и белками. Новорожденные заботливо посажены рядом с пожилыми, в распорочку, на месте уже ушедших. Через сто лет вымахают.
Памятники все старинные, с шестнадцатого века есть, но в основном век девятнадцатый: от геройских бородинцев во главе с Денисом Давыдовым и всей его доблестной семьей до генерала Брусилова – помните, «Брусиловский прорыв»?
Лежит тут среди всех прочих и девица Горелкина, карлица при императорском дворе Елизаветы. Насмотрелась, видимо, на прелести мирской жизни и постриглась в монахини, грехи за всех замаливать.
Князья Трубецкие тоже покоятся, декабрист Муравьев-Апостол, писатель Писемский, почти вся профессура Московского Университета 19 века, купцы и фрейлины, врачи и монахи. На чьих-то могилах одуванчики растут, где-то уже отцвели тюльпаны, скамья покосившаяся стоит – как давно, сколько десятилетий назад последний раз сидели на них пра-пра-пра-правнуки?
Птица ко мне прилетела, у ног почему-то шастала, не пугалась. Трясогузка с чем-то съедобным в клюве. Бегала вокруг по дорожке, хлопотала, головку поднимала, вглядывалась.
Мужчина подошел, здравствуйте, говорит, вы как? Ничего, говорю, спасибо. Вы держитесь, говорит. Кивнул и ушел. Я держалась…
Пошла дальше, мимо Смоленского, дубов и скамеек к кельям монашьим. Тут все вне времени, как двести лет назад было, и так через двести лет, дай бог, будет – нехитрые палисаднички у каждого входа с ирисами, проклюнувшимися люпинами и душистым монастырским разнотравьем, да кормушки птичьи на сиреневых цветущих кустах. И дальше, за углом, калина в самом цвету.
А еще обожаю ходить в монастырские трапезные, даже когда не голодна. И в тот раз пошла. Покой, умиротворение, простая вкусная еда, посетители без суеты и спеха. И вот приметила в трапезной тетушку. Вида неказистого, в галошах, широкой цветастой юбке, клетчатом мужском «пинжаке», пляжной кокетливой шляпке и в очках на резинке, перерезающей всю эту шляпную красоту. И еще деталь – она была совершенно беззубой, эта тетушка.
– За фумкой прифледите, графданочка, я за чаем отойду… – я вызвала у нее доверие, видимо.
Я осталась с большой и на вид совершенно неподъемной челночной сумкой, перевязанной для верности широким мужским ремнем. Тетушка скоро вернулась, поблагодарила и села за соседним столом, достав из сумки завернутые в тряпку собственные столовые приборы. Отодвинула поднос с пластиковой тарелкой, постелила тряпицу и аккуратно по всем правилам выложила большую ложку, нож и вилку. И наконец принялась за чай, перелив его из одноразового стаканчика в свою чашку в розовый цветочек. Закусывала пирожком с селедкой, – соленый, немного ржавый запах пошел сразу. Потом, выпив и пошамкав пустым ртом, о чем-то задумалась, глядя на монастырские стены. Убрала своё. Затем открыла сумку и вынула старую потрёпанную книгу.
Я увидела название, улыбнулась. Улыбнулась всей странности ситуации, всему вместе взятому: этому дню, трапезной, богомолке с чаем и пирожком с селедкой, ее мельхиоровым приборам, задумчивости, почти переходящей в сон и непонятно каким чудом оказавшейся здесь пьесе Нагибина «Срочно требуются седые волосы»…
И все, и ничего особенного, правда! А чувство такое, что день очень важный прошел, особый какой-то, даже не объяснить…
Ереван
Знаете, с чем у меня связан Ереван? С мистикой! Именно в Ереване давным-давно старая гадалка напророчила мне трех сыновей. Вот взяла и запрограммировала мой ещё неокрепший нежный девичий ум. Представить было невозможно, чтобы я, вся такая двадцатилетняя, романтически настроенная, пусть пока еще инфантильная и прямо из школы вышедшая замуж – и на тебе – родишь трех сыновей! Да никогда на свете! Я вообще тогда еще не задумывалась о своей размножательной функции, в ходу были только веселительные и гулятельные! Выйти замуж – пожалуйста, но сразу бросаться рожать детей? Пожить вовсю, поработать с интересом, поездить, где только можно – вот для чего нужна была молодость, а мне тут про трех сыновей, соски, пеленки и бессонные ночи над детской кроваткой. Я, честно говоря, опешила.
Гадалка была широко известна в узких ереванских кругах, о ней ходили слухи и легенды, но разве можно было меня впечатлить всеми этими сказками? А все началось с того, что наша армянская подруга, которая жила в Москве, узнав, что в Армении мы никогда не были, пригласила нас в Ереван. Она обожала ездить на родину, заряжалась там настроением и каждый раз пользовалась малейшим поводом снова увидеть Ереван. Весь город ходил у нее в друзьях, тем более что она была родственницей замечательного композитора и большого папиного друга Арно Бабаджаняна. А Арно, в свою очередь, считался в Армении национальным героем, поэтому можете себе представить, как нас там должны были принимать!
Тот первый для меня Ереван был еще советским, с коммунистическими лозунгами, черными вальяжными машинами «Волга», милиционерами в белых фуражках с царскими полосатыми жезлами в руках, с совершенно пустой площадью Ленина, но таким же, как и всегда шумным рынком, крикливыми торговцами и лоснящимися сухофруктами. И представьте, метро тогда еще даже строить не начали! А я была юной, трепетной, приехала с друзьями, мы кутили, веселились, ходили от знакомых к знакомым, потом к другим, потом еще и еще, и те несколько дней слиплись в один, долгий, без начала и конца, как клубок, из которого не вытянешь ниточку.
Вот кто-то из друзей и предложил уступить свое время, чтобы мы смогли пойти к бабушке Ануш на сеанс, ведь запись к гадалке велась за месяцы вперед. Ну, а подруга, в свою очередь, настояла, чтобы я обязательно отправилась с ней вместе, хоть посмотришь, говорит, как это происходит, она местная достопримечательность, попасть на приём просто так почти невозможно, считай, нам очень повезло. Я упиралась недолго, хотя первый раз в жизни идти к гадалке было страшновато. Верить во все эти кофейные гущи, карты и зеркала я не особо-то и верила, но понимала, что уж точно будет неприятно, если она вдруг сообщит, посмотрев на дно моей чашки, о какой-нибудь неизлечимой болезни или, того хуже, о скорой смерти кого-то из родителей. И зачем мне это надо? Но подруга уговорила, заверила, что бабушка Ануш добрая, никаких ужасов не будет, наоборот, направит и посоветует. Оказывается, они были давно знакомы – представляешь, говорит, сбывается почти всё, что она наговорит, тем более что это ещё и приятно, она ж гадает на кофейной гуще! Еще на лаваше можно, не слышала? Когда определяют пол будущих детей. И вообще, неужели тебе не интересно, это же одновременно и экскурсия, и аттракцион!
Ну любопытство и взыграло. Поехали.
Бабуля жила в пригороде, в простом деревенском домике, сложенном из белого камня. Помню пряную, колышущуюся жару, распахнутые настежь двери и окна, прозрачную тюлевую занавеску от мух и бабушку на пороге. Толстые неповоротливые шмели нехотя пролетали мимо нас к каким-то пахучим цветущим кустам у калитки. Но запах свежемолотого кофе на подступах к дому перебивал все остальные. Какое-то время мы простояли у входа, бабушка что-то долго расспрашивала у подруги на армянском, часто всплескивая руками и чему-то улыбаясь – вай, мама-джан! А я стояла дура-дурой, ни слова не понимая и ковыряя туфлей песок. Вдруг бабушка посмотрела на меня с улыбкой и сказала:
– Ай кез бан, я никогда нэ вру, чтобы врать, надо хорошую память имэть, а я старуха уже!
И мне тогда стало так стыдно, что она мой страх перед гаданием восприняла по-своему, и я испугалась ещё больше.
Наконец, позвала меня в беседку, увитую виноградом, посадила за клеенчатый стол, а сама ушла на кухню. Подруга осталась в доме, бабушка нас разделила. Минут через десять вынесла одну маленькую дымящуюся чашечку с блюдцем, поставила передо мной и села напротив.
– А я кофе и не пью почти, – зачем-то сказала я. Может, надеялась, что в последний момент удастся избежать этого полунасильного гадания…
– Вай аствац, время многое исправляет, – сказала старушка, вздохнув, – со временем полюбишь. – Она говорила колоритно, с акцентом, и слушать ее было в удовольствие. – Я вот человек из раньшего врэмэни. Помню, в дэтстве мне и коньяк казался нэвкусным, а сейчас, ай кез бан, без рюмочки за стол нэ сажусь. Пэй, пэй тихонечко до конца, думай о хорошем, чтоб мысли нэ скакали. Кофэ, оно суеты нэ любит, иначе нарисует тебе нэ то, что заслужила, hинг матис пез гитем кез! Лучшее в жизни случается молча, мнэ так бабушка всегда повторяла, а и правда. Бог дал человеку два уха и один рот, чтоб он больше слушал, чем говорил.
А как всё выпьешь с добрыми мыслями, чашечку возьми в лэвую руку, пэрэверни и застынь, – и она, выпучив глаза, смешно показала, как именно застыть.
Я, скривясь от горечи – кофе-то нельзя сластить – сделала все, как она сказала, и бабушка, водрузив на нос очки, стала рассказывать мне мою будущую жизнь, переходя с русского на армянский и снова на русский. Основательно так всё объясняла, с подробностями и какими-то мелкими красочными деталями, хотя иногда делала долгие паузы, так и не найдя нужного слова ни на одном, ни на другом языке. Я в тот момент даже немного разочаровалась, решив, что всё как-то не очень конкретно, одни общие слова: долгая любовь, интересная жизнь, прекрасная семья, что мир посмотрю и себя покажу, творчеством займусь, найду увлечение и не одно, – эдакий усреднённый набор слов для человеческого счастья, который каждому будет приятно услышать… Мне тогда почему-то казалось, что такой и должна быть обыкновенная жизнь, а как иначе? Но о маме, помню, она как-то хорошо, по-особому сказала, я даже запомнила: «Мама у тебя в семье главная, четко вижу, она как пуговица, на которой все держится». Как пуговица. Так и было.
Троцкий Троцким, но еще там жили Фальк, который раз в неделю устраивал выставки на чердаке, Альтман, Куприн, часто бывала Вера Холодная и много другого творческого люда, не зря дом прозвали «Московским Монпарнасом».
В подвале дома какое-то время пело и плясало кабаре «Летучая мышь» под управлением Никиты Балиева, который был, кстати, учителем замечательной певицы Аллы Баяновой.
Сейчас Дом Перцова выглядит как обычный офис с рабочими комнатами, в которых есть компьютеры, скоросшиватели и бумажки в файликах. Впрочем, кое- что в интерьерах осталось от начала прошлого века, совсем чуть-чуть, и это страшно любопытные детали ушедшей перцовской жизни. Например, удивительная деревянная лестница, пронизывающая всю хозяйскую часть дома. Ее как раз и украшают вырезанные из дерева, гладенькие и до блеска отполированные за сто лет прикосновений совы, которые сидят на перилах каждого пролета. Еще сохранилась деревянная входная группа с птицей сирин, которую видно и на старых фотографиях. Вход, который был прорублен слева, теперь почему-то находится справа. Остался и старый гардероб (изнутри он был в советское время обит для красоты линолеумом), и еще двери в кабинеты некоторых главковских начальников.
Вот такой дом. И всегда, проезжая мимо, смотрю в окна второго этажа.
Бабушкины окна. А по дороге к ним на лестнице Марфа, Люба и Зина.
Новодевичий
В московских монастырях совершенно другое ощущение города, он как бы рядом, иногда и слышен, но ты его совершенно не чувствуешь. Словно высаживаешься на островок, где и время не бежит, а плывет, где и люди не по делам, а по зову души, где даже трава зеленее и небо выше. Тянет иногда в такие места. Хожу.
Вот один из таких дней. Просто записки, ощущения, ничего более.
Решили с детьми поехать в музей Москвы, что на Крымском, там большой блошиный рынок. Походили, поглазели, проголодались. Думали-гадали, где поблизости перекусить. Ездили, круги наворачивали, Садовое закрыто, там велогонка, рванули через мост мимо института моего на Комсомольский, там решили свернуть направо и оказались около Новодевичьего. Совершенно случайно, просто дорога привела. На углу нашли кафе хорошее, посидели тихо, поели и пошли через дорогу. Монастырь открыт, потому что праздник великий. Не подумайте, что я каждый день хожу на службу, совсем нет, но тут само собой получилось, без усилий и размышлений, ноги сами привели. Здесь совсем уже не Москва, за этими толстыми, изъеденными временем стенами. И словами-то не объяснить ощущение. Вроде и не видела ничего особенного, но от увиденного голова закружилась и ком предательский к горлу подступил. Хотя, если так подумать, правда, ничего особенного. Может, я просто с годами слишком впечатлительная стала и жизнь воспринимаю иначе, чем в юности, оно и понятно.
Встретила старинную монахиню, лет под сто, с палочкой, которая медленно и уверенно шла к храму мимо таких же вековых, как и она сама, деревьев. Посетители, абсолютно пришлые люди, почтительно отступали и кланялись – сила от этой старицы шла неимоверная.
Чуть дальше, у могилы русскому поэту Владимиру Соловьеву, сидел, сгорбившись, бородатый мужчина с подростком. Мальчик елозил пальцами по экрану телефона, яростно убивая наступающих монстров, а папа, скорей всего, это был папа, что-то вполголоса говорил ему без остановки. И знаете, что он говорил, вернее, читал?
«Чего ж еще недоставало?
Зачем весь мир опять в крови? —
Душа вселенной тосковала
О духе веры и любви!»
Именно, Владимира Соловьева. Наглядно. Вот тут лежит поэт, а вот то, что он писал. Мужчина читал и читал с мрачноватым видом, сын возил пальцами по экранчику, я улыбалась, разглядывая памятник и очень старалась на них не смотреть, неприлично все-таки.
Пошла дальше по аллейке. Все деревья громадные, сказочные, с дуплами, обжитые птицами и белками. Новорожденные заботливо посажены рядом с пожилыми, в распорочку, на месте уже ушедших. Через сто лет вымахают.
Памятники все старинные, с шестнадцатого века есть, но в основном век девятнадцатый: от геройских бородинцев во главе с Денисом Давыдовым и всей его доблестной семьей до генерала Брусилова – помните, «Брусиловский прорыв»?
Лежит тут среди всех прочих и девица Горелкина, карлица при императорском дворе Елизаветы. Насмотрелась, видимо, на прелести мирской жизни и постриглась в монахини, грехи за всех замаливать.
Князья Трубецкие тоже покоятся, декабрист Муравьев-Апостол, писатель Писемский, почти вся профессура Московского Университета 19 века, купцы и фрейлины, врачи и монахи. На чьих-то могилах одуванчики растут, где-то уже отцвели тюльпаны, скамья покосившаяся стоит – как давно, сколько десятилетий назад последний раз сидели на них пра-пра-пра-правнуки?
Птица ко мне прилетела, у ног почему-то шастала, не пугалась. Трясогузка с чем-то съедобным в клюве. Бегала вокруг по дорожке, хлопотала, головку поднимала, вглядывалась.
Мужчина подошел, здравствуйте, говорит, вы как? Ничего, говорю, спасибо. Вы держитесь, говорит. Кивнул и ушел. Я держалась…
Пошла дальше, мимо Смоленского, дубов и скамеек к кельям монашьим. Тут все вне времени, как двести лет назад было, и так через двести лет, дай бог, будет – нехитрые палисаднички у каждого входа с ирисами, проклюнувшимися люпинами и душистым монастырским разнотравьем, да кормушки птичьи на сиреневых цветущих кустах. И дальше, за углом, калина в самом цвету.
А еще обожаю ходить в монастырские трапезные, даже когда не голодна. И в тот раз пошла. Покой, умиротворение, простая вкусная еда, посетители без суеты и спеха. И вот приметила в трапезной тетушку. Вида неказистого, в галошах, широкой цветастой юбке, клетчатом мужском «пинжаке», пляжной кокетливой шляпке и в очках на резинке, перерезающей всю эту шляпную красоту. И еще деталь – она была совершенно беззубой, эта тетушка.
– За фумкой прифледите, графданочка, я за чаем отойду… – я вызвала у нее доверие, видимо.
Я осталась с большой и на вид совершенно неподъемной челночной сумкой, перевязанной для верности широким мужским ремнем. Тетушка скоро вернулась, поблагодарила и села за соседним столом, достав из сумки завернутые в тряпку собственные столовые приборы. Отодвинула поднос с пластиковой тарелкой, постелила тряпицу и аккуратно по всем правилам выложила большую ложку, нож и вилку. И наконец принялась за чай, перелив его из одноразового стаканчика в свою чашку в розовый цветочек. Закусывала пирожком с селедкой, – соленый, немного ржавый запах пошел сразу. Потом, выпив и пошамкав пустым ртом, о чем-то задумалась, глядя на монастырские стены. Убрала своё. Затем открыла сумку и вынула старую потрёпанную книгу.
Я увидела название, улыбнулась. Улыбнулась всей странности ситуации, всему вместе взятому: этому дню, трапезной, богомолке с чаем и пирожком с селедкой, ее мельхиоровым приборам, задумчивости, почти переходящей в сон и непонятно каким чудом оказавшейся здесь пьесе Нагибина «Срочно требуются седые волосы»…
И все, и ничего особенного, правда! А чувство такое, что день очень важный прошел, особый какой-то, даже не объяснить…
Ереван
Знаете, с чем у меня связан Ереван? С мистикой! Именно в Ереване давным-давно старая гадалка напророчила мне трех сыновей. Вот взяла и запрограммировала мой ещё неокрепший нежный девичий ум. Представить было невозможно, чтобы я, вся такая двадцатилетняя, романтически настроенная, пусть пока еще инфантильная и прямо из школы вышедшая замуж – и на тебе – родишь трех сыновей! Да никогда на свете! Я вообще тогда еще не задумывалась о своей размножательной функции, в ходу были только веселительные и гулятельные! Выйти замуж – пожалуйста, но сразу бросаться рожать детей? Пожить вовсю, поработать с интересом, поездить, где только можно – вот для чего нужна была молодость, а мне тут про трех сыновей, соски, пеленки и бессонные ночи над детской кроваткой. Я, честно говоря, опешила.
Гадалка была широко известна в узких ереванских кругах, о ней ходили слухи и легенды, но разве можно было меня впечатлить всеми этими сказками? А все началось с того, что наша армянская подруга, которая жила в Москве, узнав, что в Армении мы никогда не были, пригласила нас в Ереван. Она обожала ездить на родину, заряжалась там настроением и каждый раз пользовалась малейшим поводом снова увидеть Ереван. Весь город ходил у нее в друзьях, тем более что она была родственницей замечательного композитора и большого папиного друга Арно Бабаджаняна. А Арно, в свою очередь, считался в Армении национальным героем, поэтому можете себе представить, как нас там должны были принимать!
Тот первый для меня Ереван был еще советским, с коммунистическими лозунгами, черными вальяжными машинами «Волга», милиционерами в белых фуражках с царскими полосатыми жезлами в руках, с совершенно пустой площадью Ленина, но таким же, как и всегда шумным рынком, крикливыми торговцами и лоснящимися сухофруктами. И представьте, метро тогда еще даже строить не начали! А я была юной, трепетной, приехала с друзьями, мы кутили, веселились, ходили от знакомых к знакомым, потом к другим, потом еще и еще, и те несколько дней слиплись в один, долгий, без начала и конца, как клубок, из которого не вытянешь ниточку.
Вот кто-то из друзей и предложил уступить свое время, чтобы мы смогли пойти к бабушке Ануш на сеанс, ведь запись к гадалке велась за месяцы вперед. Ну, а подруга, в свою очередь, настояла, чтобы я обязательно отправилась с ней вместе, хоть посмотришь, говорит, как это происходит, она местная достопримечательность, попасть на приём просто так почти невозможно, считай, нам очень повезло. Я упиралась недолго, хотя первый раз в жизни идти к гадалке было страшновато. Верить во все эти кофейные гущи, карты и зеркала я не особо-то и верила, но понимала, что уж точно будет неприятно, если она вдруг сообщит, посмотрев на дно моей чашки, о какой-нибудь неизлечимой болезни или, того хуже, о скорой смерти кого-то из родителей. И зачем мне это надо? Но подруга уговорила, заверила, что бабушка Ануш добрая, никаких ужасов не будет, наоборот, направит и посоветует. Оказывается, они были давно знакомы – представляешь, говорит, сбывается почти всё, что она наговорит, тем более что это ещё и приятно, она ж гадает на кофейной гуще! Еще на лаваше можно, не слышала? Когда определяют пол будущих детей. И вообще, неужели тебе не интересно, это же одновременно и экскурсия, и аттракцион!
Ну любопытство и взыграло. Поехали.
Бабуля жила в пригороде, в простом деревенском домике, сложенном из белого камня. Помню пряную, колышущуюся жару, распахнутые настежь двери и окна, прозрачную тюлевую занавеску от мух и бабушку на пороге. Толстые неповоротливые шмели нехотя пролетали мимо нас к каким-то пахучим цветущим кустам у калитки. Но запах свежемолотого кофе на подступах к дому перебивал все остальные. Какое-то время мы простояли у входа, бабушка что-то долго расспрашивала у подруги на армянском, часто всплескивая руками и чему-то улыбаясь – вай, мама-джан! А я стояла дура-дурой, ни слова не понимая и ковыряя туфлей песок. Вдруг бабушка посмотрела на меня с улыбкой и сказала:
– Ай кез бан, я никогда нэ вру, чтобы врать, надо хорошую память имэть, а я старуха уже!
И мне тогда стало так стыдно, что она мой страх перед гаданием восприняла по-своему, и я испугалась ещё больше.
Наконец, позвала меня в беседку, увитую виноградом, посадила за клеенчатый стол, а сама ушла на кухню. Подруга осталась в доме, бабушка нас разделила. Минут через десять вынесла одну маленькую дымящуюся чашечку с блюдцем, поставила передо мной и села напротив.
– А я кофе и не пью почти, – зачем-то сказала я. Может, надеялась, что в последний момент удастся избежать этого полунасильного гадания…
– Вай аствац, время многое исправляет, – сказала старушка, вздохнув, – со временем полюбишь. – Она говорила колоритно, с акцентом, и слушать ее было в удовольствие. – Я вот человек из раньшего врэмэни. Помню, в дэтстве мне и коньяк казался нэвкусным, а сейчас, ай кез бан, без рюмочки за стол нэ сажусь. Пэй, пэй тихонечко до конца, думай о хорошем, чтоб мысли нэ скакали. Кофэ, оно суеты нэ любит, иначе нарисует тебе нэ то, что заслужила, hинг матис пез гитем кез! Лучшее в жизни случается молча, мнэ так бабушка всегда повторяла, а и правда. Бог дал человеку два уха и один рот, чтоб он больше слушал, чем говорил.
А как всё выпьешь с добрыми мыслями, чашечку возьми в лэвую руку, пэрэверни и застынь, – и она, выпучив глаза, смешно показала, как именно застыть.
Я, скривясь от горечи – кофе-то нельзя сластить – сделала все, как она сказала, и бабушка, водрузив на нос очки, стала рассказывать мне мою будущую жизнь, переходя с русского на армянский и снова на русский. Основательно так всё объясняла, с подробностями и какими-то мелкими красочными деталями, хотя иногда делала долгие паузы, так и не найдя нужного слова ни на одном, ни на другом языке. Я в тот момент даже немного разочаровалась, решив, что всё как-то не очень конкретно, одни общие слова: долгая любовь, интересная жизнь, прекрасная семья, что мир посмотрю и себя покажу, творчеством займусь, найду увлечение и не одно, – эдакий усреднённый набор слов для человеческого счастья, который каждому будет приятно услышать… Мне тогда почему-то казалось, что такой и должна быть обыкновенная жизнь, а как иначе? Но о маме, помню, она как-то хорошо, по-особому сказала, я даже запомнила: «Мама у тебя в семье главная, четко вижу, она как пуговица, на которой все держится». Как пуговица. Так и было.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: