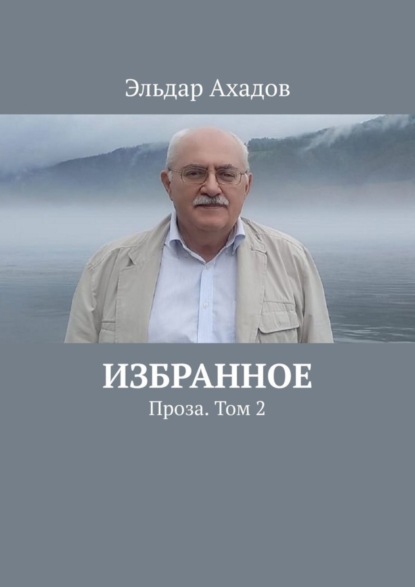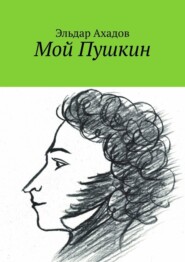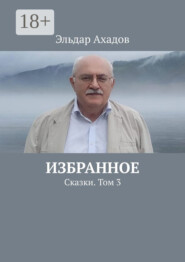По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Избранное. Проза. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На картине произошли изменения, которых не касалась его рука! На волнах появилось отражение звезды. Мало того: сам айсберг и его отражение (вместе со звездой) составляли в совокупности очертания нечеловеческого лица. Говоря конкретнее, это было лицо старика с козлиной бородкой, проступившее в отражении воды и видимое как бы сквозь воду, но при этом само оно (Филипчук это чувствовал) человеческим явно не было, то есть не являлось лицом «хомо сапиенс». Художник ощутил это буквально собственной кожей, сквозь которую его мгновенно начало знобить. Мало всего этого: ожившее ОНО наблюдало за ним острым колющим взглядом, как бы, не отпуская от себя.
Матвей вдруг почувствовал, что теперь, повинуясь взгляду, не сможет выйти из комнаты до утра. Взгляд управлял им, контролируя все его мысли и поступки. И ведь оживил ЭТО он сам, на уровне интуиции догадавшись (или ему это было подсказано чужой волей?) насчёт того последнего недостающего росчерка!
Через некоторое время художник заметил, что лицо на картине стало исчезать, как бы растворяясь, пока водный пейзаж окончательно не опустел. Однако, напряжённое состояние от этого только усилилось, поскольку появилось ощущение того, что в комнате он теперь не один. И точно: боковым зрением Филипчук заметил внезапное появление какого-то существа на скамейке возле настольной лампы:
Не приближайся ко мне! Только не приближайся! Нет! Что ты делаешь? Уйди!.. Уйдите!.. Дяденька, пожалуйста. Милостивый государь, прошу Вас! Сударь… Дедушка… Ну, как тебя там? Не надо, а? У меня печень больная, я плохо вижу, я устал. Я больше не вынесу этого! – обрывки фраз проносились в голове художника. Самым жутким было то, что существо это никак не перемещаясь, как бы сразу очутилось там, где очутилось, явившись мгновенно и ниоткуда.
Оно представляло из себя хмурого старика чуть ниже среднего роста в нижнем белье кофейного цвета с чёрными хлопчатобумажными носками, надетыми поверх кальсон. На голове старика находилось нечто вроде ледяной короны в виде остроконечно взбитого кока. Существо, хмурясь и нервно подёргивая тонкими бесцветными губами, читало невесть откуда взявшуюся толстенную коричневую книгу, которой прежде Филипчук никогда у себя не видел. При этом с губ старика не слетало ни звука и, вообще, в комнате царила мёртвая тишина. На Филипчука существо не обращало ни малейшего внимания, точно он был предметом полностью неодушевлённым, как стол или табурет.
Так продолжалось до утренних сумерек, с наступлением которых очертания существа медленно растворились в воздухе, и тут же на картине вновь возник айсберг с летящей над ним звездой. И ничего кроме этого на полотне словно и не было! И всё же Филипчук чувствовал всюду незримое присутствие чужой воли, следившей за всеми его поступками: будто дух того старика пытался внедриться в его мозг, чтобы управлять им.
Матвей ходил теперь в мастерскую к ночи и оставался в ней до утра, ощущая, как теряет рассудок и превращается в придаток к картине, словно явившейся к нему из иного мира. Филипчук ненавидел это полотно весь световой день, но с наступлением темноты опять становился его рабом. Он бросил пить и курить, не притрагивался больше к кофе: всю ночь, как последний холуй, он жадно ловил взглядом каждое движение старика, каждое выражение его вечно недовольного чем-то лица, абсолютно не понимая зачем ему всё это нужно и кто он теперь такой – зомби или человек?
– Ну, почему, почему этого никто больше не видит? Почему только я один? Что я за тряпка такая?! Откуда во мне эта подобострастность, это холопство? «Слушаю и повинуюсь, мой господин!» А «господину» откровенно наплевать на меня – кто я и что я. Обидно, да? «Моё ничтожество слушает Вас, о, повелитель!.. Ах, вы не смотрите на меня, мой господин!» Как же всё это глупо. Ненавижу – себя, его, всё вокруг! Ненавижу! Отчего так мерзко?! Откуда во мне такое? И ты ещё спрашиваешь: откуда? Да, погляди на себя со стороны, придурок!
И ведь, что интересно: действительно, в его мастерской перебывало множество всякого народа, однако, никто и никогда не видел в этой картине ничего кроме обычного плывущего по безбрежному ночному океану айсберга. Многие её хвалили, но никто ни разу не изъявил желания её приобрести (на что Филипчук тайно надеялся), причём у каждого находились на то свои весомые причины.
Филипчук с нетерпением ждал приезда бабкиного внучка. Долго ждал, пока, однажды, Манилов не сообщил ему приятную (как тому казалось) весть: о картине внучок больше не спросит никогда. У него отныне совсем другие хлопоты. Дело в том, что он, решив заняться коммерцией у себя в городе и не имея на то достаточного опыта, наделал кучу долгов, прогорел и скрылся из дома скорее всего навсегда, поскольку общая сумма долга такова, что никакие большие дружные ребята его ему никогда не простят и не спишут. День, когда Филипчук об этом узнал, он посчитал тогда самым чёрным в своей жизни. Но и в этом он ошибся.
Жена начала было ревновать его к постоянным ночёвкам в мастерской. Он, к её удивлению, обрадовался и пригласил её с собой. В ответ она сказала, что ей не 18 лет, чтобы из тёплой постели на ночь глядя тащиться с ним за сомнительной романтикой спанья в холодной мастерской среди запахов краски и вонючего ацетона и… послала его к чёрту. Куда он, собственно, и пошёл, постеснявшись сказать дурацкую правду даже ей.
Блуждает ум, как лист опавший.
Скользит по лицам тёмный взгляд.
И по душе моей уставшей
Кресты знамения творят…
Матвей пытался заставить себя сходить в церковь, покаяться там кому-нибудь, но… но не осмелился и на это, устыдившись самого себя. Тогда он решил выбросить это полотно на помойку.
И, однажды, днём (ибо ночью он уже не имел власти над собой) он так и сделал. – Господи! Наконец-то! Отделался! Свобода! Я счастлив и одинок! Никто теперь не станет терзать мою бедную душу! – облегчённо улыбаясь, думал Филипчук.
Однако, с наступлением темноты Нечто вновь загнало его в мастерскую. И там две ночи кряду он отсидел в непонятном для самого себя горьком раскаянии, ожидая хмурого старика с его кальсонами и коричневой книгой. На третьи сутки днём к нему явился Манилов, как всегда, бодрый и немного под градусом. Под мышкой у него торчала картина Филипчука. Он рассказал, как вчера на улице к нему пристал знакомый дворовый бомж в надежде получить хоть что-нибудь на пропой. Иван, конечно же сразу признав матвееву картину, дал бомжу на бутылку и, довольный, потащил добычу к Филипчуку, рассчитывая на то, что он, естественно, обрадуется возвращению пропажи и, также естественно, отплатит ему за старания вдвойне. Он так и сказал Филипчуку с порога:
– С тебя пара пузырей…
Тому ничего не оставалось делать, как только скорчить, ну, очень благодарную физиономию и бежать за бутылками. Пить он, однако, не стал сославшись на печень. На что Иван, конечно, обиделся, ибо печень печенью, а дружба дружбой, но вида не показал, быстро попрощался и тут же ушёл.
Чувствуя, как изо дня в день слабеет его рассудок, будто читая ту коричневую книгу, старик впитывает через неё в себя всю его жизнь, выталкивая его самого из его же собственного тела, Филипчук решился на крайние меры. Среди бела дня облив картину бензином, он сжёг её дотла… Но было слишком поздно. На ночь он всё равно остался в мастерской и, видимо, находясь в забытьи или, как раньше говорили, «не в себе», – к рассвету нарисовал полотно заново точь-в-точь таким же, каким оно было прежде. Только старик теперь выглядел ещё злее.
Филипчук стал замкнутым, вечно подавленным, начал избегать общения со знакомыми, многих при встрече просто не узнавал в лицо. Даже жена теперь сторонилась его. Чем же всё кончилось? А ничем. И кончилось ли?..
Вдруг случился пожар. Однажды, днём, ближе к вечеру народ заметил клубы дыма в одном из окон самого верхнего этажа. Очаг возгорания быстро загасить не удалось, в огне погиб человек. Труп почти не обгорел, видимо, пострадавший просто задохнулся от дыма. Странно, но погибший не был опознан никем: никто здесь раньше не видел старика в нижнем белье кофейного цвета и чёрных носках. А художник Филипчук исчез, словно испарился.
Он объявлен в розыск, но результатов пока нет. В мастерской погибло много разных картин, но два полотна странным образом уцелели. Странным, потому что находились они в самом эпицентре пожара. Правда, одно полотно – весьма ветхое, на нём всё равно ничего разобрать нельзя, а вот другое – абсолютно свежее: айсберг посреди океана.
Художник Манилов оставил его себе с согласия жены Матвея на память о нём. После ремонта Ивану отдали мастерскую Филипчука. Картина «Остров грёз» висит в ней на самом почётном месте.
…В тихие предутренние часы комната озаряется светом, исходящим от картины, о которой читатели наверное уже догадались. Там, посреди безбрежного океана под яркой летящей звездой проступают в эти мгновения до боли знакомые Ивану очертания лица с бородкой и в короне, напоминающей обычную зимнюю шапку-пирожок.
Только Иван-то этого не видит. Он – не «сова», а типичный «жаворонок» и спит всегда дома. А старое полотно тоже с согласия жены Филипчука, разумеется, Иван отправил на экспертизу и реставрацию в Санкт-Петербург.
Ахматовская тетрадь
В 1978 году я стал студентом горного института в Санкт-Петербурге, жил и учился на Васильевском острове. Мой студенческий товарищ Игорь Копейко узнал где-то о том, что некий господин Умников создал нелегальный музей Анны Ахматовой в своей квартире в городе Пушкине (в бывшем Царском Селе). Первый в мире музей Ахматовой располагался по адресу город Пушкин, улица Вокзальная, дом 25, квартира 21. Конечно, я в те времена не предполагал так хорошо и надолго запомнить адрес музея, но именно такой адрес подтверждает запись Фаины Георгиевны Раневской в письме Михаилу Михайловичу Кралину от 11 декабря 1981 года: «…Серг. Дмитр. Умникову я отослала снимок с руки А.А. в гипсе, которую она мне подарила. Посылаю Вам адрес С. Д. Умникова: Ленинград. 18862, Вокзальная, 25 кв. 21…»
Мы нашли квартиру Сергея Дмитриевича Умникова, долго звонили в дверь, но она не открылась. По-видимому, никого не было дома. Мы очень расстроились. Но на этом история не закончилась.
Мой товарищ, заметив, как я разочарован безрезультатностью нашей поездки, начал звонить в соседние двери на том же этаже. Пожилая женщина, открывшая соседнюю дверь, сказала, что Умников болен и находится в больнице, но если мы действительно хотим увидеть музей, то она позовёт свою подругу по парадной и они откроют нам квартиру Умникова, потому что он им это разрешил. Мы согласились и поблагодарили их за отзывчивость и любезность. Вскоре двое студентов осматривали экспозицию первого ещё неофициального музея Ахматовой, а наши гостеприимные старушки заваривали чай там же в квартире Умникова, на самой обычной советской кухне, чтобы угостить бедных студентов (нас с Игорем) чаем с конфетами и печеньем.
Когда вода в чайнике закипела, старушки пригласили нас на кухню (потому что это на самом деле была обычная квартира, а не то, что подразумевается под торжественным словом «музей»), чтобы вместе попить чаю со сладким угощением. Мы пили чай, разговаривали, и я сознался в том, что тоже пишу стихи. Женщины сразу же попросили меня прочитать что-нибудь из своего вслух. Я прочитал для них стихотворение о любви, и оно им так понравилось, что они попросили меня записать его для них на память. Но у меня, как обычно, не оказалось с собой ни бумаги, ни ручки, ни карандаша. Женщины начали спешно искать для меня бумагу и ручку. Чем писать нашлось почти сразу, а вот на чём…
Наконец, одна из двух женщин, с возгласом «Нашла!», принесла на кухню откуда-то и вручила мне синюю школьную тетрадь, раскрытую на последней пустой странице для того, чтобы я скорее сделал свою запись. Я сразу же начал писать, потому что мы с Игорем уже опаздывали на электричку. Только закончив запись, я решил посмотреть на другие страницы. Все они были наполнены стихами, написанными одной рукой – рукой Анны Ахматовой! Эта тетрадь принадлежала ей!
Конечно, если бы хозяин музея был дома, ничего подобного произойти бы не могло. Если бы его соседи не открыли дверь музея, тоже ничего не случилось бы. Но в тот момент мне казалось, что над нами витает дух самой Анны Андреевны. Потом, много лет спустя, мне сказали, что такой тетради в официальном архиве Ахматовой не существует. Но всем известно, что несколько рукописей Ахматовой исчезли до того, как возник официальный архив.
О не найденных синих тетрадях Анны Андреевны сообщает Лидия Чуковская (Чуковская Лидия. Переписка, М.: Новое литературное обозрение / 2003. Директору института русской литературы члену-корр. АН СССР В. Г. Базанову): «Со мною Анна Андреевна о будущей судьбе своих бумаг и вещей никогда не говорила. Но однажды, показывая тетрадку, дорогую ей по особым причинам, произнесла: „Этому место в Музее. В Пушкинском Доме“. Предложение мое исполнено не было… мы теперь так никогда и не узнаем с должною точностью, каково было содержимое архива Ахматовой ко дню ее смерти. Когда-то Ахматова показывала мне, например, три синие школьные тетрадки, куда ею от руки была переписана „Поэма без героя“. Что сталось с этими тетрадками впоследствии? Существовали ли они в архиве до 5 марта 1966 г.? Если да – то где они теперь? Если нет – то куда и когда они исчезли? Из-за отсутствия своевременно сделанной описи каждый из нас таких вопросов может задавать десятки».
Возможно, какой-то посетитель до нас пытался показать рукописи Умникову и привез их к нему тайно, но неудачно: именно тогда, когда тот по стечению обстоятельств заболел и потому, возможно, что ни о чём так и не узнал. Я не судья, не прокурор и не следователь. Всякое случается. Жизнь гораздо изобретательнее нас в создании, казалось бы, немыслимых ситуаций. Но рядом со мной находились три взрослых человека, которые видели то же самое, что и я: ахматовская тетрадь была в моих руках.
Матвей вдруг почувствовал, что теперь, повинуясь взгляду, не сможет выйти из комнаты до утра. Взгляд управлял им, контролируя все его мысли и поступки. И ведь оживил ЭТО он сам, на уровне интуиции догадавшись (или ему это было подсказано чужой волей?) насчёт того последнего недостающего росчерка!
Через некоторое время художник заметил, что лицо на картине стало исчезать, как бы растворяясь, пока водный пейзаж окончательно не опустел. Однако, напряжённое состояние от этого только усилилось, поскольку появилось ощущение того, что в комнате он теперь не один. И точно: боковым зрением Филипчук заметил внезапное появление какого-то существа на скамейке возле настольной лампы:
Не приближайся ко мне! Только не приближайся! Нет! Что ты делаешь? Уйди!.. Уйдите!.. Дяденька, пожалуйста. Милостивый государь, прошу Вас! Сударь… Дедушка… Ну, как тебя там? Не надо, а? У меня печень больная, я плохо вижу, я устал. Я больше не вынесу этого! – обрывки фраз проносились в голове художника. Самым жутким было то, что существо это никак не перемещаясь, как бы сразу очутилось там, где очутилось, явившись мгновенно и ниоткуда.
Оно представляло из себя хмурого старика чуть ниже среднего роста в нижнем белье кофейного цвета с чёрными хлопчатобумажными носками, надетыми поверх кальсон. На голове старика находилось нечто вроде ледяной короны в виде остроконечно взбитого кока. Существо, хмурясь и нервно подёргивая тонкими бесцветными губами, читало невесть откуда взявшуюся толстенную коричневую книгу, которой прежде Филипчук никогда у себя не видел. При этом с губ старика не слетало ни звука и, вообще, в комнате царила мёртвая тишина. На Филипчука существо не обращало ни малейшего внимания, точно он был предметом полностью неодушевлённым, как стол или табурет.
Так продолжалось до утренних сумерек, с наступлением которых очертания существа медленно растворились в воздухе, и тут же на картине вновь возник айсберг с летящей над ним звездой. И ничего кроме этого на полотне словно и не было! И всё же Филипчук чувствовал всюду незримое присутствие чужой воли, следившей за всеми его поступками: будто дух того старика пытался внедриться в его мозг, чтобы управлять им.
Матвей ходил теперь в мастерскую к ночи и оставался в ней до утра, ощущая, как теряет рассудок и превращается в придаток к картине, словно явившейся к нему из иного мира. Филипчук ненавидел это полотно весь световой день, но с наступлением темноты опять становился его рабом. Он бросил пить и курить, не притрагивался больше к кофе: всю ночь, как последний холуй, он жадно ловил взглядом каждое движение старика, каждое выражение его вечно недовольного чем-то лица, абсолютно не понимая зачем ему всё это нужно и кто он теперь такой – зомби или человек?
– Ну, почему, почему этого никто больше не видит? Почему только я один? Что я за тряпка такая?! Откуда во мне эта подобострастность, это холопство? «Слушаю и повинуюсь, мой господин!» А «господину» откровенно наплевать на меня – кто я и что я. Обидно, да? «Моё ничтожество слушает Вас, о, повелитель!.. Ах, вы не смотрите на меня, мой господин!» Как же всё это глупо. Ненавижу – себя, его, всё вокруг! Ненавижу! Отчего так мерзко?! Откуда во мне такое? И ты ещё спрашиваешь: откуда? Да, погляди на себя со стороны, придурок!
И ведь, что интересно: действительно, в его мастерской перебывало множество всякого народа, однако, никто и никогда не видел в этой картине ничего кроме обычного плывущего по безбрежному ночному океану айсберга. Многие её хвалили, но никто ни разу не изъявил желания её приобрести (на что Филипчук тайно надеялся), причём у каждого находились на то свои весомые причины.
Филипчук с нетерпением ждал приезда бабкиного внучка. Долго ждал, пока, однажды, Манилов не сообщил ему приятную (как тому казалось) весть: о картине внучок больше не спросит никогда. У него отныне совсем другие хлопоты. Дело в том, что он, решив заняться коммерцией у себя в городе и не имея на то достаточного опыта, наделал кучу долгов, прогорел и скрылся из дома скорее всего навсегда, поскольку общая сумма долга такова, что никакие большие дружные ребята его ему никогда не простят и не спишут. День, когда Филипчук об этом узнал, он посчитал тогда самым чёрным в своей жизни. Но и в этом он ошибся.
Жена начала было ревновать его к постоянным ночёвкам в мастерской. Он, к её удивлению, обрадовался и пригласил её с собой. В ответ она сказала, что ей не 18 лет, чтобы из тёплой постели на ночь глядя тащиться с ним за сомнительной романтикой спанья в холодной мастерской среди запахов краски и вонючего ацетона и… послала его к чёрту. Куда он, собственно, и пошёл, постеснявшись сказать дурацкую правду даже ей.
Блуждает ум, как лист опавший.
Скользит по лицам тёмный взгляд.
И по душе моей уставшей
Кресты знамения творят…
Матвей пытался заставить себя сходить в церковь, покаяться там кому-нибудь, но… но не осмелился и на это, устыдившись самого себя. Тогда он решил выбросить это полотно на помойку.
И, однажды, днём (ибо ночью он уже не имел власти над собой) он так и сделал. – Господи! Наконец-то! Отделался! Свобода! Я счастлив и одинок! Никто теперь не станет терзать мою бедную душу! – облегчённо улыбаясь, думал Филипчук.
Однако, с наступлением темноты Нечто вновь загнало его в мастерскую. И там две ночи кряду он отсидел в непонятном для самого себя горьком раскаянии, ожидая хмурого старика с его кальсонами и коричневой книгой. На третьи сутки днём к нему явился Манилов, как всегда, бодрый и немного под градусом. Под мышкой у него торчала картина Филипчука. Он рассказал, как вчера на улице к нему пристал знакомый дворовый бомж в надежде получить хоть что-нибудь на пропой. Иван, конечно же сразу признав матвееву картину, дал бомжу на бутылку и, довольный, потащил добычу к Филипчуку, рассчитывая на то, что он, естественно, обрадуется возвращению пропажи и, также естественно, отплатит ему за старания вдвойне. Он так и сказал Филипчуку с порога:
– С тебя пара пузырей…
Тому ничего не оставалось делать, как только скорчить, ну, очень благодарную физиономию и бежать за бутылками. Пить он, однако, не стал сославшись на печень. На что Иван, конечно, обиделся, ибо печень печенью, а дружба дружбой, но вида не показал, быстро попрощался и тут же ушёл.
Чувствуя, как изо дня в день слабеет его рассудок, будто читая ту коричневую книгу, старик впитывает через неё в себя всю его жизнь, выталкивая его самого из его же собственного тела, Филипчук решился на крайние меры. Среди бела дня облив картину бензином, он сжёг её дотла… Но было слишком поздно. На ночь он всё равно остался в мастерской и, видимо, находясь в забытьи или, как раньше говорили, «не в себе», – к рассвету нарисовал полотно заново точь-в-точь таким же, каким оно было прежде. Только старик теперь выглядел ещё злее.
Филипчук стал замкнутым, вечно подавленным, начал избегать общения со знакомыми, многих при встрече просто не узнавал в лицо. Даже жена теперь сторонилась его. Чем же всё кончилось? А ничем. И кончилось ли?..
Вдруг случился пожар. Однажды, днём, ближе к вечеру народ заметил клубы дыма в одном из окон самого верхнего этажа. Очаг возгорания быстро загасить не удалось, в огне погиб человек. Труп почти не обгорел, видимо, пострадавший просто задохнулся от дыма. Странно, но погибший не был опознан никем: никто здесь раньше не видел старика в нижнем белье кофейного цвета и чёрных носках. А художник Филипчук исчез, словно испарился.
Он объявлен в розыск, но результатов пока нет. В мастерской погибло много разных картин, но два полотна странным образом уцелели. Странным, потому что находились они в самом эпицентре пожара. Правда, одно полотно – весьма ветхое, на нём всё равно ничего разобрать нельзя, а вот другое – абсолютно свежее: айсберг посреди океана.
Художник Манилов оставил его себе с согласия жены Матвея на память о нём. После ремонта Ивану отдали мастерскую Филипчука. Картина «Остров грёз» висит в ней на самом почётном месте.
…В тихие предутренние часы комната озаряется светом, исходящим от картины, о которой читатели наверное уже догадались. Там, посреди безбрежного океана под яркой летящей звездой проступают в эти мгновения до боли знакомые Ивану очертания лица с бородкой и в короне, напоминающей обычную зимнюю шапку-пирожок.
Только Иван-то этого не видит. Он – не «сова», а типичный «жаворонок» и спит всегда дома. А старое полотно тоже с согласия жены Филипчука, разумеется, Иван отправил на экспертизу и реставрацию в Санкт-Петербург.
Ахматовская тетрадь
В 1978 году я стал студентом горного института в Санкт-Петербурге, жил и учился на Васильевском острове. Мой студенческий товарищ Игорь Копейко узнал где-то о том, что некий господин Умников создал нелегальный музей Анны Ахматовой в своей квартире в городе Пушкине (в бывшем Царском Селе). Первый в мире музей Ахматовой располагался по адресу город Пушкин, улица Вокзальная, дом 25, квартира 21. Конечно, я в те времена не предполагал так хорошо и надолго запомнить адрес музея, но именно такой адрес подтверждает запись Фаины Георгиевны Раневской в письме Михаилу Михайловичу Кралину от 11 декабря 1981 года: «…Серг. Дмитр. Умникову я отослала снимок с руки А.А. в гипсе, которую она мне подарила. Посылаю Вам адрес С. Д. Умникова: Ленинград. 18862, Вокзальная, 25 кв. 21…»
Мы нашли квартиру Сергея Дмитриевича Умникова, долго звонили в дверь, но она не открылась. По-видимому, никого не было дома. Мы очень расстроились. Но на этом история не закончилась.
Мой товарищ, заметив, как я разочарован безрезультатностью нашей поездки, начал звонить в соседние двери на том же этаже. Пожилая женщина, открывшая соседнюю дверь, сказала, что Умников болен и находится в больнице, но если мы действительно хотим увидеть музей, то она позовёт свою подругу по парадной и они откроют нам квартиру Умникова, потому что он им это разрешил. Мы согласились и поблагодарили их за отзывчивость и любезность. Вскоре двое студентов осматривали экспозицию первого ещё неофициального музея Ахматовой, а наши гостеприимные старушки заваривали чай там же в квартире Умникова, на самой обычной советской кухне, чтобы угостить бедных студентов (нас с Игорем) чаем с конфетами и печеньем.
Когда вода в чайнике закипела, старушки пригласили нас на кухню (потому что это на самом деле была обычная квартира, а не то, что подразумевается под торжественным словом «музей»), чтобы вместе попить чаю со сладким угощением. Мы пили чай, разговаривали, и я сознался в том, что тоже пишу стихи. Женщины сразу же попросили меня прочитать что-нибудь из своего вслух. Я прочитал для них стихотворение о любви, и оно им так понравилось, что они попросили меня записать его для них на память. Но у меня, как обычно, не оказалось с собой ни бумаги, ни ручки, ни карандаша. Женщины начали спешно искать для меня бумагу и ручку. Чем писать нашлось почти сразу, а вот на чём…
Наконец, одна из двух женщин, с возгласом «Нашла!», принесла на кухню откуда-то и вручила мне синюю школьную тетрадь, раскрытую на последней пустой странице для того, чтобы я скорее сделал свою запись. Я сразу же начал писать, потому что мы с Игорем уже опаздывали на электричку. Только закончив запись, я решил посмотреть на другие страницы. Все они были наполнены стихами, написанными одной рукой – рукой Анны Ахматовой! Эта тетрадь принадлежала ей!
Конечно, если бы хозяин музея был дома, ничего подобного произойти бы не могло. Если бы его соседи не открыли дверь музея, тоже ничего не случилось бы. Но в тот момент мне казалось, что над нами витает дух самой Анны Андреевны. Потом, много лет спустя, мне сказали, что такой тетради в официальном архиве Ахматовой не существует. Но всем известно, что несколько рукописей Ахматовой исчезли до того, как возник официальный архив.
О не найденных синих тетрадях Анны Андреевны сообщает Лидия Чуковская (Чуковская Лидия. Переписка, М.: Новое литературное обозрение / 2003. Директору института русской литературы члену-корр. АН СССР В. Г. Базанову): «Со мною Анна Андреевна о будущей судьбе своих бумаг и вещей никогда не говорила. Но однажды, показывая тетрадку, дорогую ей по особым причинам, произнесла: „Этому место в Музее. В Пушкинском Доме“. Предложение мое исполнено не было… мы теперь так никогда и не узнаем с должною точностью, каково было содержимое архива Ахматовой ко дню ее смерти. Когда-то Ахматова показывала мне, например, три синие школьные тетрадки, куда ею от руки была переписана „Поэма без героя“. Что сталось с этими тетрадками впоследствии? Существовали ли они в архиве до 5 марта 1966 г.? Если да – то где они теперь? Если нет – то куда и когда они исчезли? Из-за отсутствия своевременно сделанной описи каждый из нас таких вопросов может задавать десятки».
Возможно, какой-то посетитель до нас пытался показать рукописи Умникову и привез их к нему тайно, но неудачно: именно тогда, когда тот по стечению обстоятельств заболел и потому, возможно, что ни о чём так и не узнал. Я не судья, не прокурор и не следователь. Всякое случается. Жизнь гораздо изобретательнее нас в создании, казалось бы, немыслимых ситуаций. Но рядом со мной находились три взрослых человека, которые видели то же самое, что и я: ахматовская тетрадь была в моих руках.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: