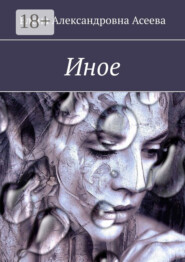По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Душевный монолог
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
дождливая капель
Дождь еще толком не начался…
Хотя уже самую чуточку окропил землю, скинув из прижимающихся к ней небес россыпь мельчайших слезинок, в русском народе имеющего собственное название ситничка, морось, бус, опять-таки вроде пропущенного через решето.
Дождик, дожж, дожжик, дозжик и даже дежгъ, он нонче только предполагал наступления ненастья, оттого и сама природа, и каждое ее отдельное творение замерло в предвкушении дозжухи. Столь мягкой, сладостной после жарких дней, дождевой воды.
В сей же час особой торжественной неподвижностью наполнились травы, кусты и деревья. Оцепенели не только мятликовые, перестав покачивать своими нежно-малахитовыми колосками и фисташковыми метёлками, но и обмерли цветки пунцового мака. Те размашистые, словно крылья бабочек, лепестки мака принимая на себя бусенцы дождя, мгновенно струшивали их вниз, погружая в травянистость собственных стеблей и побегов. Впрочем, более всего поражали взгляд своим застывшим видом округло-зубчатые, овально-пильчатые, сердцевидные листья деревьев, столь разные в очертаниях, но неизменно ярко-зеленые в собственном колорите. Посему оседающая на их поверхность морось, столь невесомая и крошечная, переливалась стеклянной пустотой.
Покой хранил и сам небесный купол, кой хоть и смотрелся дождеродным, в этот миг был пепельно-дымчатым, едва-едва прикрытым сверху более хмурыми свинцово-серебристыми переплетенными полотнищами. На них местами созерцалась свиль, непременно, в виде прозрачных или вспять сизых волнистых, витых волоконцев.
Потому как небо перемешало в себе многообразие серых оттенков и само наблюдение по меже с землей мнилось в легчайшей мороке, а воздух словно выхватывал на собственную полупрозрачность бусинки дожжика и тягуче ниспускал их вниз. От той неспешности движения каждой капели слышался лишь тихий шорох, будто водица перешептывалась меж собой или на что-то жалилась кругом правящей тусклости. А пространство кругом и вовсе скрывало какие-либо ароматы, приглушая их сочность, оставляя для осознания всего-навсего непосредственную свежесть воды.
И только птицы, в том затаившемся на малость Мире, не прекращали своего неудержимого полета и даже не снизили многоголосие аккомпанемента, не столько пытаясь заглушить шепоточек ситничка, сколько просто понукая, завлекая дожденосное настроение.
Еще чуть-чуть и дежгъ перестал накрапывать, а последние из его крупиц упав на поверхность, и, тут затихшей воды, прудов вызвали дождевые пузыри, точно нырнув в нее, они так-таки попытались вынырнуть. И тотчас прекратился шелест капель о воздух, смолкли песнопения птиц, и наступило величавое отишье. Словно в замедленной съемке вспорхнула с замерших трав одинокая бабочка, колыхнув бархатно-коричневыми крылышками, обсыпанными желтоватыми глазками. Впрочем, не в попытке улететь, лишь сменить месторасположение. Потому в следующий морг уже вновь схоронилась в ветвистых кустах мышиного горошка, не просто потревожив густые ярко-лиловые соцветия, но и качнув их тонкие оливковые усики, также сразу сдержав движение крылышек и будто слившись с изогнуто-ребристым стебельком.
Небесная высь сейчас наблюдаемо поблекла, став прямо-таки серебристо-белой, ровно все дотоль серые сотканные нити окончательно втянулись в нее, оставив памятью о себе всего-навсего маревые пары. Особой сладостью отозвались завязи цветущего винограда, наполнив лимонно-желтой пыльцой столь свежее пространство земли.
И тогда, сперва несмело, по одной росинке, откликнувшийся алюминиевый небосклон, принялся стряхивать с себя водицу, уже в иной момент переходя и вовсе в окатный дозжик. Его перламутровые зернятки, схожие с переливающимися округлыми жемчужинами, рьяно затарабанили по каждому листочку, стебельку и соцветиям. Пригибая не только отдельные язычки, волоски, но и тонкие соломинки, да таким побытом вызывая пронзительно-шумную барабанную дробь, однако не нарушающую досель правящую в природе напряженную драматичность. Сей звончатый музыкальный туш словно определяя торжественное завершение непогоды, длился совсем недолго, каждой отдельной падающей каплей усиливая гулкость отрывисто-басовитого боя купального дождика, напитывая воздушное пространство яркостью ароматов, перемешивая в нем нежные запахи цветов, сладкие ягод, глубокие трав, горькие почв, жгучие корений, со свежестью прохладного дыхания излившегося из глубоких недр самого Мироздания.
Впрочем, небесная твердь свернула падение крупного и плотного строя капель опять же резко… разом. И тот же миг угасли сами ароматы и звуки…
И в наступившем безмолвии небосвод вроде пошел незримой волной, слегка приподнявшись вверх и с тем приняв на себя молочно-голубые тона.
Еще маленечко и в высоте поднебесной будто в закипающих облаках, собранных из мельчайших синих и белых кристаллических капель, внезапно ярко вспыхнула зарницей серебряная полоса. И незамедлительно ей откликнулся с грохочущим треском, прокатившись и единожды подхватив и ссыпав вниз крупные росинки, зачинающийся грозный, грозовой дождь. Напряженное состояние каждого лоснящегося зеленью листа, отдельной травинки, бархатистого лепестка сейчас достигло своей кульминации, и с тем в серебристо-алебастровых небесах, что-то тягостно заурчало, выстрелило и полыхнула внутри той плотной массы почти красная ломанная струя небесной странницы, не столько разрезая их, сколько просто оповещая о себе.
Еще однократный резкий залп грома и с неба вниз таким же хлестким потоком хлынул дожж и сразу застучал, затарахтел по смоляной почве, васильковой воде, бирюзовым растениям, поглощая своим отрывистым, гулким говором все иные звуки Земли. И вторя тому биению воды мощным раскатистым хрустом, словно разламывая на части серо-восковые небеса, подыграли громовые набаты, которые поддержали вырвавшиеся из резиновых облаков длинные, изломанные серебристо-красные перуны, кажется, не просто долетевшие своими угловатыми наконечниками до земли, а воткнувшиеся в чернильно-черные ее пласты. И в тоже мгновение шебуршание идущего дожжика слилось во едино с визгливо-голосистыми порывами ветра, точно как и стреловидные молнии, прилетевшего из дальнего поднебесья.
Мощная мокрядь с громыханием и перунами заполонила Землицу-матушку, заслонила очи серо-белыми потоками воды, дохнула на все живое приливом свежести, завершив этак прелюдию дождливой капели.
КОНЕЦ.
г. Краснодар, июнь 2019г
рапсодия северного ветра
Сын Стрибога, старший из ветров, седовласый и неукротимый Позвизд, Посвист, Похвист, приближающий каждым своим шагом, каждым вздохом наступление белоснежной, бахромистой Матушки-зимы, медленной поступью вошел в пределы Краснодара. Допрежь того покинув степные дали земель, оставив позади себя припавшие к почве тонколистные травы, кустарники и деревья, хрупкие ветви которых украшенные ряснами из кристалликов льда, все еще едва слышно дзинькали махонькими снежинками подвесок. Высокий и мощный в плечах, бог Посвист, был одет, как русский крестьянин, в белую косоворотку, увитую по вороту, рукавам и подолу серебристым позументом, слегка присыпанным тончайшим покрывалом голубого инея, пожалуй, что растекшегося и на холщевые его штаны, да подпоясан широким кушаком, витым из тонких ветвей мало-мальски покрытых листьями, мешающих соломенные, золотистые, кумачные и даже бурые цвета. Тот редкостный пояс стягивал дюжий стан бога большим узлом на левом боку и длинными свисающими вязанки с махрами, венчался не только круглыми стеклянными градинками, но и конусообразными хрустальными сосульками.
Похвист, считающийся у славян свирепым богом бури и ветра, сдержал собственный шаг возле не менее могутного с густой размашистой кроной платана, чей зеленовато-серый ствол наблюдался так-таки внушительной фигурой, тут не уступающей в силе старшему из сыновей Стрибога. Крупные клиновидные листья в большинстве своем оливковые, пламеннокрасные, охристо-бурые всего лишь от явления ветра наблюдаемо заколыхались, зашуршали промеж друг друга, а некие и вовсе испуганно сорвались со все еще юных боковых побегов дерева и направили свое ленивое веяние вниз к земле. Не переставая в той стежке перешептываться с тягучими полосами бледно-желтого солнечного света, местами выскользнувшего из прорех аспидно-серой небесной хмари. Ажурная ледяная корка, на которую притулился первый упавший и прямо-таки медвяный лист, с удивительными сквозными многочисленными и вовсе крошечными отверстиями внутри нее, гулко хрустнула под подошвой черного кожаного сапога Позвизда, и, пойдя мелкими трещинками, выкурилась от коснувшегося и все поколь теплого солнечного лучика, отдельными кудельками пара.
Старший из сынов Стрибога, убеленный сединами и необоримый северный ветер, чуть слышно хмыкнул, вроде как, улыбнувшись в свои дымчатого оттенка усы, полностью скрывающие рот, и с тем качнул в дотягивающейся до груди бороде закручивающиеся в отдельные завитки пушистые гирлянды изморози, ссыпав из них миниатюрные зернятки льда. Хотя того воздушного реяния крошечных шестиугольных снежинок покрывших почву серебристой кисейной фатой инея, не заметил не только Посвист, но и люди живущие в городе. Ибо в той колготне они пропустили душное лето, плаксивую осень и приход в хрустально-белых одеждах богини зимы Мары. Они не увидели, как и те редкие зажатые в городских тисках деревья сменили свои изумрудные наряды на шафранные, искрасна-желтые, а после рыжевато-коричневые.
Похвист легонечко качнул плечами, словно пробуя мощь, и единожды колыхнул на них накинутый плащ, стянутый на груди крупной свинцовой пряжкой, в кой вились черно-серые пары, в свой черед покрывающие клубами туманов и само его полотнище. И от этого неспешного движения внезапно принялась стлаться в разных направлениях досель курящаяся густая серая с синеватым отливом пелена. Медлительным, изящным поземным туманищем нависая над земной поверхностью, она стала малозаметно колыхать внутри сей взвеси и вовсе мельчайшие рафиды льда, подхваченные с полов плаща бога.
И тотчас порыв ветра не столь значимый, пустяшный, да и только, подхватил лежащую на земле листву, и, вскинув ее вверх, закружил в едином хороводе со стелющейся дымкой. Вроде как вырывая из нее крохотные капельки и ими уже обламывая хрустящую листву на тончайшие укрухи, заскрипевшие своей изразцовой филигранностью.
Позвизд, влеготку выдохнул и сизо-серые до плеч его волосы, усеянные меленькими палочками, крупинками, зернятками, а то и хлопьями снега, затрепетали, принявшись нагнетать плотность туманных испарений кругом. Кажется, мигом погодя кои тягучими пепельно-серыми лепестками поднялись вверх и слились в единое целостное полотнище с небосводом, заслонив собой не только досель правящее в нем ненастье, но и малые прорехи скрезь которые сеялись солнечные лучи. Вязкое, насыщенное водами марево оплело дома, остановки, машины, укутало в серебристые тканые шали деревья и кустарники, прикрыло мохнатыми сурьмяными покрывалами побуревший опад, и выглядывающие из почерневшей земли все еще малахитовые плоские листья собачьей травы.
Еще ни более мгновения и правящий паморок увеличив собственную интенсивность, создал свинцовые, как и глаза старшего сына Стрибога, кучные туманообразные облака, скрывшие видимость не только небес, но и самой земли, местами припорошенные все еще сверкающим бисером льда, ссыпавшимся в какой-то момент с густых, вихрастых, оловянно-серых бровей Посвиста. И в той парной мгле оставив для наблюдения лишь монументальную фигуру бога бури и ветра, да такого же величественного платана.
Ледяные узоры на высоком, широком челе Похвиста, залегающие глубокими морщинами, слегка надломились, пошли мельчайшими паутинками по всей его и тут серо-дымчатой коже, когда он самую чуточку и словно в изумление приподнял кучные свои брови. И с тем созерцаемо на его лбу сдвинулось очелье, сейчас в отличие от тех же славян не являющейся обережной повязкой, а всего только бывшее головным убором. И сразу сам воздух, стоящий стеной дымчатой мари наполнился ароматом зимнего ветра, прелой листвы и горечью городского асфальта. В той глухой, тягучей пелене гася все звуки, не только пение птиц, говор людей, но и дыхание самого Позвизда, что и оставляя в звучание так лишь беспокойный скрежет шин о влажное асфальтное полотно…
Таким образом, демонстрируя, что здесь, в Краснодаре, и сам старший из сынов Стрибога вместо снежных покрывал, что и ссыплет на оземь этой зимой всего-навсего незначительное просо белого инея, обернет ветви деревьев, кустарников, провода, одежды людей слоистой голубоватой наледью или только затянет само пространство наблюдения сырыми, пухлыми клоками мары…
В той плотной мге обещая людям скорое приближение весны!
КОНЕЦ.
г. Краснодар, декабрь 2019г
огненная серенада
Люблю я костер! не знаю как Вы, а я люблю…
Костер, костерок, костерчик, кострище, огнище и даже теплина…
Люблю смотреть как по деревянным поленцам, затканным все поколь буровато-серой корой с тонкими трещинками, танцуют, плавно покачивая, словно бедрами и плечами, легошенько взмахивая руками, лепестки золотистого пламени. Огонь вальяжно опускается на присядки, искрометно плескается вверх и тотчас в разные стороны, охватывая верхний покров чурочек, наблюдаемо меняя на них свинцовые тона на сизо-черные. Он семенит на месте, перескакивает с одной головни на другую, вращается ветроворотом, вздымая из-под себя ядрено-алые мельчайшие зачатки полымя, а после и вовсе рукоплещет собственному сиянию и стелющемуся над ним агатовому небу, такому же привольному как и вся русская земля.
Раньше люди частенько сидели у костра…
Не только когда они представлялись нам дикими покрытыми косматыми волосами, в шкурах животных, с дубинами в руках, неотрывно наблюдающие как жарится в кострищах их добыча, но и когда жили в собранных из рубленных бревен домах, греясь у печей, тепло которых сотворял тлеющий в топке огнь. И даже тогда, когда пламя обуздали газовые горелки, костры зажигали в пионерских лагерях, на туристических привалах или на стоянках геологов, продолжая не только любоваться багряными лохмотками огнища, но и согреваясь, насыщаясь его пылкостью.
Мое детство также прошло под символом костерка. Хотя я и выросла в центре города-миллионика, где летними ночами лишь стылые воды, струящиеся по бетонным арыкам с ледников Заилийского Алатау, даровали прохладу. Потоки живительной влаги неспешно взбалтывали мельчайшие капли внутри собственных масс и с тем, ровно перемешивали колыбельные русского и казахского народа так, что на смену:
«?лди-?лди, а? б?пем,
А? бесiкке жат, б?пем!»
непременно приходило:
«Баю-баюшки-баю,
Не ложися на краю».
Впрочем, еще за долго до того колыбельного распева, когда ночь только шептала о себе, а солнечный диск, снизив ослепительное сияние, едва коснулся каменных горных круч, прикрытых сверху блестяще-ледяными конусообразными шляпами-калпаками (столь популярных у казахских мужчин) и подсветив прозрачно-голубое поднебесье марными мазками акварели, ребятня нашего восьмиквартирного дома (высыпавшая во двор еще поутру) шла в неработающий старый бассейн. Общими усилиями, собрав тонкие сучья, ветки и даже полешки, прихватив из квартир картошку, соль, хлеб, мы разводили костерчик. И обступив его со всех сторон, беспокойно ожидали, когда в чубатых черных головешках можно будет упрятать картошку, а после все еще полусырую, густо посыпая белой, как снег, солью, съесть, не забыв притом откусить ноздреватый ломтик ржаного хлеба.
Тогда… в тот самый момент, общего интернационального братства, где русский и казах, кажется, и не ведали никакой вражды, упиваясь простой и поровну поделенной едой, вдыхая горьковатый фимиам, наблюдая как аспидно-черные угольки все еще покачивали на своих спинах пурпурные огненные искры, изредка выпуская вверх ажурные рыжие платочки пламени, пространство кругом окутывала пепельная дымка не столь даже поднятая от теплина, сколько спущенная с седеющего от времени небосклона.
И как только люди современных религиозных конфессий полагают, что загробное место для грешников, ад, это непременно пламя, полымя, огнь… Это геенна, где грешника будут терзать огнем, который много раз страшнее и безжалостней земного огня… Хотя если окунуться в верования древних народов, коих историки называют язычниками… тех, что обожествляли все сущее в Мире и стихии, наполняющие природу, столкнешься с особым отношением которое питали люди к пламеню. И это не столько страх, сколько благоговейное почтение к тем богам, что подчинили себе само янтарное в кумачных каплях сияние. Такие разные в своих величаниях, они все-таки отличались общностью обязанностей и предназначения, а именно согревали, защищали и питали человека. Боги огня сотворяли домашний очаг, жертвенное полымя, молнии, становясь посредниками между божественным пантеоном и людьми, как это делал индийский Агни. Или та же египетская Упес, дочь самого Ра, и богиня чистого пламенного дыхания в котором она испепеляла болезни и врагов людей. Шумерский бог Гибил дающий свет, исцеление и очищение, ацтекский бог огня и тепла Шиутекутли, помощник самого солнца китайский бог огнища Чжун-жун или иранский божественный огнь, Атар. В иранских легендах сказывалось, что не только в небо, воду, землю, но и в растениях, животных, людях при создании было заложено божественное вещество, огонек.
У наших предков богом первородного пламя выступал Семаргл… Полагали славяне, что Симаргл, Огнебог непосредственно присутствует в Яви, явном мире, в котором живут люди, животные, растения. Посредник между людьми и богами, оберегающий посевы и сжигающий последний снег на полях, Семаргл когда-то сам родился от удара небесного молота Сварога об Алатырь-камень, священный камень, пуп Земли, ни больше, ни меньше создающий из собственных искр Вселенную. Толковали наши предки, что Огнебог не только участвовал в Изначальной битве света и тьмы, но и стоял в звездных небесах, оберегая Белый Свет от Зла. В виде большого пса, чью медно-красную шерсть обволакивали и вовсе долгие лепестки кумашного пламени или в виде молодого и красивого воина, чьи златые кудри ярились рдяными искрами, сжимающий в руках длинный переливающийся меч и круглый красный щит, Симаргл частенько в небесной кузне своего отца Сварога был молотобойцем, опять же нагнетая в кузнечный горн воздух и жар.
Вот потому то я и люблю костер, костерок, костерчик, кострище, огнище и даже теплину, оно как в нем по деревянным дровам, обернутым темно-русой корой да вихрасто-чернявой головне, пляшут, мотыляя туда-сюда утонченно-кристальными пунцово-желтоватые лохмотки полымя. Кажется, что листочки огонька скользяще переступают с одного каракового чурбачка на другой, легонечко болтаясь, приподнимаясь на сквозных носочках, делая круговые невесомые движения, а в следующий момент и вовсе стремительным рывком выпрыгивают вверх, но лишь затем, чтобы тотчас подхватить вальсирующий шажок своего кораллово-пламенного партнера. Своим тягуче-ленивым движением лоскутки огнища откидывают длинные тени, упирающиеся собственными маковками, пожалуй, что в чернильно-бархатную небесную высь, что покровом растянулась над землей. В тех небесах… месте в котором по мнению наших предков нет бесов, а живут только изначальные божественные силы, в свой черед в косматых космических далях взболтавших пестроту межзвездного газа и пыли, сами небесные тела окрасились в серебристые и шарлаховые тона, ровно принятые от огненных зачатков поднявшихся в дымном мерцании от моего костерка. Тишину этой апрельской ночи, которую я ощущаю, словно окунаясь в волшебство божественного полымя, не может нарушить несмолкаемое рокотание города, наполненного хриплым визгом шин автомобилей, воем сирен спецтехники, робким говором людей, негромким кряхтением покачивающихся ветвей деревьев, и вовсе хороводными речитативами лягушек, притаившихся в ближайшем пруду. А полынному чаду огнища, так приятно щекочущему ноздри, аккомпанирует аромат пряно-кислой смятой травы, что растет на этой поляне, вплотную подступающей к каменному бортику окружающему костровую чашу.
Прежде люди нередко собирались у теплины…
Огонь выступал соратником партизанских движений во время войн, вспыхивая тонкими оранжевыми лепестками на маленьких опушках, оцепленных тенистыми лесами, макушки деревьев которых терялись в аметистовом небосводе, едва покачивая лаптастыми мощными ветвями, одновременно, монотонно кудесничая зелеными листочками и поигрывая струнами, и, вовсе малахитовых хвоинок, непременно, согревая, питая, защищая. Пламя загоралось на сторожевых башнях, таким образом, являясь для горожан сигналом, предупреждающим о приближении ворога, сиянием костерков, оно бдело на маяках, обозначая вход в порт или размечая опасные проходы для судов. И неизменно кострище было товарищем в дальних переходах казахам. Они разводили его внутри войлочных юрт и через шанырак, круглое отверстие в своде, выпускали наружу настоянный на травах и жареной баранине голубовато-серый дым своего очага, что помещался в центре жилища. В виде легкого, тончайшего благоухания то иссеро-серебристое марево покачивалось над куполообразной крышей юрты, мягко касаясь желтовато-серого вяленого материала, а после принималось стлаться в ночной мороке, впутываясь в белые волокна облаков и касаясь кристально-серебристых звезд чуть зримых на фиалковом полотне неба. А утёсистые хребты едва поросшие коврами трав и прикрытые сверху облегающими ледяными кимешеками, схожими с шапочкой, что носили замужние казахские женщины, хоронили внутри своих широких долин те жилища кочевого народа и промеж того стравливали с высоких бело-снежных тюрбанов собственных склонов хрустальные реки. И тогда в седой ночи, что напитывали собой небесные мотивы, смолистые ароматы чернолесья и огонь в юртах людей, слышался незначительный перезвон рафидных капель воды и заунывного воя ветра, что перемешивался с высоким женским голосом, выводящим лирические слова казахской песни «Бiр бала»:
«Талдан тая? жас бала таянбайды