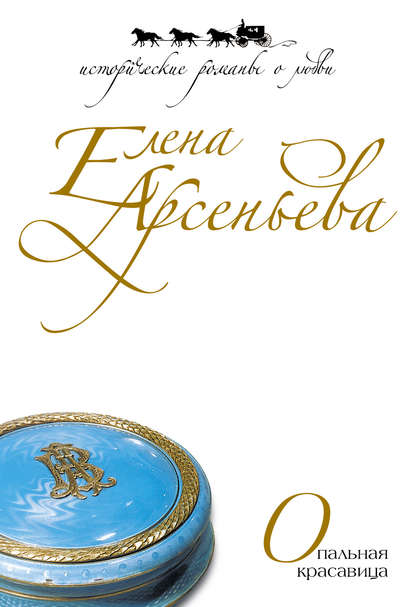По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Опальная красавица
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А она хочет есть? – спросила Елизавета, озабоченно трогая грудь: налилась ли?
– Сейчас пока нет. Разве что завтра отобедает, если пожелает.
«Какое счастье!» – подумала Елизавета, опуская тяжелые, каменные веки и не вполне понимая, в чем именно счастье: рождение Машеньки или то, что она не голодна. Спать хотелось до изнеможения. Спа-ать!
Белая поземка уже закрутилась в голове, но тут же Елизавета вскинулась с новым любопытством:
– А глаза? Какого цвета у нее глаза?
Татьяна осушила обмытую девочку полотенчиком, потом слегка принакрыла пеленкою и поднесла к кровати:
– Сама погляди.
Елизавета попыталась поймать крошечные, шевелящиеся пальчики.
– Не пойму, – шепнула чуть слышно, боясь испугать девочку. – Голубые, что ли?
Сонно закатывающиеся глазки были молочно-сизые, странные...
– Пока не определить, – пожала плечами Татьяна. – Но, пожалуй, потом они будут карие. Точь-в-точь как у деда.
«Значит, у князя Измайлова карие глаза», – подумала Елизавета, отчаянно зевая, но ответить было уже свыше ее сил. Она уснула еще до того, как голова коснулась подушки. И немало дней и даже месяцев должно было пройти, прежде чем она вспомнила этот разговор и поняла, что имела в виду Татьяна.
* * *
Убедившись, что родилась девочка, Валерьян рассвирепел не на шутку. Выходит, Татьяна была права: он ждал появления сына!.. Сразу вновь начал пить, в доме заколобродили гости (правда, ни князь Завадский, ни тем паче Потап Спиридоныч больше не появлялись); вновь слугам до утра приходилось сметать белую пыль с зеленых столов; вновь вечерами звенел хмельной хохоток Анны Яковлевны... А днем она взяла привычку, едва проснувшись, расхаживать по второму этажу – от своих покоев до Елизаветиной спальни, рядом с которой устроили теперь детскую. В заношенном черном капоте, расшитом белыми птицами, неубранная, ненакрашенная, сосредоточенно поджав губы и громко шлепая туфлями без задников, – вид у нее был такой, словно она обдумывала какое-то важное, может быть, даже жизненно важное решение, которого никто, кроме нее, принять не может. И Елизавета не сомневалась, что она замышляет какую-то каверзу.
Предчувствие ее не обмануло. Валерьян, очевидно подстрекаемый Аннетою, объявил, что желал бы дать дочери кормилицу, и в детской появилась крепкая, здоровая, породистая молодка Авдотья. У нее только что родилась двойня, да была отлучена от груди, коя понадобилась барскому дитяти. Елизавета, сама мечтавшая кормить Машеньку, встретила Авдотью в штыки; однако в глубине души не могла не пожалеть эту несчастную бабу, столь глупую и забитую, что она даже не больно-то горевала от разлуки с детьми. Впрочем, Авдотья чуть ли не на второй день бросилась в ноги барину, умоляя воротить ее домой. Но не оттого, что вдруг пробудились материнские чувства, а потому, что до дрожи боялась Татьяны! В ответ Аннета взяла на себя труд отхлестать кормилицу по щекам, и та более не противилась, исправно выполняя свои обязанности.
А надобность в них возникла-таки: Машенька с материнского молока никак не поправлялась, была бледненькая, вялая, маялась животиком. Однако здоровое молоко кормилицы быстро исцелило Машеньку: она перестала все время плакать, побелела, порозовела, тельце сделалось упругим, с губ не сходила бессмысленная, но блаженная улыбка.
Елизавете это было как нож по сердцу. Она всей душой потянулась к дочке, мечтая найти в ней единственную утеху жизни своей; выходило, что и эту капельку счастья у нее отнимали. Вдобавок ставшие карими глаза Машеньки порою охлаждали материнские чувства. Елизавета хотела видеть на родном лице свои, светлые глаза, видеть в дочери свое отражение и продолжение. Этот темный взор пробуждал в ней странную ревность и иногда казался таким чужим!.. Елизавета часто плакала украдкой, ибо ей вновь привелось изведать, что ожидание счастья всегда лучше, слаще, блаженнее его воплощения. Опять судьба усмехнулась, обратив то, к чему она так долго и страстно стремилась, не праздником и сверканием, а как бы изнанкою, на которой оказалось слишком много узелков и швов, чтобы ею можно было любоваться. «То, что мне легко достается, для меня не имеет никакой ценности; то, за что я дорого плачу, как выясняется, вообще ничего не стоит!» – думала она с тоской и обидой...
Этих мыслей, наверное, следовало стыдиться, но избавиться от них не удавалось. Казалось, непреходящая душевная тягость усугубляет и физическую слабость Елизаветы, которая никак не могла прийти в себя после родов, словно бы некая хворь ломала ее непрестанно.
Боли в желудке порою были непереносимы. После приступов она долго лежала, обливаясь холодным потом. Есть вовсе ничего не могла, пила только молоко, словно сама уподобилась младенцу.
Татьяна была при ней и девочке неотступно, поэтому молоко приносила горничная Улька, которая с каждым днем все с большим беспокойством поглядывала на истончившееся лицо графини. Елизар Ильич настаивал привезти из Нижнего немецкого доктора, но Елизавете не верилось, будто существует хворь, которую не смогла бы исцелить Татьяна. Однако глаза цыганки все чаще выражали не привычное уверенное спокойствие, а растерянность и недоумение, особенно когда она трогала сухие, ледяные пальцы Елизаветы, вглядывалась в запавшие, окруженные чернотой глаза, вслушивалась в вялую речь.
Впервые в жизни Елизавете изменило ее всегдашнее упрямство. То самое, которое заставило когда-то уцепиться за якорный канат расшивы, или набрести в солончаках на заброшенный колодец, или поймать спасительную волну у побережья Скироса... Теперь вся ее недолгая жизнь медленно проходила в памяти чередою картин. Точно такой же была когда-то Августа, убиваемая таинственным, зловещим излучением крестика, подаренного ей Чекиною; точно так же угасала отравленная с помощью aqиа tofаnа Хлоя... Теперь настал и ее черед.
Мысль о неотвратимой смерти стала первым камушком, о который Елизавета споткнулась в своем покорном продвижении к вечности.
Для нее слово «смерть» всегда было связано со словом «вдруг». Вдруг опрокинулась лодка посреди Волги. Вдруг выскользнула змея из-под ноги Леонтия. Вдруг голодный, жадный пламень полетел по подземному коридору, где бежали они с Казановой, графом де Сейгалем. Вдруг навис над ней рассвирепевший медведь... И не хотелось верить, что в медленном умирании, которое свершается как бы само собою, отсутствует это необходимое – и спасительное! – вдруг. То есть причина, которую можно устранить, а значит – выжить.
Ей ни с кем, даже с Татьяною, даже с Елизаром Ильичом не захотелось поделиться догадкою, вдруг затлевшей в душе. Собственно, даже не догадкою, а так... последним трепетом былой гордыни, которая, оказывается, одна могла спасти ее жизнь, ибо заставила вспомнить, что Елизавета кому-то мешает. И в ней, вспыльчивой, как порох, но не злопамятной и совсем не мстительной, чуть ли не впервые вызревало благотворное, целительное желание во что бы то ни стало выжить – и дознаться, и отомстить своим врагам.
Итак. Кто желал ей гибели? Орден, кажется, утратил ее след, вдобавок трое засланных им убийц погибли в Санкт-Петербурге... У Елизаветы не хватило воображения представить, чтобы эта могущественная секта тратила столько сил на преследование дерзкой девчонки, которая всего-то и осмелилась, что оскорбила их магистра (со свойственным ей пренебрежением к мелочам Елизавета начисто позабыла, что этого магистра она не просто оскорбила, но и застрелила; а в пожаре, устроенном ее спасителем де Сейгалем, погибло множество приверженцев Ордена). Она почти не сомневалась, что виновны другие, но кто, кто?
Хуже всего, что их невозможно было поймать на месте преступления. Даже искренне расположенный к Елизавете Потап Спиридоныч не сомневался в истинных причинах болезни: эка невидаль, женщина не может оправиться после родов! На это, конечно, и рассчитывали злоумышленники. Даже проницательная Татьяна голову сломала в поисках причин хвори. Сперва думала, что все дело в молоке, которое одно только и пила Елизавета. Она слыхала от своей матери, что красавица Ружа, первая жена Тодора, отца Неонилы, когда-то сжила со свету свою соперницу (и родильная горячка была тут ни при чем!), каждый день ненадолго опуская в бадейку с водой, из которой та пила, дохлую змею. А вода ли, молоко ли – невелика разница! Но все же дело было в чем-то другом! Ведь Татьяна, пившая то же молоко, чувствовала себя прекрасно.
Она снова и снова присматривалась к обитателям дома. Как ни раздражали ее своей тупостью и забитостью почти все слуги (да и управляющий тоже, если на то пошло: мужчина должен быть половиком, который радуется, когда женщина вытирает об него ноги!), Татьяна не замечала вокруг них темных, мрачных теней, означающих злодеяние или хотя бы злоумышление. Эти люди были бесполезны и... безвредны.
Граф и его любовница оба были черны. Татьяна насквозь их видела. Их чернота была опасна кому угодно, кроме нее, а значит, и Елизавету она была в силах уберечь от их тайного лютовства.
Татьяна перевернула вверх дном комнату Елизаветы, переворошила все ее платья, сама не зная толком, чего ищет. Какой-нибудь вещи, которая подтвердила бы ее уверенность в том, что на Елизавету напущена порча. Но как? Кто мог это сделать?! Не было в округе ни одной знахарки, ворожейки, колдуньи, которой оказалось бы под силу вынуть след, или надеть хомуты, или навести иную порчу на человека, которого оберегала Черная Татьяна. И все-таки она впервые столкнулась с тайными чарами, превосходящими ее силу, и порой ее охватывал истинный ужас: а вдруг она не одолеет эту враждебную, пронзительную мощь?! Она сняла с Елизаветиной гребенки волосок и водила им в чашке с водой, потом украдкой дала ей эту воду испить. Ничего не произошло. И от этой воды Елизавете не полегчало.
Татьяна очень любила Елизавету, но она любила и себя, и свое ведовство, гордилась им. Теперь самолюбие ее было уязвлено... Минуло еще несколько пагубных дней, прежде чем Татьяна скрепя сердце призналась, что бессильна исцелить графиню, а потому надо идти за помощью.
Ах, если бы она могла взять с собой хоть кого-нибудь! Лучше бы Вайду, который был смел, как бес, никого и ничего не боялся. Конечно, таков же был и его молодой русский дружок, Соловей-разбойник. Даже еще отважнее. Но Вайда по крови своей цыганской стоял ближе к тайному, темному миру, чем русский. Каковы бы они ни были, Татьяне предстояло сделать все в одиночку.
Решившись наконец, едва дождалась ночи: так хотелось покончить со всем поскорее. Прежде чем уйти, сняла крест и постояла над дремлющей Елизаветою, с тоскою думая, увидит ли она вновь свою девоньку? Если нет, то кто же откроет ей тайну ее рождения, кто залечит боль, причиненную этой тайною?..
Но время шло, медлить больше было нельзя, и Татьяна, накинув большой черный платок и кожушок, выскользнула во тьму.
«Только бы снег не пошел, – думала она всю дорогу до деревенского кладбища, – только бы не запорошило!» По счастью, ноябрь начался ветрами, поэтому Татьяна без труда отыскала могилу, где всего лишь месяц назад похоронили добродушного и веселого парня из дворовых, Костю Хорошилова, который вдруг ни с того ни с сего слег в жару, иссох весь и сгорел за какие-то две недели от неведомой хвори, очень напоминавшей болезнь Елизаветы. По деревне расползлись слухи о порче, наведенной на сильного, здоровущего парня. Поскольку Костя очень часто (и незадолго до своей смерти тоже) ездил в Нижний с поручениями графской кузины, то, судачила деревня, в Нижнем его и испортили. У Татьяны были смутные подозрения, что зараза, напущенная на Елизавету, исходит оттуда же, хотя трудно было увязать давнюю, еще майскую, поездку в город Анны Яковлевны и теперешнюю болезнь графини. «Но так или иначе, – подумала Татьяна, – сейчас я все узнаю доподлинно».
Ей ничуть не было страшно на кладбище! Она боялась только неведомого, а ведь мертвые – те же люди, только существующие в ином мире. Поэтому она безбоязненно улеглась на Костиной могиле, закрыла глаза и принялась терпеливо ждать ответа на свой вопрос.
* * *
Елизавета в эту ночь прeбывала в некоем странном состоянии между дремотой и бодрствованием, что не мешало ей видеть сон.
Ей снилась женщина в черном платке и кожушке, которая вышла с деревенского кладбища и побрела по голому, исхлестанному ноябрьским ветром лесу, внимательно вглядываясь в поваленные деревья, словно искала что-то. При этом Елизавете снилось, будто бы эта же самая женщина, словно раздвоившись, лежит на одной из могил, сложив руки на груди, словно покойница. Она была очень похожа на Татьяну, но Елизавета даже и во сне помнила, что Татьяна каждую ночь проводит возле ее постели, и потому без страха смотрела свой сон.
Женщина в черном все ходила по лесу, пока не набрела на поваленную осину и радостно всплеснула в ладоши: это оказалось именно то, что она искала. Постояла над осиною, словно набираясь сил, и вдруг перекинулась через нее слева направо! В то же мгновение женщина исчезла. Вместо нее возле осины оказалась поджарая черная собака с острыми, настороженными ушами и пушистым хвостом, которая, несколько раз оглянувшись и попробовав голос, сперва неуверенно, потом все смелее побежала в Любавино, к графскому поместью. Здесь она и залегла в кустах возле маленьких боковых ворот, вытянув лапы и умостив на них красивую, умную морду, внимательно глядя на дорогу, словно ждала кого-то.
Елизавете так хотелось ее приласкать, погладить по гладкой шерсти, что у нее даже ладони загорелись. Но ведь это был всего лишь сон! И, поскольку во сне время обладает волшебным свойством замедляться или ускоряться, она ничуть не удивилась, когда увидела, что по дороге из Нижнего мчится какое-то существо, приближаясь с невероятной, сказочной скоростью, словно бы оно не бежало, а летело, не касаясь земли.
К изумлению Елизаветы, это оказалась большая черная свинья.
По тому, как напряглась собака, какая дрожь пробежала по ее туловищу, стало понятно, что свинью-то она и караулила; однако не тронулась с места, притаившись, лежала и глядела, как свинья, похрюкивая и мелко сотрясаясь своим жирным черным телом, подбежала к столбу, на котором держалась левая створка ворот, и начала быстро-быстро рыть носом мокрую землю.
Собака бесшумно приподнялась, вытянулась вся, напряженно наблюдая за свиньей... Шерсть на ее загривке вздыбилась, и Елизавета увидела, как там, где роет свинья, что-то выбивается из земли с такой силой, что сама земля и столб ворот мелко трясутся, будто в припадочной пляске. И чем быстрее рыла свинья, тем холоднее становилось Елизавете; сердце вдруг заныло так, словно на него налегла чья-то ледяная рука. И всем существом своим, перед которым уже как бы разверзлась могильная тьма, она взмолилась о помощи... Она знала, что если свинью сейчас не отогнать, то уже не снять эту тяжесть с сердца!
Чудилось – собака услышала ее немой крик. Подобно черной молнии, метнулась она к воротам и хватанула свинью за толстую ляжку. Та огласила округу пронзительным визгом и отскочила от столба, который тотчас перестал плясать, словно испугался.
Свинья обернулась и обнажила клыки, которые больше подошли бы секачу [3 - Дикий кабан.], чем домашней хрюшке. О, это была уже не та жирная хавронья, которая только что ковырялась в земле! На ее рыле явственно проступило озлобленное человеческое выражение; крошечные глазки обросли длинными ресницами, широко раскрылись; в них сверкнул такой адский пламень, что собака невольно попятилась; тут же, словно устыдившись, бросилась вперед и так ловко обогнула разъяренную свинью, что та и пикнуть не успела, как собака уже вскочила ей на спину и вцепилась зубами в загривок. Елизавета не поверила себе, увидев, как передние лапы собаки вытянулись и сделались похожи на сильные женские руки. Они вцепились в свинью столь крепко, что, как она ни билась, как ни кидалась и дыбилась, а скинуть собаку все же не могла. Почему-то Елизавета вспомнила свой рассказ Татьяне о волке, который вот так же вцепился в спину кочкара на черном пастбище Хара Базар. Баран не смог его скинуть, пал с перерезанным горлом...
Не скоро удалось свинье освободиться, но из ее загривка тяжелой, черной струей хлестала кровь. Потому она, забыв обо всем на свете, кроме своей боли, кинулась прочь, откуда прибежала; собака, тяжело дыша, принялась набрасывать землю на столб, пытаясь как можно скорее засыпать то, что неудержимо рвалось на волю.
Потом, сев на задние лапы, она долго переводила дух, прежде чем нашла в себе силы подняться и затрусить к лесу, то и дело оглядываясь, словно опасаясь, что черная свинья появится вновь. Но той давно уже и след простыл, поэтому собака наконец-то кинулась во всю прыть к той самой поляне, где лежала сломанная осина. Она перекинулась через бревно справа налево. И вскоре женщина в черном платке и кожушке легко, будто призрак, заскользила по дороге, ведущей к кладбищу.
Елизавета открыла глаза. Луна светила в окно. Да такая ясная, такая чистая! А ведь только что в той ночи, которую она видала во сне, небо было безлунным...
Елизавета привстала, огляделась. Татьянин сенник, кинутый на пол, пуст.
Задыхаясь от слабости, прокралась в детскую. Авдотья сладко сопела на своей постели; в люльке тихонько спала Машенька, чуть нахмурив ровненькие черные бровки.