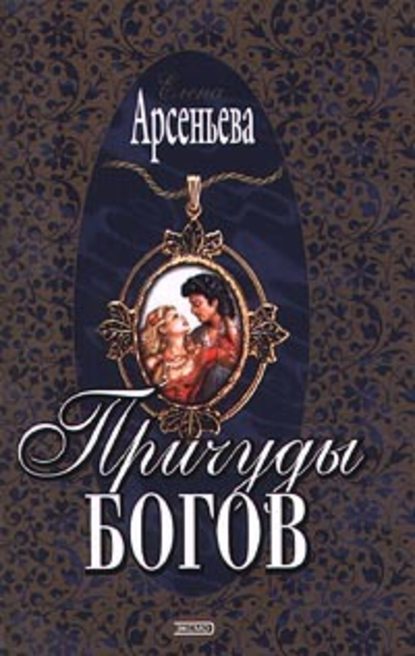По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Причуды богов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она просидела в «Вейской каве» не меньше двух часов, и, хочешь не хочешь, наступала пора уходить. Юлия еще раньше заметила, что посетители, поднимаясь из-за стола, что-то кладут рядом со своими кружками, а потом половой, или, как его здесь называют, кельнер, уносит грязную посуду и то, что оставлено. Она пригляделась – это были монетки в один злотый. И, только увидав эти блестящие кругляшки, она поняла, в какую жуткую попала историю! У нее не было не то что злотого – ни копейки, ни алтына, ни полушки, ни гроша ломаного! Еще ни разу в жизни ей не приходилось что-то покупать самой, а значит, платить. Всегда рядом была матушка, которая указывала, куда прислать выбранную Юлией безделушку: дома и расплачивались с лавочником. Почему-то ей и в голову не пришло, что может быть иначе! Наверное, поддайся она какому-нибудь соблазну еще на Новом Святе, пришлось бы назвать адрес, но отправлять кельнера в особняк отца получить за чашку кофе?! Счет на злотый?! Да и кто поверит, что плохо одетая паненка – дочь всесильного генерала Аргамакова?
Вдобавок поляки, уж конечно, не упустят случая поиздеваться над попавшей впросак русской. Нет, нельзя даже упомянуть имя отца, нельзя его скомпрометировать. Ох, не оберешься скандала! Кельнер уже и так поглядывает с подозрением. Что же с ней сделают? Позовут городового? Потащат в участок? Выгонят взашей? На глазах у всех, у всех, и у того золотоволосого красавца?! Мало того, скажет он, что одета безобразно, так еще и мошенница! И она едва не шмыгнула от ужаса под стол, когда этот красивый пан вдруг подошел к ней и почтительно поклонился.
– Пшепрашам, панна… – Он запнулся, робко взглядывая в испуганные глаза Юлии. – Не вы ли уронили вот это?
Молодой человек нагнулся – Юлия проворно спрятала ноги под скамейку, чтобы он не заметил проклятые кружева панталон, – и поднял серебряный кружок.
Злотый! Боже великий! Ее спасение!
– Да, – не задумываясь, воскликнула Юлия. – Дзянкую! Дзянкую бардзо! [15 - Спасибо! Спасибо большое! (польск.)]
Она помахала кельнеру, хмурое лицо которого выразило нескрываемое облегчение, и с признательностью воззрилась на своего спасителя, стараясь не углубляться в опасные размышления о том, впрямь ли монетка валялась под столом или юноша каким-то образом угадал, что у Юлии нет денег, и решил заплатить за нее столь деликатным способом. В таком случае он не только очень красив, но и умен. Чем не рыцарь? Может быть, кто-то скажет, что плохие настали времена, если прекрасных дам теперь спасают не от злых драконов, а от обманутых кельнеров, но еще вопрос, кто более кровожаден и страшен во гневе! Во всяком случае, Юлия была благодарна своему рыцарю во фраке и шляпе куда больше, чем какая-нибудь Кунигунда или Розалинда своему Альберту или Готфриду в шлеме и тяжелых латах. И он был так красив, так ласково улыбались янтарные глаза в обрамлении круто загнутых золотистых ресниц, так очаровательно вились надо лбом мягкие кудри, так трогала душу легкая улыбка, что Юлия не смогла отказать пану Адаму Коханьскому, когда он решил проводить ее до дому.
Оказалось, он учился в школе подпрапорщиков. Это несколько погасило романтический нимб, уже сиявший вокруг его золотоволосой головы. Юлии, часто видевшей подпрапорщиков в их черных пелеринах в Лазенках, где школа помещалась, совсем недалеко от Бельведера и от прогулочных аллей, по которым русские дамы катались верхом, они казались необычайно угрюмыми и неприязненными существами. К тому же отец всегда был против обучения польской молодежи польскими же наставниками, уверяя, что там насаждают идеи возрождения Великой Польши и школа подпрапорщиков – хорошая пороховая бочка, так же, впрочем, как Варшавский и Виленский университеты. Однако все подпрапорщики, вместе взятые, это одно, а вот Адам – совсем другое! Прогулка с ним по Новику, а потом по Краковскому предместью, до самой Замковой площади, вдоль стены, опоясывающей Старый город, показалась Юлии упоительной. Руки ее были нагружены теми самыми букетиками из братков, левконьев, румянок, о которых она так мечтала! Адам, верно, решил не оставить без внимания ни одну цветочницу. Конечно, ни от одного из своих поклонников Юлия и помыслить бы не могла принимать такие бесцеремонные подношения, но сейчас по варшавским улицам рядом с этим пригожим будущим подпрапорщиком шла вовсе не одна из богатейших невест России, Юлия Аргамакова, а Юленька Корф, приехавшая из России навестить свою дальнюю родственницу, служившую горничной у супруги генерала Аргамакова. Она решила уж не вовсе завираться, однако и в придуманном не стеснялась, уверенная, что ее упоительное своей внезапностью приключение едва ли будет иметь продолжение. Однако, прощаясь с нею у маленькой калитки на задах аргамаковского дома, Адам вдруг робко попросил о новом свидании.
Юлия растерялась. Об этом она и мечтать не смела! Все происходило в точности как в той оперетке про отчаянную герцогиню. И все-таки – бегать на свидания! С мужчиной! Будто какая-нибудь горничная! «Нет, настоящая эмансипе!» – тут же поглядела на это Юлия с другой стороны и в нерешительности взглянула на Адама, всем сердцем желая сказать «да» – и боясь этого.
Адам с улыбкою взял ее за руку – из целей той же маскировки Юлия не надела перчаток – и поднес к губам. Но не приложился почтительно, а повернул ладонь и, тихонько подышав на нее, провел губами от запястья к кончикам пальцев, щекоча нежную кожу своим теплым дыханием и шепча:
– Придете, панна Юлия?
Он не целовал ладонь – только касался еще шепчущими губами, и эти щекочущие прикосновения вдруг отняли у Юлии силы. Дрожь прошла по телу от груди до бедер, затаилась в самом секретном местечке, отозвалась сладкой судорогой. Она почувствовала, как загорелось лицо. Вырвала руку. Метнулась в калитку, не позаботившись запереть ее за собой, но успев отчаянно шепнуть в ответ:
– Приду! Приду! Ждите!
* * *
Вот так все это и началось, но если Адам Коханьский оказался столь самонадеян, чтобы вообразить, будто именно он прельстил и соблазнил эту сорвиголову, то он ошибался. Прельстили ее недозволенная свобода, смелость обхождения и уверенность, что наконец-то она сама решает участь свою.
Ей не раз приходилось слышать споры отца с матерью: в кого дочка такая уродилась? Отличаясь почти портретным сходством с отцом, Никитою Аргамаковым (разумеется, естественно смягченным и приглаженным ровно настолько, чтобы дерзкое обаяние отца сделалось главным очарованием дочери), она унаследовала от матушки своей, Ангелины, скрытую пылкость чувств при показной мягкости и нежности – внешность весьма обманчивую! Романтический тревожный дух ее, замкнутый в слишком тесной сфере, бился как птица в дорогой клетке. И не зря князь Никита Ильич при виде дочери частенько вспоминал, как принц де Линь сказал Екатерине Великой: «Если бы вы родились мужчиной, то, конечно, дослужились бы до фельдмаршала!» И ее ответ: «Не думаю. Меня убили бы в унтер-офицерском чине!»
Вот из таких была и дочь его, про которую даже денщики говорили, мешая восхищение с неодобрением: «Не девка, а ветер из крымских степей!» Юлия качалась на качелях, едва не перекидываясь через перекладину, стремглав носилась в горелки или скакала без седла, запрыгивая на коня с ходу, с разбега. Отец, видевший в ней враз и дочь, и сына, которого он так и не дождался, шутки ради научил ее стрелять и фехтовать, и делала это Юлия преизрядно. Не отставала дочь от отца и на охоте, которой тот предавался со страстью, ибо она напоминала ему войну. Когда князь Никита Ильич, в военной фуражке, накинув на одно плечо бурку, верхом на отличной лошади, как бы влитый в нее, молодцевато отправлялся в отъезжее поле в сопровождении многочисленных псарей, одетых в охотничьи чекмени [16 - Короткие полушубки.], с перекинутыми через плечо рогами и с собаками на сворах, Юлия непременно была рядом, причем не в модной амазонке и на английском седле, а одетая по-мужски и по-мужски верхом, и никакие уговоры не могли ее от этой привычки отучить. Ни отец, ни мать и не догадывались, что Юлия таким образом отвоевала себе отнюдь не свободу движений на охоте! Свободу нравов!
Многих женщин томили стеснительные нравы того времени, и они пытались протестовать против отжившего порядка вещей ребяческой удалью, подражанием мужчинам, убежденные, что независимая жизнь уравновешивает положение женщины с независимым положением сильной половины рода человеческого. Дамы и даже барышни категорично заявляли: «Довольно! Теперь не старая пора!», начали курить в обществе, носить платья на манер мужской одежды и сапоги, стричь волосы, вольно вступать в общую беседу. В Варшаве все знали некую даму из хорошей семьи, которая даже голосом подделывалась под молодых людей, а вечерами расхаживала по улицам в военной шинели и на вопрос будочников [17 - Караульные возле будок на въезде в город.]: «Кто идет?» отвечала: «Солдат!»
Рядом с такой детской, безотчетной жаждой свободы существовал протест более яркий, хотя столь же безрезультатный. Из раззолоченных чопорных гостиных, из приличных бальных зал особо горячие, несдержанные головы кинулись в кабаки и рестораны, закружились в шумных оргиях с шампанским, презрев все нужные и ненужные условности, подражая разгулу и кутежам мужчин.
Новая жизнь, новые нравы, новые веяния проникали всюду, не просветляя, а опьяняя головы. Женщинам хотелось привольной, другой жизни, но какая она вне кутежа, вне грубости, они понять еще не могли. Ища свободы, находили разнузданность, распущенность. Ну а для таких пылких натур, как Юлия, живших не умом, а сердцем, никем не руководимым, вольно предававшимся фантазии, желанная свобода и воля сводились прежде всего к свободе в любви.
Впрочем, хотя прежде руки Юлии не раз просили, родители не неволили ее в выборе – точнее, в отказах. Так, одному императорскому курьеру, человеку премилого обхождения, с порядочным состоянием и связями при дворе, она отказала лишь из-за его фамилии – Пивововов. Если в мужском роде это звучало более или менее забавно, то в женском – Пи-во-во-во-ва – просто чудовищно! И уехал в Санкт-Петербург бедняга курьер, едва не плача, не зная и не понимая, за что была немилостива к нему красавица. А он был всего лишь такой же, как все, всего лишь богат, хорош собою, словом, завидный жених, и это вызывало два чувства у своенравной девицы: скуку и неприязнь.
О, родители могли позволить себе не неволить дочь! Юлия до сих пор толком не знала, в шутку или всерьез отец к месту и не к месту вспоминает своего боевого друга, графа Белыша, с которым шел в двенадцатом году от Москвы до Парижа, а потом, отыскав во Франции похищенную Ангелину с Юленькой, обменялся с сотоварищем словом помолвить свою дочь с его сыном, которому в ту пору было всего семь лет. Впрочем, и невеста недалеко ушла от жениха: ей и года не было во время той заглазной помолвки! И хотя с тех пор ни единого разочку не объявлялись ни старый, ни молодой Белыши в доме аргамаковском, Юлии не больно-то легко было жить под дамокловым мечом могущего быть отцовского безоговорочного заявления: «Известно ли вам, милостивая государыня, что вы выходите замуж?..» Такие заявления в те поры были обычным делом, и Юлия могла почитать себя счастливой хотя бы оттого, что знала фамилию своего нареченного! Ей хотя бы не предстоит услышать жутковатого окончания фразы: «…а за кого – узнаете после!» И все-таки она не могла поверить, что такая судьба ей уготована. Выросшая в семье, вековым заветом которой была смертельная, обоюдоострая любовь, многажды слышавшая истории жизней Елизаветы Елагиной, Марии Строиловой и матери своей Ангелины Корф [18 - Персонажи предыдущих романов Е. Арсеньевой.], Юлия доподлинно знала: на меньшее, чем продолжение семейных традиций, она не согласна. Она не уподобится множеству своих подруг, которые уверены, что любовь – лишь не существующая в реальности тема для разговоров и стихов модных Гюго и Мицкевича, а потому скорее готовы были выйти замуж без любви, чем остаться в старых девах: мол, сама соскучишься и всем наскучишь! Она будет ждать, искать, надеяться! И Адам, романтический красавец, всего лишь поцеловавший ее руку, но так, что она потом всю ночь видела буйно-страстные сны, показался ей именно тем героем, о ком смутно грезила душа.
Конечно, и помыслить невозможно было, чтобы отец позволил ей не то что замуж – на свидание к Адаму идти! Да и тот, конечно, еще сто раз подумал бы, прежде чем подойти к столу в «Вейской каве», когда бы знал, что за ним сидит не какая-то перепуганная хорошенькая паненка, а дочь всевластного генерала Аргамакова! Разве что начальник варшавских жандармов Рожнецкий стяжал более неприязни в Польше, чем этот генерал от кавалерии, в 1813 году бравший Варшаву воистину огнем и мечом, теперь – один из ближайших друзей великого князя Константина Павловича, ненавидевший даже упоминание о Речи Посполитой и не скрывавший раздражения ко всему, что казалось ему чуждым русской жизни!
В отличие от отца Юлия никакой особой беды в польском гоноре не видела. Разве просто расстаться с воспоминаниями о былом могуществе Великой Польши?! И потом, разве справедливо, к примеру, что Франция, зачинщица войны, осталась независимой, просто сменила диктатора на законного, Богом данного монарха, а Польша вовсе утратила волю свою и была насильственно разделена между победителями?! Понятно, что поляки не жалуют русских, видя в них захватчиков. Впрочем, чем так уж особенно хуже жизнь в Варшаве, чем жизнь, скажем, в Москве, было бы затруднительно определить даже самому недоброжелательному взору.
Рассуждая так, Юлия не учитывала одного: французы для русских были чужаками, поляки же – братьями, предавшими братьев своих в последней войне… Как предавали, впрочем, нередко и в века минувшие, снюхиваясь то с турками, то с немцами, то с ливонцами, то со шведами – лишь бы посильнее уязвить Россию во имя удовлетворения того самого ненасытного польского гонора, который вошел в пословицу. Юлия была слишком молода и, честно сказать, еще глупа, чтобы видеть в каждом частном поступке или чувстве отражение вековой неприязни двух славянских народов. Она знала одно: ей безумно нравился Адам, однако не видать его как своих ушей, ежели положиться на добрую волю отца – да и самого Адама. «Что бы ни говорили о возвышающей силе любви, все любят ради себя, а не ради того, кого любят!» – думала Юлия. Вот он, вожделенный случай взять наконец свою судьбу в свои руки, распорядиться ею, как желательно! А если ради этого нужно пойти на небольшой обман – за чем дело стало?!
3. «Ваш милый думает о вас»
…Что-то мягкое обвилось вокруг ног Юлии, и она вздрогнула, с трудом очнувшись. Это кошка, большая белая кошка запуталась в широком подоле амазонки и никак не могла выбраться. Юлия распутала киску и присела на корточки – погладить, почесать за ушком. У нее тоже был кот – раньше. Этот большой белый зверюга обворожительной наружности слыл великим плутом и вором. Матушка Юлии и прислуга бывали от него в отчаянии. Кухня и кладовая то и дело подвергались его набегам. Он крал оттуда провизию, а на мышей не обращал никакого внимания. Иногда и в соседних домах страдали от его похождений. Как он туда пробирался, оставалось тайной. Юлия помнила, как весь дом взбудоражила одна история. На чердаке висел бумажный куль с окороком, закопченным к какому-то празднику. Подлец-кот умудрился прогрызть куль. Он сделал в нем этакую дверку, устроив там себе жилище – с готовым полом и потолком. Сало постепенно исчезало, о чем никто не ведал, а кот непомерно жирел. Скоро от окорока остались одни тоненькие стенки. Настал канун праздника. Повар отправился на чердак, подошел к кулю… Оттуда выскочил кот, а сала как не бывало!
Жалобы на кота сыпались со всех сторон, но Юлия не давала его в обиду: нахал улестил ее своей красотой и ласковостью! Наконец прислуга на кухне потеряла терпение: украдкой от барышни решено было его повесить. И повесили же! Но, видно, петля была слабо затянута или кота слишком скоро из нее вынули, только он ожил: крупным и ловким ворюгам, как известно, везде удача! Юлия исходатайствовала на кухне для него прощение в надежде, что полученный урок не пройдет для него даром. Действительно, недели три-четыре после злополучной казни кот вел себя примерно, а дальше не выдержал и сбился на прежнее. Прислуга терпела, стиснув зубы, лишь бы не расстраивать барышню. Летом его взяли в деревню, и он так пристрастился к вольной охоте на птиц и мышей, что, привезенный в город, сам сбежал в имение – там и остался.
Юлия ощутила улыбку на своем лице и подумала, что, может быть, не так уж все страшно обернулось, как ей показалось с перепугу. В конце концов, ее любовь к Адаму не уменьшилась оттого, что он бросил какое-то там дело ради побега с нею. Так неужто ж и Адам не смягчится, поразмыслив, сколь многое она покинула ради него? Ведь даже в самые отчаянные, захватывающие мгновения их скоротечного романа она не переставала надеяться, что рано или поздно сможет вернуться с мужем домой, отец с матерью простят ее ослушничество, поймут. Любовь извиняет все, а потому Адам должен простить ее! Что бы сделать, как бы поступить, чтобы уж наверняка этого добиться? Не поговорить ли с ним, не объясниться ли начистоту? Или, напротив, затаившись, ждать, пока он сам явится к ней с упреками, и развеять все их слезами, мольбами, ласками?
Ласками? Юлия задумалась. Адам такой нежный, такой ласковый – устоит ли он, если Юлия кинется к нему с жаркими поцелуями? Неужто не растопят они лед его обиды?
Ах, что делать, что делать? Вот ежели бы оказался рядом кто-то премудрый, преопытный, с кем можно было посоветоваться!
Юлия задумчиво поднялась по лесенке и очутилась в квадратном коридоре, уставленном по углам креслицами и диванчиками. Даже кадка с фикусом поместилась в этом тесном, но уютном местечке, назначенном, верно, для отдыха и бесед панов проезжающих. Однако сейчас в укромнейшем уголочке возле деревянного инкрустированного столика сидела всего одна немолодая женщина, одетая в черное платье с белым кружевом и черный чепец. Единственное, что разнообразило ее унылый туалет, это тонкая, тоньше шелка, шаль дивного переливчатого оттенка: не то темно-синего, не то темно-зеленого, да еще с золотым блеском. Дама была столь маленькая, тщедушная, что пряталась за могучим фикусом, будто птичка от дождя – под веточкой.
Юлия отвесила незнакомке легкий полупоклон и задумчиво воззрилась на полускрытые портьерами двери, выходившие в коридор: которая, интересно бы знать, ведет в отведенную ей комнату? Хорошо бы там отдохнуть, поуспокоиться, обдумать, как быть дальше…
И вдруг какое-то движение отвлекло ее взор. Она глянула в сторону дамы – и увидела, что та тасует карты и раскладывает на столике пасьянс.
Юлия любила карты: не игру, а именно пасьянсы. Любила пустяшные вопросы, на которые можно было найти ответ, если картинки сложатся так, а не иначе, любила двуличные, двусмысленные изображения карточных королей, дам, валетов, их застывшие, надменные, насмешливые лица, в которых таился намек… Карты могли пророчить, и Юлии всегда хотелось по-настоящему поворожить на судьбу, но ни одной истинной гадалки, вроде знаменитейшей мадам Ленорман, предрекшей Наполеону его восход и закат, она еще не видела. А вот эта дама в черном очень похожа на гадалку…
И не успела она так подумать, как дама подняла на нее лицо – его тонкие черты, подернутые вуалью морщинок, хранили следы красоты замечательной! – и с улыбкою спросила:
– Не желает ли пани изведать свою судьбу?
Юлия изумленно уставилась на даму, почти испуганная тем, что небеса так скоро отозвались на ее мольбу и послали ей столь необходимую советчицу. В ее по-птичьи остреньком личике было что-то маняще-коварное, льстиво-лживое, как во всех карточных дамах, вместе взятых, и Юлия, неотрывно глядя в миндалевидные, жгуче-черные глаза, глядевшие на нее с властно-насмешливым выражением, согласно кивнула. Как зачарованная подошла она к даме, села, покорно сдвинула («Левой рукой, от сердца!») часть колоды, потом еще раз, еще… потом с быстротою вихря на столе раскинулся веер карт – и гадание началось.
Надобно сказать, что для этой цели незнакомка вынула из шелковой черной сумочки совсем другую колоду – не ту, которую использовала для пасьянса, ибо «судьба пустых забав не любит», как пояснила она с чрезвычайной серьезностью, от которой у Юлии холодок побежал по спине. Что же она только что проделала со своей судьбой, как не пустую забаву?! Нет, эта гадалка оказалась здесь не случайно! Ее Бог послал, чтобы выбрать верный путь, ее и ее карты!
Юлия никогда прежде не видела таких карт: фигуры на них были изображены в полный рост, и когда она хотела перевернуть одну даму, оказавшуюся вверх ногами, гадалка испуганно схватила ее за руку: «При перевороте фигура получает совершенно другое значение!»
– Перевернутая бланка означает, что загадывающее лицо в беспокойстве! – вглядываясь в карты, произнесла гадалка, и Юлия подумала, что ее беспокойство у нее на лице написано, да и разве обратится к гадалке человек, у которого на душе спокойно и нет тревожных мыслей? Она поправила снисходительно:
– Меня зовут Юлия, а не Бланка.
Гадалка с легкой улыбкой объяснила, что бланка – это карта, означающая Юлию. Не бубновая дама, ибо ею может оказаться вовсе другое лицо, – а именно особенная, отдельная карта бубновой масти, и это – «млада, ладна панна».
В своей привлекательности Юлия никогда не сомневалась. Карты, значит, тоже в этом уверены? Спасибо им!
– Млада, ладна панна сейчас в гостинице, – сообщила гадалка.
Поразительная наблюдательность! Неужели, чтобы установить это, нужно так внимательно всматриваться в перевернутого туза червей и короля той же масти, лежащего вниз головой, а не оглядеться вокруг?
– Перевернутые валет червей и бланка означают, что панна думает о молодом человеке, – сказала гадалка и, не успела Юлия усмехнуться: «А что, есть панны, которые не думают о молодых людях?», уточнила: – Панна полагается на одного человека (видите, бубновый король рядом с семеркой пик?), но четыре семерки гласят, что это – неверный человек!
Юлия растерянно моргнула. Адам – неверный человек?! Глупости какие. Впрочем, да, тот скаженный [19 - Бешеный (польск.).] Сокольский говорил же о дезертирстве… Ну, это ничего! Слово «неверность» имеет для Юлии, как и для всякой женщины, одно, совершенно определенное значение.
И тотчас гадалка ее успокоила:
– Молодой человек страдает от любви.