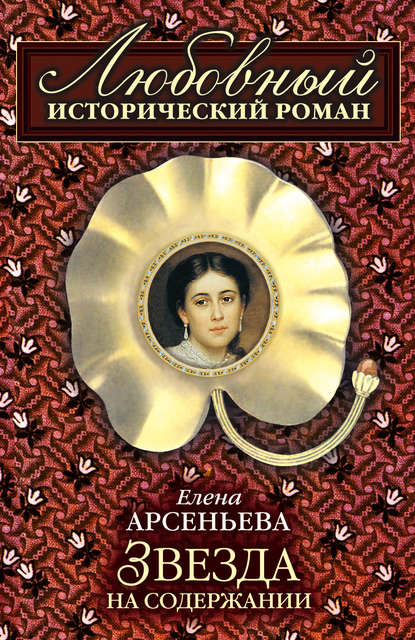По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Звезда на содержании
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Почуяв недоброе, мадам Жужу ворвалась в комнату – да так и ахнула, увидав опустелую кровать и отворенное настежь окно.
Она не сразу поверила своим глазам, а тем паче не сразу осознала, что Анюта, так и не ставшая Аннетой, сбежала!
* * *
Анюта летела, не разбирая дороги, ничего не видя вокруг. Запуталась в юбках, чуть не упала, приостановилась, прижав ладонью неистово бьющееся сердце. Огляделась.
Куда она бежит? Неизвестно. Где она? Неведомо. Сплетенье узких улочек позапутанней того лабиринта, в котором некогда блуждал прославленный Тезей. Но его вывела к свету нить Ариадны, а кто даст путеводную нить Анюте, которая блуждает в лабиринте, созданном из обломков рухнувшего мира?!
Ее мир рухнул, да, он рухнул безвозвратно. Внезапная кончина тетушки Марьи Ивановны и переезд в город N... встреча с опекуном и страшное открытие собственного ужасного, унизительного происхождения... рассказ этой кошмарной, уродливой повитухи... «Какое счастье, – мелькнуло тогда в голове Анюты, – какое счастье, что и родители мои, и тетушка уже умерли и не успели узнать, что я их любви недостойна, какое счастье, что я узнала о своем позорном рождении не от них, что не успела увидеть в их глазах презрение и холодность!»
Кажется, это была последняя связная мысль, которая появилась в ее сознании за долгое время, потому что невероятные и кошмарные события продолжали сыпаться на ее несчастную головушку. Она была так потрясена, что даже плакать не могла. Просто стояла и смотрела на господина Хвощинского и думала о том, что фамилию своего опекуна помнит, а имени-отчества нет. И в ту минуту ей это казалось самым главным, ведь она должна была спросить его, как же ей жить дальше, куда податься, если она осталась на всем свете одна-одинешенька, никому не нужная, без крыши над головой и без гроша в кармане. А он... а он вдруг стал говорить что-то странное. Якобы он готов закрыть глаза на тайну Анютиного рождения, потому что добрый и великодушный человек и заботится о том, чтобы имя его дорогого друга и родственника Виктора Львовича Осмоловского (того самого, коего Анюта всю жизнь считала своим родным отцом) не было покрыто позором. Ради этого он на любую жертву готов – даже на то, чтобы на Анюте жениться, прикрыть ее безродность своим именем.
От изумления Анюта даже вспомнила его имя и отчество: господина опекуна звали Константином Константиновичем. И она пискнула робко:
– Да как же сие возможно, Константин Константинович?!
– При желании нет ничего невозможного, – деловито ответствовал опекун. – Вас, быть может, беспокоит свидетельство Каролины? – И он небрежно кивнул в сторону ужасной старухи, которая смотрела на Анюту взором злобной гарпии. – Ничего, мы ей заплатим, и она будет молчать. Разумеется, сумма должна быть изрядная. Для этого немедленно после венчания вы передадите мне все права на ведение ваших денежных дел. И я определю Каролине приличное содержание в залог ее молчания.
– Но как же-с? – пролепетала Анюта. – Это же обман... неправедный обман!
Каролина хихикнула весьма презрительно, а Хвощинский нахмурился:
– Вы что ж, меня лгуном считаете?! Я вас спасти желаю, а вы меня...
– Что вы, что вы, помилуйте, Константин Константинович, – слабеньким голоском бормотала Анюта, – как вы могли такое подумать. Я вам, конечно, по гроб жизни за вашу доброту признательна, а все же не пойму... как же так... ведь родители мои, ну, те, кого я по незнанию почитала как мать и отца, они ведь проклянут нас на том свете, это же им, их памяти поношение... Да и тетушка Марья Ивановна осудила бы меня, коли я согласилась бы...
– Позвольте осведомиться, вы, Анюта, круглая дура, что ли? – возопил Хвощинский. – Да что вам в тех мертвецах?! Вы-то еще живы! О себе думайте! Ну, говорите: пойдете за меня?
Анюта так и затряслась от неудержимых слез. Немил ей был Хвощинский, немил и постыл... Конечно, чем влачить жалкое существование подзаборной бездомной нищенки-побродяжки, небось и за черта с рогами пойдешь, а все же она никак не могла вымолвить такое простое и такое трудное слово – «да». Что-то подсказывало: Хвощинский не из жалости к ней предложение делает: он хочет посвоевольничать с деньгами Осмоловских! Анюта во всех этих делах плохо разбиралась, однако ж понимала, что наследство Осмоловских все равно должно кому-то перейти, даже если дочь их – не дочь и никакого права на деньги не имеет. Значит, она, согласившись смолчать и за Хвощинского выйти, все равно что ограбит этого неизвестного ей, может быть, очень хорошего и несчастного, бедного человека, для которого в этих деньгах вдруг да спасение от нищеты кроется? Да и не только в деньгах дело было...
Так же мало, как о деньгах, Анюта знала и о мужчинах. Тетушка Марья Ивановна воспитывала ее в строгости – в такой, что с неудовольствием отпускала даже на военные парады полюбоваться, говоря, что невинной девице неприлично даже издали смотреть на такое количество марширующих мужчин. Вообще можно сказать, что воспитывалась она дикаркой и затворницей. Те молодые люди, военные или статские, которые изредка и очень издалека мелькали на Анютином горизонте (она ведь еще и выезжать не начинала, так что даже танцевала в малом зальчике со стареньким учителем, а вовсе не с кавалерами на балах), были весьма собой хороши и, самое главное, выглядели весьма благородно. На барышень они поглядывали враз восхищенно и снисходительно. Именно такой идеал будущего супруга и лелеяла в своем воображении Анюта. О нет, он совершенно не должен быть именно жгучим брюнетом или голубоглазым блондином, так далеко мечты девичьи не простирались, но она точно знала, что он будет благороден... и взирать на нее станет восхищенно и снисходительно. И это сделается непременным залогом семейного счастья. Но Хвощинский не был благороден – ведь им двигала отнюдь не жалость к Анюте, а жажда наживы. И она заранее знала, как если бы увидела вещий сон, что ни капли счастья не выпьет из брачной чаши, которую преподнесет ей Хвощинский: он будет смотреть на Анюту с презрением, он со свету сживет ее попреками. Да это еще полбеды... а грех перед Господом? Он-то все видит, все ведает, он-то будет знать, что перед алтарем станут два лгуна, которые на лжи захотят построить свой дом... Но именно в такие домы и метит Господь разящие молнии!
– Простите великодушно, Константин Константинович, – выдавила наконец Анюта, – но я вашей женою стать не смогу. Отвезите меня, Христа ради, в монастырь... я буду там замаливать грехи моей несчастной матери.
Хвощинский что-то еще говорил ей, но Анюта впала в какое-то оцепенение и ничего не слышала. С трудом осознавала она, что и Каролина что-то бубнила ей – наверное, пыталась уговорить ее одуматься, согласиться на невероятно великодушное предложение Хвощинского... Потом все словно бы смерклось перед глазами измученной девушки, а когда мгла несколько разошлась, она обнаружила себя лежащей на низкой кровати в полутемной комнате.
Приподнялась, огляделась...
Неужто она даже и не заметила, как была доставлена в монастырь? Но нет, эта комнатушка на келью не похожа, это даже неискушенная Анюта могла понять. Первое дело, кровать стоит под пыльным пологом темно-красного цвета. Да и мягкая она – на такой кровати не усмирять плоть, а только тешить ее. Пахло кругом сладко-сладко, словно бы цветами, было душно и как-то томно. Пробивался сквозь эту сладкую духоту и запах табака.
Анюта сначала лежала без мыслей, пытаясь понять, где она и что с ней, а потом начала вспоминать случившееся – и так ей жалко себя сделалось, что она начала тихо точить слезы в пышную подушку с шелковой наволокой. И вдруг за стеной раздался женский смех. Анюта так и вскинулась, так и скривилась, такой это был грубый, неприятный, вульгарный смех. Только самая низкопробная тварь могла так хохотать.
«Куда же я попала? Куда меня завезли?!»
Вспомнилось словно сквозь сон... какая-то женщина с воронено-черными волосами и с голыми плечами, губы у ней непомерно яркие, лицо набелено и нарумянено, мрачные, холодные глаза... Видела ее Анюта или впрямь приснилась страшная?! Табаком от нее пахло – самую чуточку, а пахло, вот тем же, что в комнате пахнет...
У Анюты запершило в горле. Соскользнула с кровати и быстро перебежала через комнату к двери. Под ногами мягко проминался ковер. Ковер на полу... Ах боже мой, какие же богатые покои, вон и зеркала темно мерцают, и картины тут и там в золоченых рамах, и окна роскошными портьерами закрыты, и вазы с цветами на столиках, только отчего же даже роскошь этих покоев внушает отвращение и страх?
Она выглянула в коридор – да так и ахнула. Мимо, громко топоча каблуками, промчался мужчина. Он размахивал руками и пьяно кричал: «Отвяжись, тварь! Оставь меня в покое!» За ним, подбирая юбки, спешила женщина. Это была не та, чьи мрачные глаза и нарумяненные щеки пугали Анюту, но тоже «хороша» до невероятности: корсет ее был распущен, и из него – ах, боже мой! – вываливались голые груди, чуть прикрытые распатланными волосами.
– Постой, желанчик мой! – восклицала она. – Погоди, миланчик! Ужо я тебя распотешу по-всякому, да иди же ко мне, куда ты?
Мужчина обернулся, поглядел на нее, мотнул светловолосой головой – и ринулся бежать дальше. Вот он свернул за угол, за ним кинулась женщина – только юбки ее мелькнули да босую голую ногу успела углядеть Анюта. Отзвуки обиженного визга еще доносились до нее...
Мгновение Анюта стояла, крепко зажмурясь, все еще не в силах осмыслить происходящее, затем открыла глаза. Она до сих пор не понимала, где находится, знала только, что ей здесь не место.
А где ей место? В монастыре? Но почему господин Хвощинский не отвез ее туда? Или отвозил? Наверное, это произошло в то время, пока Анюта была как бы без памяти. Но почему не оставил там? Ее не взяли, вот почему! Да неужто даже Богу она не нужна?! И тогда опекун привез ее сюда, в это страшное место, даже названия которому Анюта подобрать не может, знает только, что никак нельзя, невозможно ей здесь оставаться. Надо бежать, бежать, а куда?
Наверное, к Волге, куда ж еще? Все, что она знала о городе N, это что на Волге стоит... Даже видела сегодня ранним утром сизую воду ее, пока переправлялись на пароме. Ах, кабы знала, что ждет, так еще там бы утопилась! Ну да ничего, еще не поздно. Вот в этой сизой воде Анюта и утопит свои страдания. Если она не нужна Богу, значит, он простит ей грех самоубийства... вернее, не простит, а даже не заметит его совершения.
Анюта всхлипнула, сердито отерла глаза и вернулась в комнату. Подошла к окну и, сдвинув тяжелые портьеры, убедилась, что рамы оконные держатся на честном слове. Дернула их раз, другой, посильнее, еще сильнее – они и распахнулись. Высунулась – оказывается, окошко глядело в сад. Поодаль, за кустами смородины, забор, а в нем вроде бы калиточка виднеется. Хорошо бы она оказалась столь же хлипкой, как и рамы. Ну а нет... придется через забор лезть.
Анюта хотела было помолиться, попросить у Господа помощи, да вспомнила, что он от нее отступился, не захотел в обитель принять, и решила полагаться только на себя, по пословице – на Бога надейся, а сам не плошай. И, неуклюже подбирая юбки, кое-как перевалилась через подоконник. Упала на землю, спешно поднялась и, пригибаясь, побежала через кусты к калитке. Смородиновые ветки цеплялись за юбки и осыпали Анюту спелой душистой ягодой. Как-то вдруг она вспомнила, что нынче с утра у нее маковой росинки во рту не было, и голод на миг заглушил все остальные чувства. Девушка принялась проворно обирать ягоду и торопливо жевать. Смородина была перезрелая, чуточку пыльная и сладкая до невозможности. Остро вспомнилось Анете, как она каждый год в это же время собирала смородину с тетушкой, чтобы потом сварить на меду... Слезы так и хлынули, и более съесть ни ягодки она не могла. Да и ладно, чего тут больно разъедаться-то, бежать пора, не ровен час, хватятся ее эти... баба с голыми грудями, да разлохмаченный мужик, да иже с ними – слышала ведь Анюта голоса еще многих мужчин, пьяно хохочущих за стеной. А может быть, это приют разврата, о котором порою нравоучительно говорила тетушка, вызывая у Анюты дрожь ужаса? Приют разврата, пристанище блудниц?! Наверное... Бежать, да поскорей!
Калитка оказалась чуть прижата щеколдою, и Анюта выскочила на пыльную узкую улочку. Справа оказался тупик в виде лабаза, ну, значит, влево. Повернула за угол высокого забора – да и ахнула, оказавшись на широкой мостовой, по которой в обе стороны грохотали возы да кареты. А народу, народищу-то! Даже голова закружилась у злосчастной провинциалки. Куда теперь? Где Волга? Не спросишь ведь у первого встречного, куда, мол, бежать, коли топиться приспичило. Ах, вспомнила! Совсем недалеко от реки, в полугоре, видела Анюта разноцветные купола несказанно прекрасной церкви, и кучер на ее восхищенный вскрик ответил: это, мол, церковь Рождества Христова.
Анюта огляделась по сторонам – у кого бы дорогу спросить. Мимо шли все больше мужчины, причем самого простого и грубого вида. С такими говорить невместно барышне, обращаться если к незнакомым, то лучше всего к даме. Но дам вблизи не просматривалось, одни бабы. Ну что ж, как говаривал господин учитель математики, большой любитель поиграть в макао[2 - Старинная карточная игра.]:
«Коли больше не с чего, так с пик!» Нету дам, значит, придется обращаться к бабам.
В эту минуту Анюта очень кстати увидела бабу, принакрытую большим пестрядинным платком, в очипочке на голове – концы торчали смешными рожками.
– Извините, сударыня, – как можно более вежливо начала Анюта, – дозвольте спросить...
Баба стала столбом и выкатила глаза. О господи, не зря тетушка говорила, что излишняя любезность к простым так же вредна, как заносчивость с равными себе!
– Милая, скажи-ка мне, как к Рождественскому храму пройти? – покровительственным, небрежным тоном спросила Анюта, и у бабы глаза несколько поубавились в размерах.
– Так вы, барышня, ножки натрудите ходимши, – ответила она. – Далеко больно церква-то. Возьмите ваньку...
– Я сама знаю, что мне делать, – отмахнулась Анюта, призывая на помощь всю свою заносчивость. – Ты мне не советуй всякую ерунду. Ты скажи, как к церкви Рождественской попасть, да поскорей!
– А вы, барышня, знать, не нашенская? – вдруг разулыбалась баба. – Тутошние господа к Рождественке обе дороги знают: и по тропочкам, через овраги, и улицами. Вам которую указать?
– Которую хочешь, ту и укажи, – нетерпеливо сказала Анюта. – Лишь бы поскорей!
– Ну, тропочками побыстрей дойдете, – задумчиво произнесла баба, оказавшаяся, по всему, философкою, – да ведь там после дождей увязнуть можно. А улицами хоть и дольше, зато ног не замараете.
– О боже ты мой! – в сердцах воскликнула Анюта, аж притопывая от нетерпения, так хотелось поскорей развязаться с этим мучением, именуемым жизнью. – Ну, сказывай, как идти улицами!
– Ну, перво-наперво, выйдете на Варварку, потом на Благовещенскую площадь, потом обочь кремля по Елоховскому съезду внизу, а там по Рождественской налево – и купола завиднеются, на них и идите.
– На Варварку... на Благовещенскую... вниз мимо кремля... – повторила Анюта, запоминая. – А Варварка эта в какой стороне? До нее как добраться?
– Вы вот что, барыня, вы этак-то заблудитесь как пить дать, – всполошилась баба, и глаза ее приняли хитрое выражение. – Сем-ка я вас провожу? До самой Рождественки-матушки доведу, а вы мне... от щедрот ваших... детишкам на молочишко... сами знаете, городская жизнь со дня на день дорожает, с народишка не копейку, а грош тянет!
Может быть, Анюта приняла бы ее предложение, кабы был у нее тот грош или хотя бы малая полушка.