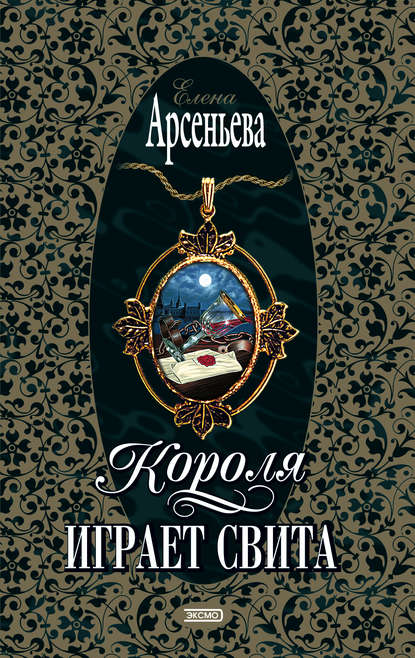По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Короля играет свита
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Господа, нет слов, чтобы выразить мою признательностью. Однако же не сочтите меня нескромным в моем желании узнать имена моих спасителей. Клянусь, ежели они составляют некую тайну, я сохраню ее навеки, и никакая сила не сможет заставить меня разомкнуть уста!
– Помилуйте, голубчик, да какая же в сем может быть тайна? – весело спросил Огюст. – Имя вашей спасительницы, моей нежнейшей сестрицы, гремело в Петербурге погромче пушек Адмиралтейства. Прима императорской сцены, обольстительная, несравненная Луиза Шевалье! Аплодисменты, господа!!!
Огюст и Жан-Поль в самом деле разразились такими бурными, такими заразительными аплодисментами, что ладони Алексея тоже несколько раз вяло шлепнулись друг о друга, но почти тотчас безвольно упали на колени, а услужливая память нарисовала похабную сценку, виденную нынче днем близ Зимнего дворца. Мужик в гречевнике и его собачонка:
«А ну, сучка, покажь, как мадам Шевалье делает это!»
И собачка бряк на спину, раскинув лапки...
Ну, это слишком просто, господа. Отнюдь не только так «мадам Шевалье делает это«, уж Алексей-то мог в сем убедиться. А также он мог бы ответить на вопрос, с кем именно мадам Шевалье занимается теперь своим любимым делом.
С ним. С Алексеем Сергеевичем Улановым, дворянином и беглым преступником... Будем знакомы. И – аплодисменты, господа!!!
Ноябрь 1796 года
...Пройдя сквозь толпу пажей, сенных девушек, мамушек, лакеев и камердинеров, сидевших под дверями спальни, где кончалась императрица, Павел лицом к лицу столкнулся с Петром Талызиным. За это время молодой человек получил, как и ожидал, чин капитана Измайловского полка, несшего нынче охрану государевых покоев. При виде вновь прибывшего сухощавое, горбоносое, точеное лицо Талызина вдруг вспыхнуло мальчишеским восторгом, и он произнес прерывающимся голосом:
– Ваше императорское величество, от всего сердца приветствую ваше восшествие на российский престол! Многая вам лета!
Павел безотчетно приосанился. Его мать была еще жива, и наигранно-восторженное приветствие Талызина нельзя было счесть ничем иным, как проявлением самой грубой, низкопробной лести и заискиванием, однако в это мгновение Павел не ощутил ничего, кроме щенячьей радости. Талызин ему всегда нравился. Он был мистик, масон, он охотно вступил в любимый великим князем Мальтийский орден, к чему иных молодых офицеров приходилось понуждать чуть ли не силою, и Павел был истинно счастлив произнести сейчас:
– Жалую вас командором ордена, званием генерал-майора, орденом Святой Анны и моим особым благоволением!
Талызин даже покачнулся, словно не в силах был вынести тяжесть благодеяний, вдруг обрушившихся на его худощавые плечи, он даже слова благодарного не успел молвить, а великий князь уже проследовал мимо.
На неверных ногах Талызин двинулся за ним, не обратив внимания на некое шевеление в углу приемной. Там, забившись с ногами в кресло, сидел последний любимец Екатерины, красавец Платон Зубов, и, еле дыша от горя, взирал на свое счастье, лежащее теперь в обломках. В царившей вокруг суматохе никто не обращал на него внимания, все взоры окружающих были теперь прикованы к наследнику престола, и молодой князь, которому еще вчера стелил постель сам генерал Голенищев-Кутузов, теперь не мог добиться от последнего лакея, чтобы ему подали стакан воды!
Много чего говорили о нем завистники и недоброжелатели, однако князь Платон был довольно умен, чтобы понимать: Талызин – лишь первая ласточка в череде будущих льстецов и потворщиков, которые обрушатся с поздравлениями на гатчинского изгнанника, ранее бывшего мишенью для самых грубых насмешек при дворе, ибо доходившая до ненависти нелюбовь Екатерины к своему сыну ни для кого не была секретом. И вот теперь такое лакейство, такое лизоблюдство, и с чьей стороны?! Петра Талызина, который всегда казался князю Платону олицетворением одних лишь достоинств! Чего же ожидать от прочих? А ведь матушка-государыня еще жива!
...Она и в самом деле еще была жива, еще боролась со смертью за каждый свой вздох, однако пребывала в беспамятстве и не знала ничего о том, что творилось вокруг ее почти безжизненного тела. А может быть, и знала, ведь душа бессмертна, однако уже ничего не могла поделать.
Не могла утешить ненаглядного Платошу и горько рыдающую прислугу, не могла презрительно усмехнуться над поступком Талызина. Не могла одернуть сына, который и ранее не отличался переизбытком такта, вот и сейчас устроился в кабинете матери, прилегающем к спальне, так что всякий, желавший к нему обратиться, должен был протопать, промаршировать, прокрасться, пробежать мимо постели умирающей государыни. Какая профанация самодержавного величия!.. Екатерина не могла насмешливо покачать головой, глядя, как Павел соединил руки Александра и коменданта Гатчины, начальника сухопутных войск наследника Аракчеева (того самого, что иногда вырывал усы у провинившихся солдат): «Соединитесь и помогайте мне!» Александр совсем недавно, 24 сентября, дал письменное согласие на проект, лишавший престола его отца, и даже горячо благодарил любимую бабушку за оказанное ему предпочтение. А теперь... какая трогательная сыновняя любовь! Уморительно-трогательная! И если правда, что умирающие могут провидеть будущее, каламбур уморительно-трогательная мог бы показаться не чуждой словесных изысков Екатерине особенно удачным...
Но сейчас она не могла ни усмехаться, ни опечалиться при виде того, как Павел приказал Федору Барятинскому, сообщнику Алексея Орлова по делу в Ропше, немедля оставить дворец и тотчас заменил его как обер-гофмаршала – графом Николаем Шереметевым. Не могла и содрогнуться, когда Павел беспардонно затребовал от канцлера Безбородко тайные бумаги матери и принялся жадно читать проект указа, объявляющий его отречение от престола, и распоряжение о водворении его в замок Лоде. «Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня!» – могла бы подумать в эту минуту Екатерина, глядя, как обе эти бумаги сын сунул себе в карман, отправив туда же, не читая, и завещание матери, и тайное признание графа Алексея Орлова, снимающее с Екатерины всякую ответственность за смерть Петра III... Все это теперь принадлежало прошлому! Как и сама императрица Екатерина Великая.
В 9 часов 45 минут вечера (на дворе было 6 ноября 1796 года) лейб-медик Роджерсон поднял глаза на стоящего возле одра наследника и сухим своим английским голосом объявил, что все кончено, государыня преставилась.
Павел стукнул себя по лбу. Только теперь сообразил он, что означал виденный нынче ночью сон. Неведомая сила наконец-то вознесла его на трон! Он будет править!
Резко повернувшись на каблуках, Павел надел на голову огромную шляпу, которую доселе нервно комкал в руках, схватил лежащую на кресле свою длинную трость и, потрясая ею, закричал хриплым голосом:
– Я вам теперь государь! Попа сюда!
При звуке этого жуткого, почти нечеловеческого голоса ноги Платона Зубова подогнулись, и молодой князь рухнул на пол, сраженный не только горем, но и страшным прозрением. Он лучше других знал: Екатерина умерла, собираясь лишить сына престола. А если именно сыночек каким-то образом приложил руку к тому, чтобы ускорить ее кончину? Эти мысли отнимали дыхание, замедляли биение сердца. Но прежде чем окончательно лишиться сознания, Платон успел подумать, что в мире есть два человека, в которых отныне сосредоточена вся его ненависть: это вновь провозглашенный император... и вновь испеченный генерал Талызин!
* * *
Все переменилось менее чем в один день! Петербург, еще не пришедший в себя от потери той, которую страна единодушно называла матушкой, мгновенно принял вид немецкого города, существовавшего два или три века назад. Одним из первых распоряжений нового императора было разместить по улицам караульные будки, выкрашенные в прусские цвета, белый и черный, а при них расставить часовых. Это приказание исполняли великий князь Александр и Аракчеев. Дворец был превращен в кордегардию. Везде стук офицерских сапог, бряцанье шпор. Везде гатчинцы, вид костюмов которых вызывал смех, смешанный со слезами. Вышел императорский указ, запрещавший круглые шляпы, высокие сапоги, длинные панталоны, башмаки с завязками и предписывающий как установленную форму для всего мужского населения треуголку, зачесанные назад, напудренные и заплетенные в косу волосы, башмаки с пряжками, короткие панталоны, стоячий воротник... Еще ценный указ: на столе не более трех блюд. Никакого роскошества! Равенство, равенство... Вперемежку с этими узаконениями сыпались и менее безобидные: высылка из Петербурга бывшего фаворита и его братьев, заключение в Петропавловскую крепость любимого камердинера Екатерины Зотова (который, кстати, сошел в крепости с ума и умер), удаление из столицы всех, имеющих отношение к делу в Ропше, и вообще всех, кто не нравился новому императору, перезахоронение праха Петра Федоровича, помилование польского мятежника и смутьяна Тадеуша Косцюшко, к которому новый император сам, лично ездил в тюрьму извиняться... «Герой польского народа» почему-то не пожелал воротиться на страдающую родину, а отправился в Америку, снисходительно приняв от заискивающего русского императора специально заказанную дорожную карету, столовое белье, посуду, чудную соболью шубу и 60 тысяч рублей в возмещение морального ущерба. Императрица Мария Федоровна прибавила еще подарки от себя. Во время своей тяжкой неволи, во время сурового заточения в «русских казематах», герой-мученик полюбил вытачивать вазы и фигурки из слоновой кости и самшита. Императрица подарила ему великолепный токарный станок стоимостью в тысячу рублей, а также коллекцию камней, которую сама собирала много лет. От сердца оторвала... но чего не сделаешь ради восстановления справедливости по отношению к бедным, страдающим полякам! В ответ отец польской свободы преподнес представительнице народа-угнетателя табакерку, выточенную им собственноручно, и отбыл на жительство подальше от политической борьбы. С русским императором они расстались наилучшим образом!