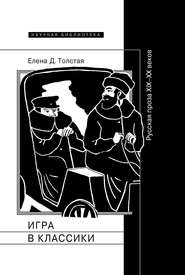По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сбор клюквы сикхами в Канаде
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Литература ведь воспитывает? Это как же именно она их-то воспитала? Взять, например, Чехова. Чехов воспринимался как смешной писатель. Лошадиная фамилия. И?вдруг… Боже, какой неподдельный, какой взрослый ужас ощутила Мика вместе с?Каштанкой в?ночь смерти ее коллеги-артиста, Иван Иваныча! Хотя этот Иван Иваныч был гусь, ну и?что с?того? Но самое кошмарное то, что Каштанка от веселого и?умного циркового мира во все лопатки удирает к?родным садистам. (Как сама Мика исправно каждую неделю ходит в?гости к?родственным детям, которые ее мучают, и?каждый раз с?радостью и?открытым сердцем.) А?Рагин сам оказывается сумасшедшим. А?Ионыч так и?не женится, а?только все толстеет да берет на лапу. И?так оно должно быть, иначе и?быть не может. Ужас.
То же самое у?Лермонтова. Что все ужасно и?хуже не бывает.
Казалось бы, противоядие – это Лев Толстой. Мальчики читают про войну, девочки про мир. Как все устроено? У?Наташи все, у?Марьи ничего. Анатоль, яркое пятно, не для нее. Но у?Льва Толстого дело не безнадежно. И?Марья, настрадавшись с?папашей, зато духовно растет и?волшебным образом получает шанс захомутать Николая, который по всем параметрам ничуть не хуже Анатоля. Тоже красавец, и?добрый, и?веселый, и?такой же раздолбай (ведь в?эпилоге есть намек, что и?у?Марьи с?Николаем тоже не так все прекрасно…).
Наташа, себя погубившая и?кругом виноватая… Зато она, опять-таки, духовно растет, спасает раненых и?за это волшебным образом получает обратно своего Андрея. Пьер страдает в?плену, но волшебным образом зато духовно вырастает и?получает в?конце концов Наташу.
А?вот романная Соня совершает подвиги любви, верности и?терпения всю дорогу и?за это получает шиш с?маслом. Она, видите ли, пустоцвет! Чему же нас учит писатель? Что это потому, что она духовно не росла? А?зачем ей было расти, если она и?раньше была хорошая?
Опять же и?с?войной не так просто. Как надо воевать? Как Кутузов? Ничего не делая? Или как Андрей? Кончая посреди боя с?собой? Или как Пьер? Ничего не понимая и?путаясь под ногами? А?если воевать хорошо, как Тушин, то тебя забудут на хрен с?твоей батареей. А?если ты поймаешь офицера, как Николай, то тебя век будет совесть мучить. А?если махать знаменем, – мол, за мной! – то потом небо тебе скажет: «Все фигня». Спрашивается, зачем тогда все время там говорится, что на войне весело? Один Долохов воюет как следует, но он-то как раз отрицательный.
Кто же воспитывал?
Скажете, Пушкин? Да ведь после всей накопившейся советской литературы теперь уже нельзя было привязаться душевно к?страшному Пугачеву, с?тем чтоб тот взаимно полюбил и?в?свою очередь помог, – не поможет ни за что, ему партия прикажет. Ты ему тулупчик, он тебе десять лет без права переписки. Пушкин воспитывал известно чем: «Медным всадником», стройной красотой. Лермонтов – ангельскими стихами. Гоголь – тем, что иначе не скажешь, впечатывался навек.
Погодите, а?как же нравственные ценности? Как случилось, что дети выросли более-менее нормальными? И?советская мерзость была им мерзка? Кто там под шумок их очеловечил? Несмотря на школу? На пионерскую организацию? На Союз советских писателей?
Приходится думать, что это были Пегготти, и?бабушка Бетси Тротвуд, и?судья Тэтчер, и?вдова Дуглас. Перевод Чуковского-сына, но под ред., конечно, отца. Нет, подумать только. На Диккенсе, да на Гюго, да на Дюма, да на Марк Твене выросло третье поколение, которое знало только девятнадцатый век, но каким-то чудом получило иммунитет от двадцатого.
Потому так ужасно оскорбляли книжки, идеологически выверенные, то есть написанные нарочно криво, с?каким-то гадостным отношением к?одним, с?лебезящими приседаниями перед другими, с?жульническим передергиваньем фактов, а?главное, с?завитушками. Из-за них Мика возненавидела постпозицию прилагательного! Она, постпозиция, хороша была только в «Тарасе Бульбе»! А?с?тех пор – нет, голубушка! Устарела!
Хуже всех, кривее всех был Горький, но почему-то так же писали еще сто советских писателей, и?даже когда все это проходили в?школе, читать это все равно было невозможно.
А?полюбились зато русские книги, написанные просто и?умно, легко и?энергично, – Житков! Это часто были книжки научно-популярные. Перельман про физику, Ильин и?Сегал про историю вещей, Б. Казанский про древние языки. За ними просматривалась некая желанная, недостижимая нормальность. Никак эти авторы и?были для Мики живыми источниками высшего разума, к?которым она так тянулась?
Крепостной театр
Питер как-то держался вокруг своих театров, чего о?Москве не скажешь. И?при театрах, и?при музыке служило много люду. Народ этот, даже если казался простым, был очень специальный. Ведь он потомственно жил при театрах уже две сотни лет. Как будто бы все в?Питере, кого Мика знала, были из таких. Ее папа и?мама, и?все подруги мамины жили Мариинским, даже новая папина теща при малейшей возможности убегала в?оперу: «Сегодня же “Пиковая дама”!» Театр всегда театр. В?городе, может, все население поменялось, а?театр полон. Ложи блещут!
Может, отсюда эта питерская любовь к?бутафории. Любимой народной забавой в?Ленинграде были макеты: между рам, замазанных на зиму, клали вату, а?на нее высаживали игрушечные елочки, гномиков и?зверюшек, маленькие домики, вокруг них целые сцены. В?Москве таких не видно. Наверно, это потому, что Питер вообще-то город немецкий, всосавший немецкий уют. С?молоком матери-чухонки.
И?потом, конечно, всеобщая страсть к?Иллюминации! Двести пятьдесят лет здесь устраивали иллюминацию – и?будьте добры. Ходили смотреть загодя, какие корабли вошли в?Неву. С?таким же волнением ходили смотреть салют.
Вся жизнь крутилась вокруг театра. Микина мама служила в?Мариинском, поэтому их брали иногда в?балет. В?антракте Мику, крошечную, взяли за кулисы, и?она была очарована нечеловечески сияющей улыбкой Феи Сирени, а?главное – ее великанскими, прекрасными ногами, которые только что летали по сцене. Мике с?ее от горшка двух вершков их было ближе и?лучше видно. Фея сидела, так их изумительно сложив, что Мика оторваться не могла – все глядела. А?тюлевые пачки! А?огромные тупые атласные туфли! Мика бредила «Спящей» целый год. Но с?танцем у?нее ничего не вышло – она вдруг пошла в?рост и?стала дылдой.
Даже их нянька ходила в?театр Комедии на комика Беньяминова: обожала. У?нее была приятельница билетерша. Обе в?беретиках, платья из ткани «торшон». А?гениальная учительница немецкого (шубейка из фальшивого волка), к?которой они два года ходили в?группу, на преподаванье плюнула, потому что ее все время гоняла и?стращала милиция. А?она: а) не хотела платить разорительный налог на частное преподавание, б) была лишенка – мужа ее куда-то девали, и?сама она не имела права жить в?Ленинграде, и?в) ко всему этому была еще и?еврейка, ужас какой! В?общем, она поступила в?театральную кассу распределять билеты по организациям. Вот так! А?лучше нее Мика за всю свою последующую жизнь педагога не встречала. Бабушка же (чернобурка, глазки оранжевые стеклянные, лапки болтаются) везла их в?ТЮЗ на «Два клена» Шварца и «Волшебные кольца Альманзора» Габбе. А?другой-бабушкин (маминой мамы) Соломон Шапиро вообще был администратором выездных эстрадных концертов. Коричневый рябой пиджак в?клетку «птичья лапа».
Отсюда и?маскарады – платья вертели из креповой бумаги. Особенно волновали допотопные маскарадные костюмы, Снегурочка из какого-то пожелтевшего рыбьего меха в?бертолетовой обсыпке. В?довоенной шапочке. В?знак того, что театры, Снегурочка, Фея Сирени были тут всегда и?всегда будут.
На Новый год Мика братику склеила картонные латы (клапаны придали им объем), а?поножи позолотила. Даже мама ее зауважала за эти латы, и?они с?ней даже слегка подружились за этим делом. Мама покупала куски парчи и?шила себе концертные платья, а?Мике сшила наряд «Царевна Лебедь» из старой занавески. Кокошник Мика сделала сама из дутого жемчуга, нашив на картон. Вдруг в?доме появился палантин из страусовых перьев, немного пожелтевший – мама его покрасила голубой краской в?бирюзовый и?очень полюбила. А?все старое темное они красили в?черный. Так у?Мики возникло замечательное черное суконное платье для театра, бывшее мамино синее (она уже была ростом с?маму! Это в?одиннадцать лет!) Вдруг мама увлеклась кружевами и?накупила ветхих валансьенских воротничков, на которые и?дохнуть было страшно, – так она их отбелила, и?ничего.
А?Мика все делала макеты. Домики с?настоящей мебелью (погубила суперобложку от собрания сочинений Гоголя), кусты из мха, деревья из веточек, бархатную травку, – и?наверно, по ночам в?этих декорациях разыгрывали пьесы Тамары Габбе какие-нибудь мелкие детгизовские феи с?человечками из Бориса Житкова. Наверняка их не смущала четвертая стена. Во всех театрах играли так, что не смутила бы и?пятая.
Макеты принесли ей легендарную популярность среди коллег брата – третьеклассников. Мика фигурировала в?легенде под кодовым наименованием «Колькина сеструха». Однако в?своем отечестве, в?пятом классе, пророка не оказалось, если не считать лентяя и?гада Казовского, который попросил ему помочь с?макетом, а?когда Мика радостно откликнулась – готовую работу забрал, а?ее побил и?портфель закинул на шкаф.
Мика спросила однажды хулигана, что значит непонятное слово. Лиза Калитина ужаснулась, он побагровел, объяснять не стал, а?научил песенке: «В?неапольском порту, с?пробоиной в?борту», – и?велел всегда отвечать так: «Верьте совести». И?с?тех пор он Мику больше не бил – другие, правда, били.
Реставрация
Мика вырезала какие-то китайские прорезные узоры, копировала все рисунки откуда только можно – от репродукций из «Леонардо» Матвея Гуковского до обложек с?незабудками Лидии Чарской.
Но папа принес Мике из букинистического магазина «Мир искусства» – все номера за 1904 год в?толстенном кожаном переплете. Мика выучила его наизусть. Теперь надо было быть, как солнце, любить Чехова за грусть, а «Медный всадник» с?картинками Бенуа, как написанный прямо сейчас и?специально для нее, наконец влез в?башку навсегда.
Тут-то ей и?попались воспоминания Остроумовой-Лебедевой: картинки ее как будто проросли в?Мике и?определили ее жизнь. Отныне девизом стало благоговение. Оно перехватывало горло. С?ним надо было что-то делать.
На реставрацию была положена жизнь. Наверняка именно Микина тяга к?реставрации овладела, как у?Маркса, массами и?стала материальной силой. Весь воздух проникнут был этой тягой. Новых книжек пока что было мало – но одна из первых посвящена была реставрации Павловска. Весь город принимал душевное участие в?восстановлении своих дворцов.
Постепенно проклевывалась мемуарная эпоха, начались Гиляровский, письма Чехова и?воспоминания о?нем уже в?1952-м, а?там второе пришествие Клима Самгина и «Хождения по мукам». Топтались на подступах к?Серебряному веку, потом прорвались «Тарусские страницы» и «Прибой», пошел потоп мемуаров вокруг да около – ностальгия по чеховской эпохе До и?по комиссарам в?каких-то немытых шлемах После. Реставрацией дышало все вплоть до детских передач: помните Клуб знаменитых капитанов? Имя Гумилев не произносилось, но было у?всех на уме. Журнал «Костер» – детский, ленинградский – весь пропитан был неупоминаемым Гумилевым.
Наконец шлюзы открываются: выходят Ахматова и?Цветаева. Потом приносят «Доктора Живаго» карманного формата на рисовой бумаге. (Это издание заграничное, контрабандное – с?идиотским обозначением: «Земля и?фабрика».) Еще немного – и?появятся стихи Мандельштама в?самиздате.
И?вот, ностальгия идет уже в?разрешенном ключе: поднимается волна революционных фильмов, которые смотрят за костюмы и?интерьеры. В?шестидесятые ностальгия наступает по всему фронту, не различая право от лево, бога от черта, авангарда от арьергарда. В?особенности любят вещи: камера в?фильме «Дворянское гнездо» полминуты не сползает с?куска рокфора – пускает слюни.
Доходило до полного лакейства. Как та тетка, что охала от интерьеров фильма «Война и?мир»: «Убирать бы здесь!» Ностальгию теперь обслуживали целые полки – куда там, дивизии! – реставраторов: икон, украшений, картин, мебели, усадеб и?церквей. Везде специалисты по стилям и?эпохам. Экскурсоведы и?искусствоводы. Все это уже давно определилось по департаменту коммерции либо укатилось в?бульварщину. Конец прекрасной эпохи.
Но это, слава Богу, было уже без Мики.
Как пишется слово «хлеб»
Теперь уже Мика почти большая и?сама ходит к?тете Нюте. Тетя Нюта по-прежнему худая, с?папироской. У?нее как всегда – спартанская обстановка, несоветского только альбомы с?фотографиями и?дивные старинные чашки – от матери. Угощение – вкуснейший самодельный творог и?свежайший душистый хлеб. «Выпечка по методу дворян-лишенцев», – хвастается Нюта. Над кастрюлей с?кипятком на дне подвешивается дуршлаг, в?него кладется черствый хлеб, завернутый в?салфетку, и?получается чудо, объеденье.
И?вот Мика слушает, чем кончилась Нютина история.
Они радовались за Стиву, но жили в?Ялте в?ужасном страхе: каждую минуту могли прийти за мамой. Она была теперь жена белоэмигранта. И?мало того – так ничего и?не понимала, что творится. Дети зато понимали очень хорошо – им-то все время напоминали, что они классовые враги.
Первые годы они переписывались – находили пути. Когда стало ясно, что разлука их надолго, может быть, навсегда, Нютина мама сама стала подталкивать Стиву, чтобы он женился. Прошло время, и?явился человек оттуда. Он сказал, что Стива просит у?жены разрешения на женитьбу. Сам он боится писать, это может им навредить.
Вот какие были нравы. Мать как женщина разумная передала благословение. Больше она ничего о?Стиве не слыхала. А?Нюта слышала уже потом, что Стива умер, что у?него было двое детей и?что старший Паша выучился на дипломата. А?младшая девочка Вера жила в?Париже.
Были они в?Ялте очень бедны:
«А?мы не знали, как пишется слово “хлеб”!»
Понятно, раньше-то писалось через ять. А?нынче хлеба они и?в?глаза не видели.
Нюта работала санитаркой. В?мединститут ее не брали из-за дворянского происхождения. Ей удалось только попасть в?медицинский техникум и?выучиться на медсестру. Работала она в?Ялте, в?детском костнотуберкулезном санатории. Оттуда ее постоянно пытались вычистить.
Но из России она не хотела никуда. В?тридцатых вернулась под Ленинград, а?в?первые же дни войны ее мобилизовали на работу в?госпитале. Еще бы, с?госпитальным опытом с?1914 года! И?дали комнату, вот эту.
Теперь она преподает в?Первом медицинском, хоть и?не врач, но она столько знает про устройство полевого госпиталя, что ее слушать приходят врачи.
А?еще она хочет найти свою парижскую сестру.
2
ВСЕ ДРУГОЕ
Дарил он ей серебряно колечико
То же самое у?Лермонтова. Что все ужасно и?хуже не бывает.
Казалось бы, противоядие – это Лев Толстой. Мальчики читают про войну, девочки про мир. Как все устроено? У?Наташи все, у?Марьи ничего. Анатоль, яркое пятно, не для нее. Но у?Льва Толстого дело не безнадежно. И?Марья, настрадавшись с?папашей, зато духовно растет и?волшебным образом получает шанс захомутать Николая, который по всем параметрам ничуть не хуже Анатоля. Тоже красавец, и?добрый, и?веселый, и?такой же раздолбай (ведь в?эпилоге есть намек, что и?у?Марьи с?Николаем тоже не так все прекрасно…).
Наташа, себя погубившая и?кругом виноватая… Зато она, опять-таки, духовно растет, спасает раненых и?за это волшебным образом получает обратно своего Андрея. Пьер страдает в?плену, но волшебным образом зато духовно вырастает и?получает в?конце концов Наташу.
А?вот романная Соня совершает подвиги любви, верности и?терпения всю дорогу и?за это получает шиш с?маслом. Она, видите ли, пустоцвет! Чему же нас учит писатель? Что это потому, что она духовно не росла? А?зачем ей было расти, если она и?раньше была хорошая?
Опять же и?с?войной не так просто. Как надо воевать? Как Кутузов? Ничего не делая? Или как Андрей? Кончая посреди боя с?собой? Или как Пьер? Ничего не понимая и?путаясь под ногами? А?если воевать хорошо, как Тушин, то тебя забудут на хрен с?твоей батареей. А?если ты поймаешь офицера, как Николай, то тебя век будет совесть мучить. А?если махать знаменем, – мол, за мной! – то потом небо тебе скажет: «Все фигня». Спрашивается, зачем тогда все время там говорится, что на войне весело? Один Долохов воюет как следует, но он-то как раз отрицательный.
Кто же воспитывал?
Скажете, Пушкин? Да ведь после всей накопившейся советской литературы теперь уже нельзя было привязаться душевно к?страшному Пугачеву, с?тем чтоб тот взаимно полюбил и?в?свою очередь помог, – не поможет ни за что, ему партия прикажет. Ты ему тулупчик, он тебе десять лет без права переписки. Пушкин воспитывал известно чем: «Медным всадником», стройной красотой. Лермонтов – ангельскими стихами. Гоголь – тем, что иначе не скажешь, впечатывался навек.
Погодите, а?как же нравственные ценности? Как случилось, что дети выросли более-менее нормальными? И?советская мерзость была им мерзка? Кто там под шумок их очеловечил? Несмотря на школу? На пионерскую организацию? На Союз советских писателей?
Приходится думать, что это были Пегготти, и?бабушка Бетси Тротвуд, и?судья Тэтчер, и?вдова Дуглас. Перевод Чуковского-сына, но под ред., конечно, отца. Нет, подумать только. На Диккенсе, да на Гюго, да на Дюма, да на Марк Твене выросло третье поколение, которое знало только девятнадцатый век, но каким-то чудом получило иммунитет от двадцатого.
Потому так ужасно оскорбляли книжки, идеологически выверенные, то есть написанные нарочно криво, с?каким-то гадостным отношением к?одним, с?лебезящими приседаниями перед другими, с?жульническим передергиваньем фактов, а?главное, с?завитушками. Из-за них Мика возненавидела постпозицию прилагательного! Она, постпозиция, хороша была только в «Тарасе Бульбе»! А?с?тех пор – нет, голубушка! Устарела!
Хуже всех, кривее всех был Горький, но почему-то так же писали еще сто советских писателей, и?даже когда все это проходили в?школе, читать это все равно было невозможно.
А?полюбились зато русские книги, написанные просто и?умно, легко и?энергично, – Житков! Это часто были книжки научно-популярные. Перельман про физику, Ильин и?Сегал про историю вещей, Б. Казанский про древние языки. За ними просматривалась некая желанная, недостижимая нормальность. Никак эти авторы и?были для Мики живыми источниками высшего разума, к?которым она так тянулась?
Крепостной театр
Питер как-то держался вокруг своих театров, чего о?Москве не скажешь. И?при театрах, и?при музыке служило много люду. Народ этот, даже если казался простым, был очень специальный. Ведь он потомственно жил при театрах уже две сотни лет. Как будто бы все в?Питере, кого Мика знала, были из таких. Ее папа и?мама, и?все подруги мамины жили Мариинским, даже новая папина теща при малейшей возможности убегала в?оперу: «Сегодня же “Пиковая дама”!» Театр всегда театр. В?городе, может, все население поменялось, а?театр полон. Ложи блещут!
Может, отсюда эта питерская любовь к?бутафории. Любимой народной забавой в?Ленинграде были макеты: между рам, замазанных на зиму, клали вату, а?на нее высаживали игрушечные елочки, гномиков и?зверюшек, маленькие домики, вокруг них целые сцены. В?Москве таких не видно. Наверно, это потому, что Питер вообще-то город немецкий, всосавший немецкий уют. С?молоком матери-чухонки.
И?потом, конечно, всеобщая страсть к?Иллюминации! Двести пятьдесят лет здесь устраивали иллюминацию – и?будьте добры. Ходили смотреть загодя, какие корабли вошли в?Неву. С?таким же волнением ходили смотреть салют.
Вся жизнь крутилась вокруг театра. Микина мама служила в?Мариинском, поэтому их брали иногда в?балет. В?антракте Мику, крошечную, взяли за кулисы, и?она была очарована нечеловечески сияющей улыбкой Феи Сирени, а?главное – ее великанскими, прекрасными ногами, которые только что летали по сцене. Мике с?ее от горшка двух вершков их было ближе и?лучше видно. Фея сидела, так их изумительно сложив, что Мика оторваться не могла – все глядела. А?тюлевые пачки! А?огромные тупые атласные туфли! Мика бредила «Спящей» целый год. Но с?танцем у?нее ничего не вышло – она вдруг пошла в?рост и?стала дылдой.
Даже их нянька ходила в?театр Комедии на комика Беньяминова: обожала. У?нее была приятельница билетерша. Обе в?беретиках, платья из ткани «торшон». А?гениальная учительница немецкого (шубейка из фальшивого волка), к?которой они два года ходили в?группу, на преподаванье плюнула, потому что ее все время гоняла и?стращала милиция. А?она: а) не хотела платить разорительный налог на частное преподавание, б) была лишенка – мужа ее куда-то девали, и?сама она не имела права жить в?Ленинграде, и?в) ко всему этому была еще и?еврейка, ужас какой! В?общем, она поступила в?театральную кассу распределять билеты по организациям. Вот так! А?лучше нее Мика за всю свою последующую жизнь педагога не встречала. Бабушка же (чернобурка, глазки оранжевые стеклянные, лапки болтаются) везла их в?ТЮЗ на «Два клена» Шварца и «Волшебные кольца Альманзора» Габбе. А?другой-бабушкин (маминой мамы) Соломон Шапиро вообще был администратором выездных эстрадных концертов. Коричневый рябой пиджак в?клетку «птичья лапа».
Отсюда и?маскарады – платья вертели из креповой бумаги. Особенно волновали допотопные маскарадные костюмы, Снегурочка из какого-то пожелтевшего рыбьего меха в?бертолетовой обсыпке. В?довоенной шапочке. В?знак того, что театры, Снегурочка, Фея Сирени были тут всегда и?всегда будут.
На Новый год Мика братику склеила картонные латы (клапаны придали им объем), а?поножи позолотила. Даже мама ее зауважала за эти латы, и?они с?ней даже слегка подружились за этим делом. Мама покупала куски парчи и?шила себе концертные платья, а?Мике сшила наряд «Царевна Лебедь» из старой занавески. Кокошник Мика сделала сама из дутого жемчуга, нашив на картон. Вдруг в?доме появился палантин из страусовых перьев, немного пожелтевший – мама его покрасила голубой краской в?бирюзовый и?очень полюбила. А?все старое темное они красили в?черный. Так у?Мики возникло замечательное черное суконное платье для театра, бывшее мамино синее (она уже была ростом с?маму! Это в?одиннадцать лет!) Вдруг мама увлеклась кружевами и?накупила ветхих валансьенских воротничков, на которые и?дохнуть было страшно, – так она их отбелила, и?ничего.
А?Мика все делала макеты. Домики с?настоящей мебелью (погубила суперобложку от собрания сочинений Гоголя), кусты из мха, деревья из веточек, бархатную травку, – и?наверно, по ночам в?этих декорациях разыгрывали пьесы Тамары Габбе какие-нибудь мелкие детгизовские феи с?человечками из Бориса Житкова. Наверняка их не смущала четвертая стена. Во всех театрах играли так, что не смутила бы и?пятая.
Макеты принесли ей легендарную популярность среди коллег брата – третьеклассников. Мика фигурировала в?легенде под кодовым наименованием «Колькина сеструха». Однако в?своем отечестве, в?пятом классе, пророка не оказалось, если не считать лентяя и?гада Казовского, который попросил ему помочь с?макетом, а?когда Мика радостно откликнулась – готовую работу забрал, а?ее побил и?портфель закинул на шкаф.
Мика спросила однажды хулигана, что значит непонятное слово. Лиза Калитина ужаснулась, он побагровел, объяснять не стал, а?научил песенке: «В?неапольском порту, с?пробоиной в?борту», – и?велел всегда отвечать так: «Верьте совести». И?с?тех пор он Мику больше не бил – другие, правда, били.
Реставрация
Мика вырезала какие-то китайские прорезные узоры, копировала все рисунки откуда только можно – от репродукций из «Леонардо» Матвея Гуковского до обложек с?незабудками Лидии Чарской.
Но папа принес Мике из букинистического магазина «Мир искусства» – все номера за 1904 год в?толстенном кожаном переплете. Мика выучила его наизусть. Теперь надо было быть, как солнце, любить Чехова за грусть, а «Медный всадник» с?картинками Бенуа, как написанный прямо сейчас и?специально для нее, наконец влез в?башку навсегда.
Тут-то ей и?попались воспоминания Остроумовой-Лебедевой: картинки ее как будто проросли в?Мике и?определили ее жизнь. Отныне девизом стало благоговение. Оно перехватывало горло. С?ним надо было что-то делать.
На реставрацию была положена жизнь. Наверняка именно Микина тяга к?реставрации овладела, как у?Маркса, массами и?стала материальной силой. Весь воздух проникнут был этой тягой. Новых книжек пока что было мало – но одна из первых посвящена была реставрации Павловска. Весь город принимал душевное участие в?восстановлении своих дворцов.
Постепенно проклевывалась мемуарная эпоха, начались Гиляровский, письма Чехова и?воспоминания о?нем уже в?1952-м, а?там второе пришествие Клима Самгина и «Хождения по мукам». Топтались на подступах к?Серебряному веку, потом прорвались «Тарусские страницы» и «Прибой», пошел потоп мемуаров вокруг да около – ностальгия по чеховской эпохе До и?по комиссарам в?каких-то немытых шлемах После. Реставрацией дышало все вплоть до детских передач: помните Клуб знаменитых капитанов? Имя Гумилев не произносилось, но было у?всех на уме. Журнал «Костер» – детский, ленинградский – весь пропитан был неупоминаемым Гумилевым.
Наконец шлюзы открываются: выходят Ахматова и?Цветаева. Потом приносят «Доктора Живаго» карманного формата на рисовой бумаге. (Это издание заграничное, контрабандное – с?идиотским обозначением: «Земля и?фабрика».) Еще немного – и?появятся стихи Мандельштама в?самиздате.
И?вот, ностальгия идет уже в?разрешенном ключе: поднимается волна революционных фильмов, которые смотрят за костюмы и?интерьеры. В?шестидесятые ностальгия наступает по всему фронту, не различая право от лево, бога от черта, авангарда от арьергарда. В?особенности любят вещи: камера в?фильме «Дворянское гнездо» полминуты не сползает с?куска рокфора – пускает слюни.
Доходило до полного лакейства. Как та тетка, что охала от интерьеров фильма «Война и?мир»: «Убирать бы здесь!» Ностальгию теперь обслуживали целые полки – куда там, дивизии! – реставраторов: икон, украшений, картин, мебели, усадеб и?церквей. Везде специалисты по стилям и?эпохам. Экскурсоведы и?искусствоводы. Все это уже давно определилось по департаменту коммерции либо укатилось в?бульварщину. Конец прекрасной эпохи.
Но это, слава Богу, было уже без Мики.
Как пишется слово «хлеб»
Теперь уже Мика почти большая и?сама ходит к?тете Нюте. Тетя Нюта по-прежнему худая, с?папироской. У?нее как всегда – спартанская обстановка, несоветского только альбомы с?фотографиями и?дивные старинные чашки – от матери. Угощение – вкуснейший самодельный творог и?свежайший душистый хлеб. «Выпечка по методу дворян-лишенцев», – хвастается Нюта. Над кастрюлей с?кипятком на дне подвешивается дуршлаг, в?него кладется черствый хлеб, завернутый в?салфетку, и?получается чудо, объеденье.
И?вот Мика слушает, чем кончилась Нютина история.
Они радовались за Стиву, но жили в?Ялте в?ужасном страхе: каждую минуту могли прийти за мамой. Она была теперь жена белоэмигранта. И?мало того – так ничего и?не понимала, что творится. Дети зато понимали очень хорошо – им-то все время напоминали, что они классовые враги.
Первые годы они переписывались – находили пути. Когда стало ясно, что разлука их надолго, может быть, навсегда, Нютина мама сама стала подталкивать Стиву, чтобы он женился. Прошло время, и?явился человек оттуда. Он сказал, что Стива просит у?жены разрешения на женитьбу. Сам он боится писать, это может им навредить.
Вот какие были нравы. Мать как женщина разумная передала благословение. Больше она ничего о?Стиве не слыхала. А?Нюта слышала уже потом, что Стива умер, что у?него было двое детей и?что старший Паша выучился на дипломата. А?младшая девочка Вера жила в?Париже.
Были они в?Ялте очень бедны:
«А?мы не знали, как пишется слово “хлеб”!»
Понятно, раньше-то писалось через ять. А?нынче хлеба они и?в?глаза не видели.
Нюта работала санитаркой. В?мединститут ее не брали из-за дворянского происхождения. Ей удалось только попасть в?медицинский техникум и?выучиться на медсестру. Работала она в?Ялте, в?детском костнотуберкулезном санатории. Оттуда ее постоянно пытались вычистить.
Но из России она не хотела никуда. В?тридцатых вернулась под Ленинград, а?в?первые же дни войны ее мобилизовали на работу в?госпитале. Еще бы, с?госпитальным опытом с?1914 года! И?дали комнату, вот эту.
Теперь она преподает в?Первом медицинском, хоть и?не врач, но она столько знает про устройство полевого госпиталя, что ее слушать приходят врачи.
А?еще она хочет найти свою парижскую сестру.
2
ВСЕ ДРУГОЕ
Дарил он ей серебряно колечико