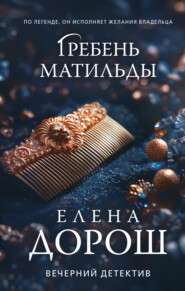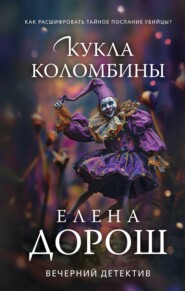По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Французское наследство
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Танец такой, – ничуть не удивившись, объяснила девчонка. – Сейчас все от него тащатся.
Савва кивнул. Это точно. Тащатся. И он, кажется, в их числе.
Между тем Дину и ее партнера на танцполе сменила другая пара. Смеющаяся дочь теперь стояла в толпе, обсуждая что-то с крупной высокой девушкой.
«И ведь не запыхалась даже», – отметил Бехтерев и удивился, что он, оказывается, совершенно не знает своего ребенка.
От слова «вообще».
Прячась за все прибывающей публикой, Савва быстренько выбрался из зала и двинулся к выходу. Хорошо, что дочь его не видела, а то решит, что предок явился крутить ей руки и тащить в ментовку.
Правильно сделала, что сбежала! От таких папаш, как он, надо делать ноги при первой возможности.
Завтра же заберет из гимназии документы и отдаст Дине.
Каждый должен быть со своей стаей. Ему ли этого не знать…
Нырнув с головой в семейные заморочки, Савва на несколько недель выпал из жизни, но однажды вдруг осознал, что где-то в самой глубине души все это время ждал звонка от девицы Шум.
Она не позвонила.
Ну так и отлично! Окончен бал, завяли помидоры!
Однако, прислушавшись к себе, Савва понял, что все же нет, не завяли. Ну а раз так, то первый шаг навстречу должен сделать именно он. Будет уместным позвонить Яне на сороковой день. Просто узнать, в порядке ли она. Разговор на неприятные темы заводить необязательно. Выразить человеческое сочувствие, и ничего более.
Пока он собирался с духом, снова накатили неотложные дела, и сороковой день Савва благополучно пропустил.
Ну и о чем тогда говорить?
Он приказал себе высморкаться в платочек и заняться насущными проблемами.
А глупости засунуть в… самую глубину мозга.
Впрочем, время от времени Савва вспоминал серо-зеленые, изменчивые, как невская вода, глаза и задумывался, почему девица Шум не выходит у него из головы. Вернее, она-то выходит, вот только он не отпускает.
С чего бы это?
Впрочем, любовь – штука экзистенциальная, логике не поддающаяся, а потому торопиться с выводами не стоило.
Взять хотя бы Кривошеева. Его друг, выросший в местах, которые в народе принято называть «не столь отдаленными», в семье поселенца-«химика», и с детства окруженный теми, кто «откинулся с крытой», всех женщин называл одинаково – «дырками». Относился тоже соответственно.
Но однажды в поселке появилась девушка Лиза, переехавшая жить к папаше, старому ворюге. Родителя она не то чтобы сильно любила, но жалела. Мать с отцом давно развелась, жила неплохо, к тому же на берегу теплого моря, да и с Лизой они ладили. Но когда узнала, что бывший муж непутевый один загибается, отговаривать дочь не стала. Надо, значит, надо.
И тут Кривошеева настигла заслуженная кара за циничное отношение к женщинам.
Увидев Лизу, назвать ее «дыркой» он не смог. Зато выпучил глаза и проглотил язык. Так без языка и ходил до того дня, когда пришлось уезжать в армию.
Уже на вокзале увидел ее с подругой и рванулся в последнем отчаянном порыве.
– Люблю тебя. Дождись, – сумел выдавить он, глядя на девушку больными глазами.
Лиза ничего не ответила. Кивнула, и все.
С тех пор прошло пятнадцать лет, и все эти годы Серега носился со своей женой, как с хрустальной вазой. Видевшие их вместе изумлялись. Красавец мужик – косая сажень и все такое – и худенькая маленькая женщина. С виду никакая.
Однажды Серега признался Савве:
– Веришь ли, смотрю на нее и аж зажмуриться хочется. Такая красивая, слепит прямо!
Вот ведь как бывает!
Так, может, и с ним такая петрушка вышла?
Савва испугался даже, но, поковырявшись в своих чувствах, удостоверился, что до этого все же не дошло. Наверное, просто жаль девчонку. Увидеть родную бабушку с проломленной головой – зрелище не для слабонервных. Но ничего, она справилась, хоть и кажется хрупкой.
Кроме того, почти наверняка он девице Шум не нужен. Она и забыла о его существовании.
Иначе позвонила бы. Ну, просто узнать, как у него дела, к примеру.
Так вот ты какой, Прованс!
А девица Шум тем временем собиралась в дорогу и не думала о Савве Бехтереве. Вернее – чего уж там, – старалась не думать. Хорошо старалась.
Ей казалось, что получается.
Весь полет от Москвы до Марселя – с пересадкой в Стамбуле – она улыбалась. Немного неприлично, ведь повод для поездки скорбный, к тому же нет уверенности, что бабушка Таняша будет ей рада, но ничего поделать с собой она не могла.
Шутка ли – увидеть Прованс!
Интересно, в начале декабря там в туфлях ходят или все-таки в сапогах?
Оценить прелесть прованской погоды сразу по прибытии Яна не успела. На выходе после паспортного контроля ее уже ждал парень с табличкой, на которой по-русски было написано ее имя. Подхватив чемодан, встречающий, не говоря ни слова, на крейсерской скорости куда-то понесся, на подземной стоянке сунул вещи в багажник, буквально запихнул Яну в машину, сам пристегнул и, вскочив на водительское сиденье, как в седло скакуна, резво рванул вперед.
Увидеть Прованс в окно автомобиля тоже не удалось. Прилетела она в семь вечера, когда – как всегда на юге – было уже темно, хоть глаз выколи. На место прибыли в полной черноте.
Перед калиткой, освещенной фонарем, водитель, за всю дорогу не произнесший ни слова, выскочил, нажал на кнопку звонка и стал доставать вещи. Вместе с ее довольно тощим чемоданом он выгрузил какие-то коробки, два ящика с рассадой – да они тут в декабре цветы сажают! – и новенький велосипед. Почему-то Яна решила, что это для нее, и немного вдохновилась.
А то что-то страшновато стало.
Впрочем, окончательно оробеть она не успела – из калитки вдруг выскочила худенькая женщина и повисла у вылезшей из автомобиля Яны на шее.
– Януся, дорогая моя девочка! – по-русски завопила она и громко чмокнула ее три раза.
Это была бабушка Таняша собственной персоной.
Яна улыбнулась и чихнула, чисто от волнения. Таняша сразу потащила ее в дом, и вспотевшая от переживаний путешественница даже не поняла, какая в атмосфере нынче температура.
Зато утром, проснувшись в маленькой комнате на кровати под балдахином, Яна посмотрела в окно и не поверила своим глазам.
Савва кивнул. Это точно. Тащатся. И он, кажется, в их числе.
Между тем Дину и ее партнера на танцполе сменила другая пара. Смеющаяся дочь теперь стояла в толпе, обсуждая что-то с крупной высокой девушкой.
«И ведь не запыхалась даже», – отметил Бехтерев и удивился, что он, оказывается, совершенно не знает своего ребенка.
От слова «вообще».
Прячась за все прибывающей публикой, Савва быстренько выбрался из зала и двинулся к выходу. Хорошо, что дочь его не видела, а то решит, что предок явился крутить ей руки и тащить в ментовку.
Правильно сделала, что сбежала! От таких папаш, как он, надо делать ноги при первой возможности.
Завтра же заберет из гимназии документы и отдаст Дине.
Каждый должен быть со своей стаей. Ему ли этого не знать…
Нырнув с головой в семейные заморочки, Савва на несколько недель выпал из жизни, но однажды вдруг осознал, что где-то в самой глубине души все это время ждал звонка от девицы Шум.
Она не позвонила.
Ну так и отлично! Окончен бал, завяли помидоры!
Однако, прислушавшись к себе, Савва понял, что все же нет, не завяли. Ну а раз так, то первый шаг навстречу должен сделать именно он. Будет уместным позвонить Яне на сороковой день. Просто узнать, в порядке ли она. Разговор на неприятные темы заводить необязательно. Выразить человеческое сочувствие, и ничего более.
Пока он собирался с духом, снова накатили неотложные дела, и сороковой день Савва благополучно пропустил.
Ну и о чем тогда говорить?
Он приказал себе высморкаться в платочек и заняться насущными проблемами.
А глупости засунуть в… самую глубину мозга.
Впрочем, время от времени Савва вспоминал серо-зеленые, изменчивые, как невская вода, глаза и задумывался, почему девица Шум не выходит у него из головы. Вернее, она-то выходит, вот только он не отпускает.
С чего бы это?
Впрочем, любовь – штука экзистенциальная, логике не поддающаяся, а потому торопиться с выводами не стоило.
Взять хотя бы Кривошеева. Его друг, выросший в местах, которые в народе принято называть «не столь отдаленными», в семье поселенца-«химика», и с детства окруженный теми, кто «откинулся с крытой», всех женщин называл одинаково – «дырками». Относился тоже соответственно.
Но однажды в поселке появилась девушка Лиза, переехавшая жить к папаше, старому ворюге. Родителя она не то чтобы сильно любила, но жалела. Мать с отцом давно развелась, жила неплохо, к тому же на берегу теплого моря, да и с Лизой они ладили. Но когда узнала, что бывший муж непутевый один загибается, отговаривать дочь не стала. Надо, значит, надо.
И тут Кривошеева настигла заслуженная кара за циничное отношение к женщинам.
Увидев Лизу, назвать ее «дыркой» он не смог. Зато выпучил глаза и проглотил язык. Так без языка и ходил до того дня, когда пришлось уезжать в армию.
Уже на вокзале увидел ее с подругой и рванулся в последнем отчаянном порыве.
– Люблю тебя. Дождись, – сумел выдавить он, глядя на девушку больными глазами.
Лиза ничего не ответила. Кивнула, и все.
С тех пор прошло пятнадцать лет, и все эти годы Серега носился со своей женой, как с хрустальной вазой. Видевшие их вместе изумлялись. Красавец мужик – косая сажень и все такое – и худенькая маленькая женщина. С виду никакая.
Однажды Серега признался Савве:
– Веришь ли, смотрю на нее и аж зажмуриться хочется. Такая красивая, слепит прямо!
Вот ведь как бывает!
Так, может, и с ним такая петрушка вышла?
Савва испугался даже, но, поковырявшись в своих чувствах, удостоверился, что до этого все же не дошло. Наверное, просто жаль девчонку. Увидеть родную бабушку с проломленной головой – зрелище не для слабонервных. Но ничего, она справилась, хоть и кажется хрупкой.
Кроме того, почти наверняка он девице Шум не нужен. Она и забыла о его существовании.
Иначе позвонила бы. Ну, просто узнать, как у него дела, к примеру.
Так вот ты какой, Прованс!
А девица Шум тем временем собиралась в дорогу и не думала о Савве Бехтереве. Вернее – чего уж там, – старалась не думать. Хорошо старалась.
Ей казалось, что получается.
Весь полет от Москвы до Марселя – с пересадкой в Стамбуле – она улыбалась. Немного неприлично, ведь повод для поездки скорбный, к тому же нет уверенности, что бабушка Таняша будет ей рада, но ничего поделать с собой она не могла.
Шутка ли – увидеть Прованс!
Интересно, в начале декабря там в туфлях ходят или все-таки в сапогах?
Оценить прелесть прованской погоды сразу по прибытии Яна не успела. На выходе после паспортного контроля ее уже ждал парень с табличкой, на которой по-русски было написано ее имя. Подхватив чемодан, встречающий, не говоря ни слова, на крейсерской скорости куда-то понесся, на подземной стоянке сунул вещи в багажник, буквально запихнул Яну в машину, сам пристегнул и, вскочив на водительское сиденье, как в седло скакуна, резво рванул вперед.
Увидеть Прованс в окно автомобиля тоже не удалось. Прилетела она в семь вечера, когда – как всегда на юге – было уже темно, хоть глаз выколи. На место прибыли в полной черноте.
Перед калиткой, освещенной фонарем, водитель, за всю дорогу не произнесший ни слова, выскочил, нажал на кнопку звонка и стал доставать вещи. Вместе с ее довольно тощим чемоданом он выгрузил какие-то коробки, два ящика с рассадой – да они тут в декабре цветы сажают! – и новенький велосипед. Почему-то Яна решила, что это для нее, и немного вдохновилась.
А то что-то страшновато стало.
Впрочем, окончательно оробеть она не успела – из калитки вдруг выскочила худенькая женщина и повисла у вылезшей из автомобиля Яны на шее.
– Януся, дорогая моя девочка! – по-русски завопила она и громко чмокнула ее три раза.
Это была бабушка Таняша собственной персоной.
Яна улыбнулась и чихнула, чисто от волнения. Таняша сразу потащила ее в дом, и вспотевшая от переживаний путешественница даже не поняла, какая в атмосфере нынче температура.
Зато утром, проснувшись в маленькой комнате на кровати под балдахином, Яна посмотрела в окно и не поверила своим глазам.