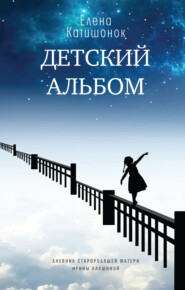По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Когда уходит человек
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Даме из благотворительного общества удалось организовать ткацкий кружок для приютских девушек.
Во всех газетах публикуется постановление о сдаче оружия. Отказ грозит очень весомым штрафом и тюремным заключением на год.
Из телеграммы посла Великобритании просачивается фраза: «Братание между населением и советскими войсками достигло значительных размеров».
Офицер срочно отозван со взморья в связи с тем, что Национальная Гвардия распущена; за несдачу оружия расстрел.
Традиционный национальный праздник песни проходит с большим подъемом.
Господин Роберт временно оказывается не у дел. Его очаровательную супругу постоянно приглашают на собрания деятелей культуры, и он теперь ужинает в одиночестве.
Республиканские красно-бело-красные флаги висят в непривычном соседстве со сплошь красными советскими.
Дантист смазывает отцовский парабеллум, заворачивает его в мягкое полотенце и выходит из квартиры – для того только, чтобы спуститься в подвал и закопать пистолет в куче угля. Он отродясь не держал в руках никакого оружия серьезнее зубного бора, но с этим парабеллумом отец прошел Германскую войну– Великую войну…
Июль в этом году очень жаркий.
Рано утром появляется сын дворника, одетый в парусиновые брюки и летнюю рубашку вместо, упаси бог, формы Защитного батальона. С отцом говорит недолго – спешит.
С необыкновенным успехом и такой же скоростью проходят выборы в Сейм; новый Сейм немедленно провозглашает в стране советскую власть.
Госпожа Шихова обгорела на солнце, и дочери по очереди делают ей компрессы из свежих огурцов.
Сейм единодушно голосует за присоединение республики к великому, как выразился президент, восточному соседу – Советскому Союзу. Многотысячные демонстрации приветствуют это решение.
Доктор Бергман крутит пуговицу радиоприемника, но в ответ слышится «Интернационал»; президент не выступает. Что естественно, ибо он едет в какой-то российский город не только не по своей воле, но и в принудительном сопровождении вооруженных красноармейцев.
Об этом мало кто знает. Люди больше озабочены и новым своим статусом «советских граждан», и стремительно пустеющими прилавками.
Июльское солнце палит беспощадно, поэтому ранним утром дворник поливает бугрящийся булыжник мостовой – меньше пыли осядет на окнах. Дядюшка Ян недавно встал, а в парадную дверь уже звонят. В такое время могли тревожить только женского доктора. Или… Валтер? Нет, сын зашел бы с черного хода.
Увидев красноармейскую форму, Ян перевел дух. Четверо солдатиков, молоденькие и во всем новом, но лица жесткие. У офицеров грудь гимнастерок перечеркнута ремнями, на рукавах нашивки; фуражки с красными звездами. Позади, сцепив за спиной руки, стоит худощавый мужчина в летнем чесучовом костюме. Один из офицеров потребовал список жильцов; худой перевел. «Я понимаю русский язык», – прервал Ян, после чего вежливо показал на большую черную доску, висевшую на стене. Второй офицер извлек из планшета блокнот и начал быстро писать, задавая однообразные вопросы «кто такой» и «чем занимается». Первый поинтересовался, кому принадлежит дом, и огорчился, что господина Баумейстера увидеть нельзя. «Где же он?» – спросил мягко, на что дворник ответил:
– Могу не знать.
Странная формулировка насторожила офицера, но переводчик снисходительно объяснил:
– Старик говорит: «не могу знать». Не в курсе дела. Дядюшка Ян так досадовал на себя, что проговорился на неродном языке, что на «старика» внимания не обратил. Сам того не желая, он сказал чистую правду. Иногда господин Мартин уезжал очень спешно, и только по долгому отсутствию они с Лаймой догадывались, что хозяина нет в городе. Бывало и так, что он готовился к поездке заранее – вот как в тот раз с Ривьерой. Дворник – не секретарь, он не обязан знать хозяйский график… Не обязан, но мог знать. Мог и не знать – вот как сейчас.
Квартиру хозяина заставили отпереть. Обошли, распахивая все двери, даже кладовку; тот, что с планшетом, вышел на балкон. Дядюшка Ян старался не выказывать растерянности и надеялся, что больше ни о чем не спросят.
– А это что за дверь во дворе? – прозвучал вопрос, и сапоги застучали вниз по лестнице.
Когда дворник отпер гараж, красавица «Олимпия», казалось, зажмурила фары от июльского солнца. Старший из офицеров повеселел. Солдатики восхищенно уставились на автомобиль. Замешательства Яна никто не заметил – недаром он был похож на оксфордского профессора. Сам он твердо приготовился к худшему и радовался, что ни жены, ни сына в городе нет.
«Худшее» называлось национализацией. Яну объявили, что дом № 21 переходит в собственность государства, а он, Майгарс Ян Янович (переводчик подмигнул), остается в прежней должности дворника.
Привыкать к отчеству, нелепому, как две шляпы на одной голове, было некогда. Следующий день ознаменовался вселением в хозяйскую квартиру вчерашнего майора, а в гараж – пожилого рябоватого шофера в солдатской форме. Отныне майор разлучался с «Олимпией» только на ночь.
Обитатели дома, особенно дамы, осаждали вопросами… нет, не майора, а дядюшку Яна. Кто-то обмолвился о переезде. Только – куда? Национализация захлестнула все дома, да и само присоединение республики к великому восточному соседу было не чем иным, как национализацией. А когда национализировали банки, дворнику перестали задавать вопросы, как и он перестал репетировать грядущий разговор с хозяином, хотя не мог избавиться от чувства вины и беспомощности.
… Внешне на улице и в доме почти ничего не изменилось. Еще какие-то новые люди поселились на Палисадной улице, в конце, где стояли деревянные двухэтажные дома с заборами. В здании слева сколько-то лет назад начался ремонт, но не закончился, а как-то замер, и если раньше дом был похож на больного под наркозом, то сейчас впору было говорить о коматозном состоянии. Приют для вдовых и сирых и прежде жил шепотом, а теперь и вовсе притих. Вялый южный ветер нехотя, будто по обязанности, шевелит листву каштанов. Пышные кусты над заборами похожи на кашу, выкипающую из кастрюли. Редкие фонари горят вполнакала, и там, куда не дотягивается свет, все серое. Окна гаснут рано – не оттого, что люди стали рано ложиться спать, а чтобы не привлекать лишнего внимания. На то существуют ставни или шторы. Жарко и душно, но спокойней.
С улицы доносятся все звуки, и тревожней всего звучит тишина. Иногда проходит военный патруль: стук сапог, негромкая речь, шатающийся свет карманных фонариков. Полиции больше нет; вместо полицейских группами ходят заносчивые субъекты с повязками на рукавах.
Лето тянется долго. Дядюшка Ян озабочен: нужно запасти топливо на зиму. Дворник не отвечает за власть, но должен обеспечить отопление. Которое, кстати, потребуется и для власти тоже – вот она, на втором этаже. Несколько раз он спускается в погреб; вроде бы угля должно хватить.
Проверяет сараи: дров маловато. Опять же, известно: если лето знойное, жди зимой холодов.
Разгружать уголь, пилить и складывать дрова обычно помогает Мануйла, молодой цыган. Он всегда рад подработать, особенно теперь, когда женился. Худой, как смычок, но удивительно гибкий и сильный, цыган легко таскает мешки с углем. Когда привозят дрова, они с Яном пилят. Дворничиха хлопочет на кухне и смотрит в окно на ловкого парня. Мануйла поворачивается, и тогда на левой щеке видно крупное багровое пятно. В первую минуту его хочется стереть, но у Мануйлы такое приветливое и открытое лицо, что пятно его не портит. От ровных движений пилы подрагивают завитки волос на шее.
Через несколько дней он приходит за расчетом. Хозяина все еще нет – теперь домом распоряжается какой-то комитет, но что такое этот комитет, никто не знает. Поэтому дядюшка Ян расплачивается из прежнего – хозяйского – запаса, который господин Мартин некогда завел для таких целей.
В августе почтальон приносит дворнику с женой конверт. Они читают, как прежде читали письма от сына, хотя письмо на этот раз от Густава, брата. Их лица разглаживаются: Валтер далеко. Оба знают где, но вслух не произносят: ни к чему. Какое-то время можно будет спать спокойно.
Ночи в августе гуще и темнее. Темноту протыкает свет фар – это возвращается майор. Иногда проезжают другие машины, потом все затихает.
Новый закон – закон о вредительстве – вначале появился в газетах, а потом, перепечатанный на машинке, прямо в доме на стене, под списком жильцов, так что создавалось впечатление, будто с новой властью пришли вредители, как тараканы, которых приносят неряшливые квартиранты.
Дама из благотворительного общества твердо знает, что новый закон не имеет никакого отношения ни к ней, ни к соседям, каковой мыслью и делится на лестничной площадке со старым антикваром.
Ночью дворник просыпается от резкого звонка, но еще раньше просыпается и подбегает к двери сенбернар. Доктор тоже просыпается и, не включая света, смотрит в окно. Машина. На лестнице голоса, стук сапог; кто-то звонит в соседнюю квартиру. Доктор обнимает пса за шею и ждет.
Дядюшке Яну никогда не случалось нарушать ночной покой жильцов, тем более сопровождать вооруженных людей и, что самое скверное, присутствовать – вот как сейчас в квартире антиквара. Второпях прочитанный ордер на обыск – буквы танцевали перед глазами – ничего не прояснил.
Хозяин не успел надеть халат и стоял, завернувшись в плед. Ему предъявили ту же бумажку, но без очков он не смог прочесть и, казалось, больше озабочен был тем, чтобы плед не соскользнул. Он жмурился от яркого света, властно включенного чужой рукой, в то время как незваные гости хлопали дверьми, а чужие руки твердо и уверенно наводили хаос в его мире. Выдвижной ящик бюро был заперт, и замок взломали штыком.
– Оружие! – торжествующе и грозно воскликнул взломщик, и старик пришел в себя. Он поправил сползающий плед и мягко пояснил:
– Это французский мушкет, он…
Двое солдат схватили его за локти, и он оказался почти спеленутым пледом. Офицер вынул мушкет из ящика.
– Патроны! – потребовал он.
– Семнадцатый век, – заторопился старик, – такая редкость…
– Почему не сдали оружие?
– Это антикварная вещь! Извольте, я покажу вам… – он дернулся, подавшись вперед, и одновременно хлопнул выстрел; следом еще два.