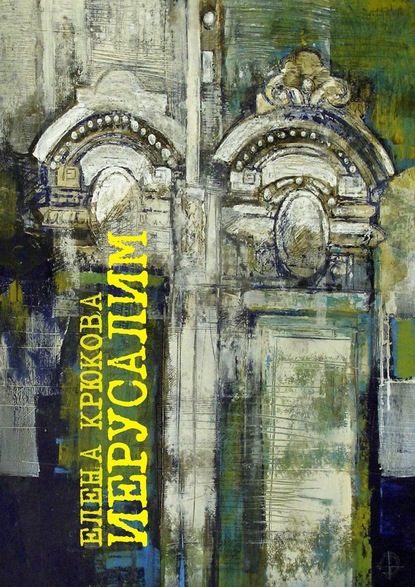По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Иерусалим
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Идиотка!.. за то, что ты мне дочку…
– Ах…
Вера наконец поняла.
– А ты мне… Марин!.. ты мне… денежек дай немного своих… ну, это… совсем немножко… хотя я понимаю, там надо множко… ты только не смейся… я знаю, будешь смеяться, ржать просто будешь… мне, это… в другую страну надо… в Иерусалим!.. добраться…
– Куда, куда?.. Громче говори! Губешки-то разлепляй!
Марина и правда не расслышала.
Вера медленно, по слогам выдавила из себя:
– В И-е… ру… са… лим!
– Черт! – выкрикнула Марина, помолчала немного и захохотала.
Она хохотала так громко, что звонко лопнул один стеклянный шарик на кухонной французской люстре.
– Что ты… ржешь как… конь?..
– В Иерусалим! – заходилась в умалишенном смехе Марина. Тряслись на щеках кудряшки. – На Святую Землю! Вон оно что! Так далеко! И что тебе приспичило?! Что ты-то там забыла?! А загранпаспорт у тебя есть? А деньги на билет? Нет?! И что, я теперь твой кошелек?! Ишь ты! Все так просто решила! И меня не спросила! Ты что, меня вот так вдруг на улице нашла?!.. ночью, на тротуаре… и подобрала, и раскрыла… а там… пара-тройка тысяч баксов!.. а то и десятка!.. аккурат до Иерусалима хватит… и чтобы там помотаться… всласть пошиковать… А-ха-ха-ха-ха!.. ах…
Обиженная Вера встала, чтобы выйти из кухни. И тяжело, смешно упала около стула. Свалилась как сноп. Марина хотела встать, не смогла, смеялась еще сильнее, заливистее.
– Ах!.. ха-ха-ха… Верка! я ж подняться не могу… ноги отяжелели… и вроде винцо чепуховое… это мы слабачки… и вроде три бутылки – это слону дробина в левое ухо… а вот поди ж ты!.. не смогаю…
Откинулась на спинку стула, продолжая улыбаться, и громко запела, и посуда зазвенела на столе и за стеклянными створками шкафа:
– Дура я, дура я, дура я проклятая! У него четыре дуры, а я дура пятая!
***
Сговорились. Ударили по рукам. Вера чувствовала себя молодой хулиганкой. Похитить ребенка! «Но ведь у нее тоже украли. А она мать. Она больше прав имеет», – бормотанье мыслей пыталось, сгорая во мраке безмыслия, оправдать то, что ждало впереди. Они все сами придумали и продумали. И как Вере переодеться нищенкой, и сесть у крыльца, и дождаться, пока отец с дочкой выйдут на прогулку, и протянуть руку за милостыней, и потом будто в обморок покатиться, и, пока отец будет ковыряться в телефоне, вызывая врачей, внезапно воскреснуть, подхватить девчонку на руки и побежать, а за углом – машина ждет; да, все было продумано до мелочей, и даже настоящий пистолет в руке у Марины, отстреливаться, и даже настоящие патроны в нем; но все вышло иначе. В жизни всегда все получается иначе.
Перед похищением Марина пила не коньяк, не кагор – сердечные капли. Высоко взбила волосы, накрасила ногти. Настоящий пистолет, тяжелый, оттягивал сумку от Гуччи. Они обе домчались к дому Марининой свекрови за пять минут. На солнце уже снег таял, обнажалась земля. Густой дым валил из труб ближних заводов. Каменная грудь, железный скелет. Город глядел в живое небо мертвыми глазами. Марина то и дело щелкала замком сумки и ощупывала мертвый сгусток смертоносного железа. Ее рука тепло обнимала железную гибель. «Ну же, иди!» – закричала она на Веру, будто Вера была шкодливой школьницей. Вера, одетая в бедняцкое потрепанное платьишко, вздрогнула и торопливо распахнула дверцу громадного «джипа». Марина подгадала верно. Мужчина и девочка вышли из двери вскоре; девочка, с двумя толстенькими косками по бокам широкоскулого румяного, как у матрешки, лица весело помахала рукой седовласой старухе в дверях. Старуха клюнула воздух гордым носом-крючком и исчезла. Перед глазами Веры пронеслась призрачная черная птица. Вера рухнула на колени, сложила руку черпачком и заблажила: «Подайте бедненькой, подайте несчастной!» У нее получилось правдиво. Мужчина, в красивой кожаной куртке с песцовым воротником, остановился, пошарил в кармане. «Черт, черт, налички никакой с собой, одни карты, доченька, у тебя какая копеечка в кармане есть?»
Девочка тряхнула косками, они запрыгали по плечам. Вынула из кармана сто рублей. «Есть, папа!» Вера стала падать на землю; упала на бок, скрючилась, чтобы удобнее было вскочить. Мужчина рванул на шее шарф. Сморщил нос. «Фу, да она больная! От нее воняет! Бомжиха! Дочь, не подходи, у нее вши!» Девочка сунулась к Вере. Вера слишком рано схватила ее за руку. Слишком рано ожила. Богач не добыл из кармана никакой телефон, не стал вызывать никакую «скорую». Вера подхватила девчонку под мышки, она завизжала, Вера в ужасе пустилась бежать, волоча девчонку за собой. Мужик нагнал их в два счета. Вера зажмурилась. Она поняла: сейчас ее ударят по голове, сильно, кулаком. И мира больше не будет. На время или навсегда, неизвестно. Навстречу им уже неслась на всех парах бешеная кудрявая Марина. Она держала на вытянутой руке пистолет, сделала два выстрела: один, второй. Первый – мимо, вторая пуля попала мужику в руку. Третий выстрел он не дал ей сделать. Ловкая подножка, и кудрявая баба с харей хрюшки падает навзничь на снег. Мужик выхватывает оружие из ее руки и стреляет, стреляет, стреляет ей в лицо. Пока не расстрелял всю обойму. Лицо бабе расквасил в красный кисель. Нажимал, бестолково и зло нажимал курок, а пули уже не вылетали из горячего ствола. Вера стояла и смотрела, крепко прижав к себе девчонку. Ощущала, как мелко дрожит маленькое живое существо. Девочка подняла лицо, и Вера увидела ее глаза. Вера снова заглянула в зеркало. Нежное зеркало! Человек глядится в человека, и зачем тогда плакать о том, что ты на свете одинок? Ведь все лишь отраженья друг друга. Все повторяют друг друга, перетекают друг в друга, как реки, и нет ничего единственного, все всеобщее, все повторяется, все навязло в зубах, все давно выучено наизусть.
Она оттолкнула от себя девочку. Надо было бежать, а ватные ноги не слушались. Поодаль стояла машина. Вера никакую машину водить не умела; она умела только молчать и бояться. И еще ухаживать за людьми, когда они болеют. Мужик перевел взгляд на красное месиво, что застывало на асфальте вместо пухленького поросячьего личика Марины, и вдруг, как Вера давеча, упал перед убитой на колени. Пистолет медленно выпал из его руки и воткнулся в снег. Торчал из снега черной костью. Вера пятилась, она уходила, неужели уходила, она себе не верила, но шла, шла сначала задом, потом чуть не упала и отвернулась от людей, от плачущей навзрыд девчонки и застывшего в ужасе мужика: ей повезло, ей подфартило необычайно, ее отпускали, ей давали свободу, на миг, на час или навсегда, это уже было неважно, ей молча говорили: уйди! убеги! спасайся! – а она будто не хотела спастись, все медлила, и тоже стояла в снегу и смотрела, и сугроб возвышался перед ней, как мраморный пьедестал, и сама она была памятник, до ушей закутанный в белую простыню последнего страха.
Наконец ее ноги налились жизнью. Задвигались сами. Она пошла, спиной ощущая: смерть отвернулась от нее. Кто бережет ее? Кто позволил ей жить? Кто были эти люди, у которых она на время побыла слугой, помощницей, лгуньей, любовью? Зачем она сунулась им под ноги? Кто ее об этом просил? Кто ей это запрещал? А она все равно… все равно…
«Все равно это я, я одна», – повторяла себе Вера бессмысленно и беспощадно, медленно уходя от места смерти, вновь увиденной в жизни ею, еле ноги волоча. Она сама себе напоминала стебель, выдернутый из земли с корнями. Потом ей привиделось: она перевернута, и ее корни, ноги, глубоко и радостно врастают в небо. И она их вырывает из неба и идет по небу, ощупывая руками синее сиянье. И облака снегом сверкают, белые горы.
***
Вера пешком дошла до особняка Марины. Ключа у нее не было: кто бы ей его дал! Она обошла вокруг дома, глядя невидящими глазами. Перед ней мелькнул маленький деревянный, будто кукольный, весело раскрашенный домик. Поздно она сообразила: собачья будка. А где собака? Вера наклонилась и тихо свистнула. Из будки выполз огромный лохматый пес. На морде пса светилось собачье добро. Он облизал Вере руки, потом встал на задние лапы и излизал ей все лицо – губы, нос, щеки. Вера заплакала и упала в снег рядом с собакой. Обняла пса и уткнулась мокрым лицом ему в шерсть. Ей надо было выплакаться. Слезы вывернули ее наизнанку, и она будто родилась вновь.
Живая, она умылась снегом. Солнце закатывалось. Она легла животом на снег и заползла в будку, с трудом протиснулась. Пес прополз за ней. Он понял: он ей нужен. Вера крепко обняла собаку, как человека. Оба, зверь и человек, уснули в маленькой дощатой избенке. Ни о чем не думая. Ни о чем не жалея. Вера вскрикивала во сне. Пес подставлял ей теплый мохнатый бок. Вере в дреме казалось: она обнимает медведя. К утру у нее замерзли ноги, а грудь и живот сделались горячими, как печка. Пес слегка подвывал и дергал лапами. Ему снились сны.
***
Наутро Вера отважилась и выставила оконную раму. Залезла в дом. Осторожно, будто умный грабитель, поджав тонкие губы, шла по дому, рассматривая дивную мебель, богатые статуэтки и расписные вазы, удивительную, в виде морских ракушек, посуду за хрупкими стеклами. Она не хотела шарить по шкафам, искать обещанные Мариной деньги на дорогу. Она искала свой ранец. Нашла. Встряхнула: тяжеленький, вещи на месте, книга на месте. Нет, все-таки открыла, чтобы удостовериться. Запустила руку под белье. Под кружева покойной Анны Власьевны. Евангелие мирно лежало на дне ранца. Оно спало.
***
Она шла по городу Челябинску, и каменные дома наваливались на нее вечным холодом. Каменные гробы, каменные кресты. Она не боялась, что встретит на улице Бритого; не боялась, что ее найдет полиция и посадит за решетку за то, что пособляла убийце. Кто кого убил? И за что? В голове у нее гудело, будто она сама была поезд и издавала долгий, протяжный гудок, говорящий о бесконечной дороге и бесконечной тоске.
Ей надо было раздобыть денег, чтобы двигаться дальше. Она уже не мечтала о неведомом Иерусалиме. Только знала: надо ехать вперед, а если нельзя ехать, так хоть идти.
Так шла и вспомнила: была у матери подружка Лиза, да, точно, Лиза Матронина. Она жила вроде бы в Казани. Так и есть, в Казани! Вот бы до Казани добраться. А Казань, это где? Она об этом спрашивала себя, а себя бесполезно было спрашивать. Вся земля для Веры была на одно лицо. И мамкина подруженька Лизавета Матронина, может, давно уж отдала Богу душу. Богу? Душу? Зачем Ему чья-то душа? Он что, собирает их в лукошко? А потом варит из них варенье?
Вера вспомнила детство, и длинноносую Лизу, ее мать так смешно называла иной раз: «товарищ Матронина», и как Лиза приходила к ним в праздник Седьмое ноября, помогать лепить пельмени, великое, редкое блюдо, и тереть на терке морковь и свеклу, и строгать мороженую рыбу хариуса, и то, как Лизины руки, в бородавках, а Лиза все смеялась: «Лягушек ребенком убивала, вот Бог и наказал!..» – пахли странно и томяще, точно так, как сизый дым из железного золоченого крупного яйца в церкви, им всегда священник машет, когда поет, и все пьянящий дух вдыхают, и мощная цепь звенит.
Опять вокзал, и гранитные плиты под ногами, и эти гудки, они прокалывают уши. Жизни нет без дороги, а Вера слишком долго прожила на одном месте, и вот теперь идет, все вперед и вперед, и этот Ход Веры по земле казался ей самой гигантским серебряным коромыслом, слепленным из снега, льда и мерзлого асфальта, и на крюке коромысла висела она, как порожнее ведро, и кто-то Сильный, Мощный должен был наклониться над близким, непроглядно-черным колодцем и ею, Верой, зачерпнуть из черноты чистой светлой воды.
Так и видела перед собой глаза ребенка близ убитой матери.
И глядела ее, детскими, глазами.
Глядела на все вокруг, и все узнавала – и когда стояла перед очередью в кассу и просила подлинную милостыню: «Помогите, родные, мне до Казани надо добраться, а денег на билет нет!» – и когда ее грубо, кулаком в грудь, отталкивали: «Пошла прочь, побирушка!» – и когда малый мальчонка, годов семи, а может, восьми, в закрашенных известью круглых очках с проволочными дужками, вставал рядом с ней, за ее спиной, сдергивал с затылка кепку, протягивал людям и заводил гундосо, заунывно: «Друзья, друзья, я ничего не вижу, белый свет душой я ненавижу! Подходите, пожалейте, сироту меня согрейте, посмотрите – ноги мои босы!..» – и когда мимо нее шла красавица, и падал на плечи красавицы шелковый богатый платок, и совала красавица Вере в руку красивые, расписные бумажные деньги и морщила, будто в смехе, нос, и говорила капризно, тонко и нежно: «На, держи, езжай куда хочешь!..» – и губы и зубы ее смеялись, а из глаз ее, ярких и синих, как уральское небо, текли мелкие, жалкие, птичьи слезы.
Все узнавала Вера, сначала глядя непонимающе, потом с болью, ярко вспоминая – и культи молодых парней, и седые космы безногих, на тележках-каталках, стариков, и живот-сугроб брюхатой проводницы, что все сдвигала набекрень форменный берет, подбитый мехом, и кричала на курящих: «Нельзя, нельзя! В тамбур, в тамбур выметайтесь!» – и сияющую, драгоценную зимнюю радугу над Уралом, когда поезд стучал ледяными колесами по серебряным длинным чехоням рельсов, и реки подо льдом, до времени спящие, с тайными кладами рыбы, с россыпями мальков, раков и раковин внутри, в застылой, жидко-ртутной толще. Она ехала, сходила на землю на чужих вокзалах, снова влезала в поезд, боясь навек отстать от него, и ее подсаживали, и ей подавали руку, и на ее глазах люди били людей по щекам – и обнимали, лаская, в слезах; люди убивали людей – и люди вставали перед людьми на колени, прощенья прося; на ее глазах люди обманывали друг друга и обманывали ее, и исчезали, торжествуя, и, убегая, показывали ей зубы, открыто и нагло над ней насмехаясь; и тут же, рядом, люди совали ей в руку хлеба кусок, совали кольцо с ярким крупным камнем: «Продай и поесть себе купи, и билет куда хочешь купи, может, где другое счастье найдешь!» Ее мазали грязью – а за углом, чуть отойти, выливали на нее ушат чистой ключевой воды, и обмывали ее, и обтирали ее, и шептали ей на ухо: «Ты так устала, отдохни у нас, вот вымылась, сейчас поешь, а мы постелем тебе вон там, на печи, на печь-то взберешься?» Вера наклоняла голову, не в силах говорить. Ночевала у добрых людей, и снова в путь. В адресном столе Казани ей сказали, что Елизавета Порфирьевна Матронина живет сейчас в селе Верхний Услон. «Это на Волге, матушка. Не сильно далеко. Быстро доедешь. Вот улица, дом! Найдешь!» Ей протянули бумажку, там аккуратно был написан адрес Лизы.
Из Казани до Верхнего Услона Вера шла пешком.
Иногда ее подсаживали к себе шоферы. Она все крепче сжимала рот, ни о чем с шоферами на говорила. Они не посягали на Верину честь: баба казалась им старой, скучной и слишком твердой, боялись зубы обломать.
В сельмаге не на что было Вере купить Лизе подарок, хоть какой гостинец. «Я сама гостинец», – усмехнулась она сама себе и вышагивала твердо, жестко. Юбка развевалась по ветру, облепляла ее жесткие, кочергами, ноги. Щурясь, читала названия улиц. Дул ветер с Волги. Вера видела Волгу отовсюду – и справа, и слева, и сбоку. Красота реки сбивала ее с ног. Ветер выдувал у нее изнутри всю боль, и прошлую и будущую. Около маленькой избы, вросшей в землю, Вера остановилась, сверилась с бумажкой: да, это здесь.
Калитка визгнула под рукой. Вера быстро прошла по тропке до крыльца, ветер взвивал ее юбку, рвал. Одной рукой юбку придержала, другой громко, звонко постучала в окно.
– Эй! Есть кто дома?
Прошло время. Вера ждала. Возник звук, перешел в мышиное шуршанье.
Дверь приотворилась. Лисий длинный нос высунулся. Подбородок, обтянутый сморщенной коричневой кожей, задрожал.
– Ихто тута?
– Лиза! – воскликнула Вера. – Лиза, здравствуй! Это Вера Сургут! Дашина дочка! Ну, Дарьи Сургут дочка! Из Красноярска!
– Не знам никакой я Даши! И мышей у мене нетути, морить не надоть! У мене кот живеть, знатнай! Усех мышей пожрал, как волк овец!
«Зачем я сюда приволоклась», – думала Вера, умоляюще прижимала ладони к груди.
Лиза сжалилась.