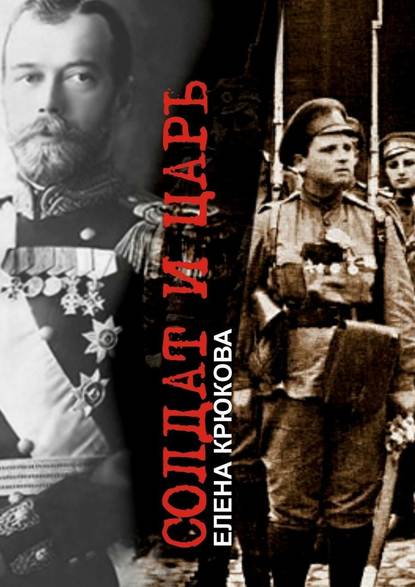По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Солдат и Царь. Два тома в одной книге
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да прямо уж?
– Не представляешь как.
Клал одну тетрадь, брал другую. Листал.
– Товарищ командир, – Лямин понижал голос, – и вы почерк разбираете?
– Не мешай.
Читал заинтересованно. Иной раз ухмылялся. Хмыкал.
Лямин начинал скучать.
– Что, забавно так пишет?
– Да ну его. – Матвеев кинул тетрадь в чемодан. – Чепуху всякую. В чепухе живут, я скажу тебе, в чепухе!
– Так… – Лямин кивнул на чемодан, – сжечь к едрене матери!
– Ты не понимаешь. Целый воз этих каракулей. Он же все пишет, что видит. Как башкирин: едет по степи и поет, что видит. Но увидеть он может много и такого, что… свет прольет…
– Прольет так прольет. Мы что, унесем с собою отсюда чемоданище этот?
– Нет, боец Лямин. Пусть стоит. Унести – это кража. Все равно… – Он помолчал. – Все равно нам все достанется.
– Все… равно?
Лямину некогда было думать. Матвеев подхватил фонарь, и они оба так же тихо вышли из кладовой, как и вошли туда.
* * *
Они курили оба, то и дело сплевывая на снег. Пашка щурилась на свет высокого уличного фонаря. Небо синело быстро и обреченно, и молчащие звезды вдруг начинали беспорядочно и громко звенеть; и только потом, когда звон утихал, оба понимали – это проскакала по улице тройка с валдайскими бубенцами.
– Не холодно?
Пашка передернула плечами под шинелью.
Смолчала.
Лямин искурил папиросу до огрызка, лепящегося к губам, к зубам; щелкнул по окурку пальцами, отдирая от губы.
– Ну, все. Пошли в тепло.
И тут Пашка помотала головой, как корова в стойле.
– Нет. Не хочу туда. Там… гул, гомон… Устала я.
Михаил глядел на нее, и жар опахивал его изнутри.
– Но ты же спишь одна. Тебе ж комнату выделили.
– Да комнату! – Она плюнула себе под сапоги. – Черта ли лысого мне в той каморке!
– Я ж к тебе, – сглотнул, – туда прихожу…
И тут она неожиданно мягко, будто лиса хвостом снег мела, выдохнула:
– Присядем? Давай?
И мотнула головой на скамейку близ кухонного окна.
Окно не горело желтым светом в синей ночи: еще вечерний чай не кипятили.
– А зады не отморозим?
Она хохотнула сухо, коротко.
– А боишься?
Сели. Лавчонка слегка качалась под их тяжестью.
– Летом надо бы переставить.
Михаил похлопал по обледенелой доске.
– А мы тут до лета доживем?
– Мишка, – голос ее был так же ласков, лисий, теплый, – Мишка, а я тебе рассказывала когда, как я – у Ленина в гостях была?
Он смотрел миг, другой оторопело, потом тихо рассмеялся.
– У Ленина? В гостях?
– Ну да.
– Нет. Не говорила.
– А хочешь, расскажу?
Он поглядел на нее, и его глаза ей сказали: могла бы и не спрашивать.
Она ногтем ковыряла лед в древесной трещине. Потом подула на руку, согревая ее.
– Я тогда в женском батальоне была. Всю войну прошла с мужиками, с солдатней, а напоследок, не знаю чего ради, меня к бабам шатнуло. Так получилось. Сама набрела я на этот батальон. Красная Гвардия в Петрограде все заняла… все у них… у нас… было под присмотром. Вокзалы охраняли, поезда досматривали… А я только что с фронта. Озираюсь на вокзале. Думаю: какого бы ваньку остановить! Ни одного извозчика, как назло… И тут…
Лямин протянул ей папиросу. Его колыхало, но не от холода.
Он просто так не мог долго рядом с ней сидеть. Вот так, спокойно.