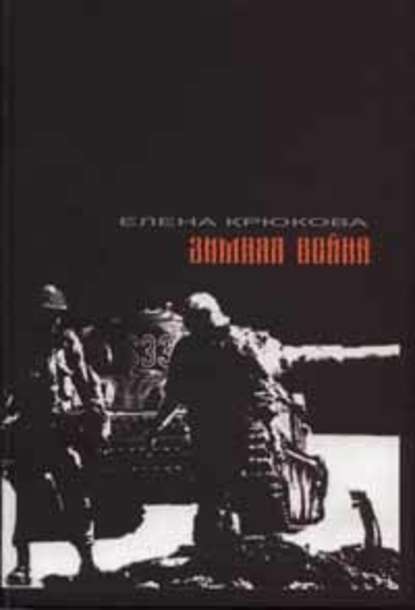По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Зимняя Война
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Прозрачные, серо-зеленые, как морской лед, глаза мужчины уставились в небо. Небо мое далекое, небо широкое. Я твой Царь. Я больше не Царь моей земли. Я Владыка неба, я Царь облаков и туманов. Повелитель Сиянья, что заматывает весь Север цветным светящимся бешеным шарфом. У моей Царицы был такой газовый легкий шарф, летящий по ветру, особенно когда она стояла на палубе яхты «Штандарт», я ей его дарил. Я его в Лондоне купил, в городе счастья, слез и тумана, и я погружал в легчайший газ лицо, чтоб отереть свои слезы радости: я люблю тебя, моя Царица, Принцесса моя. И ты родишь мне детей. И мы с тобой поплывем на корабле, на нашей яхте, вперед, к счастью.
Он падал, падал на холодный песок, и вихрился снег, и взвивалась пурга, начиналась полярная, страшная пурга, затягивала свет Солнца белой погребальной пеленой. Монахи, лежащие на земле в крови и грязи, стонали, еще живые, и им в лица и бороды летел жгучий, последний снег. Они не врут, монахи, что мы – среди вас. Да, мы среди вас. Мы и были всегда среди вас. Вы только не подозревали об этом. Да и не надо вам было знать. Мы же тоже – народ. Мы ваш народ. Мы теперь не ваши Цари. Мы ваши седые волосья; ваши скрюченные в смертной муке пальцы; ваши вытаращенные в ужасе последнего страданья глаза; ваши голодные, торчащие ребра. Мы – ваш Христос. Он сошел с Креста и стал нами. Женский Христос и мужской Христос. И детский Христос тоже – с вами. Наши девочки. И наш мальчик. Вы думали – они укрыты. Спасены. Нет. Они тоже были с нами. Нас взяли всех вместе. Нас вместе убивают. Это, монахи, большое счастье. Его не вместить разуменью.
Мужчина, простонав, свалился на снег. Женщина упала на него, сверху. Ее лицо повернулось к небу нелепо. Гусиная шейка выгнулась, чуть не сломалась. Они лежали на берегу моря, расстрелянные. Они были последние Цари. А может, они были просто последние сумасшедшие, сошедшие с ума в тюрьме от побоев, голода и издевательств. И никто, даже расстрелянные монахи, им не поверил.
Тюрьма. Они были заключены в тюрьму.
Такое бывало с русскими Царями. Со всеми Владыками такое бывало.
Что такое Владыка? Это тот, кто властвует над тобой; над миром твоим. А разве ты сам не можешь владеть миром своим?!
Они тако хорошо пели песни, когда их выгоняли на каторжные работы. Их выгоняли на гору Секирку – пилить и рубить деревья, сосны и ели, и они рубили и пилили, а пока работали, Царь пел песню, старую русскую песню, – сейчас никто слов не вспомнит, как он пел, такая старая песня была. Наши прадеды ее певали, знали. И Царица вторила ему. Царица хорошо вела втору. Они пели в терцию, отирая пот со лба, со щек руками в дырявых грубых рукавицах. А потом и рукавицы у них отняли. И Царица отморозила пальчики. Царь держал ее ручки в своих и дул на ладошки, грел дыханьем. А конвоиры злились, орали. Плевали в них. Кричали: «Давай работай!.. Что стоишь!.. Царь е…ный!» Он улыбался. Надсмотрщик, вечно навеселе, лысый, плохо бритый, в кустистой щетине, мужик по прозвищу Свиное Рыло, подскакивал и бил Царя наотмашь рукавицей – в скулу, в висок. Однажды рукавицу на землю отбросил, размахнулся и выбил кулаком Царю зуб. Царь плюнул зуб на морозную землю, улыбнулся, сплюнул кровяной сгусток и весело сказал: «Зерно белое, крепкое, прорастет, ровно к часу гибели Вавилона твоего поганого». И улыбнулся еще раз. И еще много, много раз. И Царица нежным, прозрачным, как долька лимона, глазом смотрела на него, беззубого, и гордилась им.
На каторге с ними были дети. Они их не видали – Семью разлучили. Разорвали и детей; девочек разбросали, как щенят, по баракам и землянкам на Островах, мальчишку кинули в разрушенный старый острог, потом утолкали в Распято-Голгофский храм, что возвышался на лесистой невысокой горе над морем, видный издали, что с моря, что с суши. Храм давно уж был не храм. В нем творились непотребства. Там спали, там били людей. Там в алтаре мочились и испражнялись. Там стояла вонь от сотен немытых людских тел, прижимающихся друг к дружке в тяжелом, беспробудном сне.
О, девочки. О, нежные. Вы плакали поодиночке. Вы научились не плакать. Ваши глаза высохли. Ваши белые ручки пряли метелицу, заполярную пургу. Вы молились Христу: Христос наш, родной, и Ты тоже страдал, и Ты нам заповедал страдать. Мы молимся за Твоих врагов. За наших врагов!
Девочки крестились, и солдаты наотмашь били их по сложенным для знаменья пальцам, по осеняющим рукам.
Одна девочка особенно хороша была. Солдаты поспорили, кто ее скорей изнасилует. Ей приказали нацеплять на лески отрезанные, отрубленные для острастки пальцы и кисти рук – и развешивать дикие ожерелья на покосившихся, рассохшихся и заржавелых Царских Вратах. «Как зовут тебя, краля?.. – кричали ей, а она насаживала на гвозди леску с кусками человечьего мяса и морщилась, и плакала, и крестилась, и молилась, и смеялась, сходя с ума. – Эй, как же тебя зовут?!.. Молчишь, сука?!.. Да мы ж заставим тебя говорить!..» Солдаты подбегали к ней, вынимали ножи из-за сапожных голенищ, запрокидывали ей голову, щекотали лезвием горло. Девочка молчала. Обводила солдат слезно налитыми, прозрачными глазами. Озера глаз. Моря слез. Какая плаксивая, кисейная. На розах, на лилиях спала. Поспи теперича на голышах, на валунах. На земличке чертовой поспи, сволочь. Ты, ты нашу кровушку пила тоже. Тебе – в фарфоровой чашечке ее подавали. Сливочками разбавляли. Вот и была ты кровь с молоком; а нынче?! У, сука. Острие ножа втыкалось ей под исхудалые ребрышки. А если мы твое поганое сердчишко вырежем, как у зайца?! Голубую твою, синюю Царскую кровь – пустим?!
Девочка молчала. Затравленно озиралась. Ее большие серо-зеленые глаза дрожали, и слезы выливались из них струями, потоками на впалые голодные щеки. О, русые волосенки. Почему у тебя на руке нет пальца, девчонка?! Отрубила… на работах?!.. Саморуб?!.. Отлынить хотела?!.. Знаем мы вас, Царевен. Вам бы – на перинах дрыхнуть… ножонки раскинуть бесстыдно…
Однажды ночью она проснулась и заплакала. Ей приснилось, что мальчика, ее братика, расстреляли. Его правда расстреляли тогда. Ей было виденье – ночь, двор меж бараков, пни-выворотни, белые, как кости, валуны. Мальчик лежит вниз лицом на каменных плитах, у него рана под лопаткой, в заплечье и в затылке. Они и в лицо ему тоже стреляли. Как хорошо, Стася, что ты больше никогда не увидишь его взорванного пулями, изрытого, изувеченного лица. Кровавая каша – это не лицо. Леша. Леша! Она помолится за тебя.
И она целую долгую морозную ночь, дрожа и плача, молилась за него, стоя голыми коленями на ледяных досках барака.
И было так, что Папа и Мама к ней тайком приползли. Достигли ее. Они проскребли по стене барака: это мы, мы. Она узнала шорох. Она услышала. Она выползла наружу. Ночь, стояла холодная полярная ночь. Павлиньи веера Сиянья резко, нагло ходили по черному дегтю неба. Цари, ее родители, задрожали и обняли ее. Доченька!.. Дыханье захолонуло. Они, все трое, были холодные, мерзлые, как мертвые. И они были живые. Они обливали слезами лица друг друга. Папа и Мама шептали: на вот, возьми, ты сохранишь, тебя не убьют, это тебя спасет, ты вырвешься, ты выплывешь. Если тебя будут убивать, возьми в рот, проглоти. Пусть тебя убьют – с ним внутри. И совали ей в руки холодный, мерзлый каменный катыш. Она узнала, что это – на ощупь. Засмеялась радостно. Как, Мама, неужели ты сохранила. Где же ты прятала… все это время. Отец положил руку ей на губы. Молчи. Таись. Теперь тебе одной владеть. Ты не сронишь. Не предашь. Ты передашь. У нас будут внуки. У нас должны быть внуки. Это камень Царей.
Она крепко сжала захолодавший, мокрый от бьющего снега кулак. Поднесла к лицу. Разогнула крючья пальцев. На ладони лежал глаз хрустальной синевы. Око Мира. Деточка, это великая драгоценность. Это камень из Царской короны?!.. Да. Он сиял в короне русских Царей. А еще раньше он сиял во лбу золотого Будды далеко, в чужих великих землях, на Востоке. Мы ведь восточная земля, Стася. Мы – Азийская земля. И Азия – владенья русских Царей. И ты – азиатка, хоть волосы русые твои, и мягко вьются. Зачем, зачем вы вынули изо лба Божества его Третий Глаз?! Он же… глядел им! Он видел им и провидел им! А вы…
Она плакала. Она неутешно плакала. Родители неловко, неуклюже утешали ее. Их руки огрубели, отвыкли гладить и ласкать. Не хнычь, девочка. Это не мы вынули его. Это сделали давно, столетья назад, посланники русских Царей и их верные воины. У тебя, Стася, тоже когда-нибудь будут воины.
Воины?! Это значит… палачи?!
Держи, держи крепче. Не урони. Ты не имеешь права потерять его. Этим Глазом мир глядит Богу в глаза.
Она держала крепко. Она привязала на суровую нитку. Она обмотала нитку вокруг живота, и синий холодный камень висел у нее над пупком, под обветшалой рубахой, и холодил кожу, и заставлял содрогаться девственное чрево. Она не знала, куда деваться от мороза, источаемого камнем. Она боялась его, но это Мама и Папа дали ей его, и шептали, и плакали: сохрани, это талисман из Короны, это Око Мира.
Ее убьют, а веревку сдернут у нее с живота. Вот тебе и все Око Мира.
И он укатится в снег, в сугроб. Как синий, человечий отрезанный палец.
Лех, у тебя должны быть назначены встречи.
Лех, ты должен сегодня же встретиться с людьми.
С какими людьми?
Разве у этих людей нет невидимых копыт… невидимых рожек? Разве они не высовывают сквозь невидимые зубы невидимый раздвоенный черный змеиный язычок?
Он потянулся; тело воистину болело и крутило, как с похмелья. Кулак ткнулся в телефонный аппарат на журнальном столике. Гостиница, постоялый двор, ночлежка, черт. Бездна роскоши. Цветной паркет, на потолке поганая лепнина. А люстры, а торшеры. Услужливая горничная, пока он спал, приволокла ворох свежих Армагеддонских газет, усыпала ими столик и кресла. Читай не хочу. Читать – что? Как убили еще сотню людей на Войне? Как отец изнасиловал дочь? Как вывели из куска плоти, из невидимого семени еще одного смеющегося человечка? «Антихрист родится от семени человеческого, но не от сеяния человеческого», – кто это и когда сказал? Какой-нибудь Ефрем Сирин… стой, Лех, а ты помнишь, кто был такой Ефрем Сирин?.. Сирин… Гамаюн… Птицы вещие… клювы раскрытые… песни, душу вынимающие…
Он схватил трубку и набрал номер, сто раз повторенный ему там, в Ставке, жирным Марко. Голос на другом конце провода ответил ему, как обрезал.
Так взмахивают ножом над ветхой перетертой веревкой.
– …гуляют там художники – невиданной красы!.. – вот как надо это петь… Это не такие слова!.. это все вранье… Вы, недоделки!.. вина мне еще, апельсин… Ха!.. Я пьяная?.. о, бархотка с шеи свалилась… Дюша, подними… будь ты хоть рыцарем… мурло!..
Оглядись в мрачном, странном застолье. Ты не зря сюда попал. Ты здесь и сейчас везде попадаешь не просто так. Все так задумано. Мрачная комната обита черной, коричневой, со слезной блесткой, ночной тканью – и стены, и потолок, и тяжелые, мордастые, как бегемоты, диваны и кресла. Горят настольные лампы без абажуров – голым пытошным светом. Пляшут свечи на сквозняках. А где люстра? А нету люстры. Два, три стола сдвинуты вместе – в один чудовищный огромный стол, и он накрыт, как слон попоной, тяжелой бахромчатой скатертью. На столе – на блюдах из старинных перламутровых сервизов, на больнично-тюремных простецких алюминьевых мисках – горят, пылают апельсины и мандарины, круглятся ананасы и гранаты, топырят бесстыдные ноги жареные куры. Вина – залейся. Армада бутылок. Рука сама тянется к горлышкам – ухватить, налить. Опрокинуть в глотку. Глотка пересохла от жажды. Глотка так орала на Войне. Глотка воевала, надсаживалась, напрягалась, хрипела. Глотка так давно не пела, не ворковала, не пила хорошего вина.
Гости вокруг стола сидят и стоят, шевелятся и мотаются взад-вперед – все в режущих глаз, ярких цветных одеждах. В Армагеддоне издавна так – лишь по одежке тебя встречают. А там хоть трава не расти. Табачный дым вьется к потолку. Курят. Здесь тоже курят. Везде, знаешь ли, курят. Без курева на Земле нельзя. Народ никогда курить не бросит. Эх, Кармела, где твои дерьмовые сигаретки. Видала бы ты, что здесь курят. «Мальборо»… «Данхилл». И еще чудные названья, незнакомые. Куда тебе, армейская табачница. Как надменно, изящно ручку с сигареткой ото рта вбок относят. Сами себе подмигивают; сами себе улыбаются, смеются. Сами с собой балакают. Декольте нагло открывают веселые груди, тощие хребты. Ожерелья слепят. Ну, зажмурься. Но ты не жмуришься. Ты глядишь во все глаза. Ты так давно не глядел на разодетых людей. Ты привык к мужикам в гимнастерках, в заляпанных грязью сапогах, в бронежилетах. Полюбуйся на эти лица. На лица человеческие. Лица разные – жирные и уродливые; тонкие, печально-прозрачные, молитвенные; нагло-румяные, высвеченные белыми зубами торжествующих улыбок; старые, иссеченные морщинами, как дождями. Вот, гляди, милая девушка, у платья откромсан портным весь верх, вся грудь наружу, почти обнажена; она встает на колени перед усатым, котиного вида юношей с пресыщенной толстощекой мордой; и ее лицо молча говорит: «Сжалься!..» Он небрежно треплет ее по волосам, и его пальцы-сосиски цедят: «Ну да… попозже… если ты будешь умницей…» Ты хочешь сделать шаг к усатому коту и въехать ему в морду кулаком. Ты этого не делаешь. Ты здесь с заданьем. Сюда, на вечеринку, должен явиться некто, кто тебе нужен. Ты не имеешь права его упустить, прошляпить. Лучше не гляди по сторонам. Лучше зажмурься. Ну и глупый вид будет у тебя тогда. Все зрячие, а ты зажмурился. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто за мной стоит, тот в огне горит. Кто не спрятался, я не виноват.
В темном углу, за горами бархатных кресел, худой мальчишка в белых штанах, с белыми волосами нежно и тонко играет на лютне. Бормотанье лютни, тебя заглушит иная волна. Вот она наплывает, надвигается из динамиков, расставленных по углам мрачной залы.
Лех, ты белая ворона среди гостей. Ты ведь тоже, как и тот мальчонка, в белом костюме. На кой ляд ты выбрал в тряпичной лавке именно такой, светлый. Сейчас же не лето. Сейчас зима. И ты такой суровый. Ты приехал с Войны. Но им не обязательно об этом знать. Однако все пялятся на твои шрамы. Он ощупывает свое лицо украдкой, между поднятием рюмки с анисовой водкой – о, улыбка на суровых устах, ты, Лех, можешь еще мило улыбаться даме визави, – и заталкиваньем в жадный рот апельсинной дольки. Да, тебя здорово помяли ТАМ. А здесь… для них – это игра. Инсталляция. Толстая дама с тремя подбородками, раскачиваясь, одышливо подгребает к нему и, пока он не успел опомниться, любопытствующе щупает его изрезанные шрамами щеки мягкими сарделечками: «А это не маска?.. Это вы не нарочно?..» Он стряхнул ее жирные руки, как мух. На миг ему почудилось, что на нем не белый шикарный костюм, а выгоревшая гимнастерка. О, бред. Вот она – под лацканом ихнего вшивого белоснежного пиджака. Вот – торчит грязь, пот, болото, кровь, смерть, снежный острый блеск близких гор. А вы все идите на…й. Он еще военный. Он еще в своей родной одежке. Он еще не вписался в праздничную жизнь вашего сытого Армагеддона. Еще не пообвык.
– Лех, о, Лех!
А, это его новый знакомец. Он скиталец; он одинок. Он хочет обрасти новыми приличными знакомствами, а у него не получается. На него нарываются бродяги, лупанарцы, люмпены, богема. Нищие бегут на него, как мыши на сыр. Значит, он и сам нищий. И богатым костюмом их тут не обманешь.
Вот и этот… да ведь тоже человек. Сколько их, человеков, на земле. И все не обязаны быть твоими друзьями. Ты не должен заводить в Армагеддоне друзей. Ты здесь с заданьем.
Божье заданье – жить.
Остальные… выдумка людская?!..
– Ну, отлично, Лех, что я тебя сюда затащил?! – Браво, пусть так и думает. Это ему на руку. – Классно, я позвонил тебе в гостиницу… и позвал сюда, да?.. Ты хоть развеешься немного… костюмчик у тебя что надо!.. Супер!.. Пей!.. и танцуй… видишь, сколько бодливых козочек… приглашай… а то совсем одуреешь в одиночестве от своих высокогорных снов… Снится Война, Лех, да?.. – Какое он право имеет ТАК спрашивать его про Войну. Это все равно что похлопать святого на иконе во храме по плечу. Или прилепить свечку к его воздетой иконной ладони. – Еще бы не снится!.. Так тебя потрепало!.. Ты ешь и пей!.. Веселись!.. Ты уже ел что-нибудь?.. Пил?.. Здесь хозяйка такая – блеск!.. Хитрюга!.. Валюты у нее завал, у нее какие-то парижские родичи, и сама она знаменитость, но, ходят про нее слушки, знаешь, – чтоб попусту на вино валюту не тратить, она готовит сама отпадное вино – домашнее – и втихаря его наливает в фирменные бутылки!.. И не отличишь!.. Ты ж не дегустатор из Массандры, верно?..
Как трещит парнишка. Как трещотка. Как они много говорят здесь, в Армагеддоне.
– А вдруг я дегустатор?.. Откуда ты знаешь?..
– Да-да, конечно. Я и забыл. Ты дегустировал там мазут и ржавчину на дулах автоматов. Съешь лучше галаретку! Кровь заиграет.
– А Стив здесь?..
– Здесь. Я его сам привел. Вот он.
Лех вскинул лицо. Увидел. Вон он, слепой в черных очках, сидит за роялем. Перебирает клавиши. Он слепой. Он не видит лица Леха. А Лех так пристально глядит на него. Стив, солдат Зимней Войны. Там, далеко, в горах, они были рядом. Они не знали друг друга. Они зажмуривали глаза от ужаса в одних сраженьях. Только Лех остался зрячим. А этот ослеп. Он ни за что не скажет ему свое настоящее имя. Он его теперь не скажет никому.
Музыка лилась из-под пальцев слепого пианиста размеренно, раздумчиво, торжественно, будто билось большое, любящее сердце. Ему было плевать на людей. Он обнимал музыку, и музыка любила его. Его лицо, его рот, его черные очки были отрешенны и недвижны. Вокруг него орали, чокались, хихикали, мурлыкали, – он играл. Музыка была превыше всего на свете. Превыше взрывов и воронок. Превыше смерти самой.
– Арк, что он играет?..
– Лех, ты такой тупой, да?.. Он импровизирует. Ну, сочиняет на ходу. А потом это все забывает. Божественные мелодии…
Миг, другой, третий они оба стояли молча, слушая импровизацию человека в черных очках.